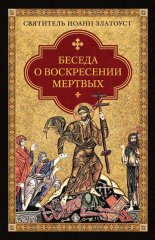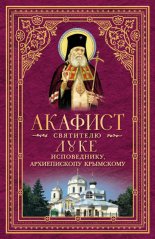Простые смертные Митчелл Дэвид

– Давай-давай, юная леди, доктор тебя сейчас посмотрит. Шевелись. Новая сборщица, да? Ну, я так и думала. – Она впихнула меня в тесный кабинет, где пахло картошкой. Там был письменный стол, пишущая машинка, телефон, полки с папками, постер с надписью «Великолепная Родезия» и множество фотографий дикой природы; за окном виднелся двор и разобранный трактор. Мистеру Харти было, пожалуй, за шестьдесят; лицо у него было спокойное, почти флегматичное, а из носа и из ушей торчали клочья волос. Не обращая на меня внимания, он сказал женщине:
– Билл Дин, похоже, только что хорошенько нюхнул. И ему захотелось обсудить «детали развозки», представляешь?
– Дай-ка подумать, – сказала женщина. – У него там все шоферы какой-то «бубонной чумой» заболели, так что завтра нам, пожалуй, лучше отвезти всю клубнику в Кентербери.
– Да-а, пожалуй. А знаешь, что он еще сказал? «Хорошо бы вам, землевладельцам, и всем нам, остальным, тоже помочь». Землевладельцы! Это банк землей владеет, а земля владеет тобой. Вот что такое быть «землевладельцем». И, между прочим, это он, а не я возит свою семью отдыхать на Сейшелы или куда-то там еще… – Мистер Харти снова раскурил погасшую трубку и мрачно посмотрел в окно. – А это еще что такое?
Я проследила за его взглядом, увидела за окном все тот же разобранный ржавый трактор и наконец поняла, что он имеет в виду меня.
– Я новая сборщица.
– Новая сборщица, вот как? Не уверен, что нам нужны еще сборщики.
– Мы же с вами сегодня утром говорили по телефону, мистер Харти! Вы сказали, что нужны.
– Утром! Так это когда было! Чего об этом вспоминать?
– Но… – Господи, думала я, если я не получу здесь работу, что же мне тогда делать?
Пожилая женщина, рывшаяся в шкафу с папками, оглянулась на нас через плечо и сказала только одно слово:
– Гэбриел.
– Но ведь мы уже взяли эту… Холли Бенсон-Хеджес. Она сегодня утром нам звонила и едет сюда.
– Это я вам звонила, – сказала я, – только Холли Ротманз, а не «Бенсон-Хеджес», и это я… – Да ладно тебе, он наверняка просто придуривается. У него такое лицо, что никогда и не поймешь, шутит он или нет. – В общем, Холли – это я.
– Ага, значит, это ты была? – Трубка, зажатая в зубах мистера Харти, издала убийственный треск. – Что ж, в таком случае тебе повезло. На работу завтра ровно в шесть. Не две минуты седьмого. Учти, проспать здесь никто права не имеет. У нас здесь не лагерь отдыха. Ну все, теперь иди. Мне еще надо много кому позвонить.
– По воскресеньям у нас почти пусто, – рассказывала мне миссис Харти, пока мы с ней шли через двор к сараю. Она вообще оказалась куда более воспитанной и обходительной, чем ее муж. Интересно, подумала я, что их когда-то соединило? – Большинство наших сборщиков – из Кента, так что они уезжают по воскресеньям домой, чтобы помыться и переночевать по-человечески. Ну а студенты – те на пляж в Лейздаун с утра отправляются и к вечеру должны вернуться, если только их полиция по дороге не сцапает. Значит, так: душ вон там, сортир чуть дальше, а это вот прачечная. Ты сегодня утром вроде говорила, откуда ты приехала-то?
– Ой, да я… – В эту минуту к нам подлетела Шеба и от восторга начала нарезать круги, что дало мне возможность получше сформулировать свою легенду. – Из Саутенда. Я только в прошлом месяце сдала экзамены на аттестат «О», а родители все время на работе… И потом, мне хотелось скопить немного денег. Подруга одной моей подруги здесь пару лет назад работала, вот папа мне и разрешил; сказал, ладно, раз тебе уже шестнадцать. Ну, я и…
– Ну, ты и приехала. А школе ты что, sayonara[25] сказать решила?
Шеба вдруг метнулась за груду старых шин и стала яростно что-то там вынюхивать.
– На аттестат «А» ты экзамены-то сдавать собираешься? А, Холли?
– Да, конечно, собираюсь! Хотя на особо хорошие результаты что-то не рассчитываю.
Похоже, миссис Харти мои ответы вполне удовлетворили, да она и не собиралась особенно любопытничать. У распахнутых настежь дверей кирпичного сарая или амбара она остановилась и сказала:
– В передней части у нас в основном парни спят. – Там выстроились рядами десятка два металлических кроватей, как в больничной палате, но стены были все же амбарные, пол каменный, даже окна прорублены не были. Должно быть, на лице у меня отразилось то, что я подумала, представив себе, каково это – спать среди целой орды храпящих, пукающих, воняющих потом и приставучих парней, потому что миссис Харти сказала: – Не волнуйся, мы этой весной тут перегородки поставили. – И она указала на дальний конец амбара. – Надо же было обеспечить дамам хоть какое-то личное пространство. – Примерно треть сарая была отгорожена стеной более чем в два человеческих роста из чего-то типа клееной фанеры, и в стене имелся дверной проем, занавешенный старой простыней. Над ним кто-то написал мелом «Гарем», а еще кто-то пририсовал к этому слову стрелку, ведущую ко второй надписи: «Размер не имеет значения, Гэри, так что продолжай мечтать». За простыней царил полумрак, и это отгороженное пространство было очень похоже на примерочную в магазине одежды: по обе стороны узенького прохода было по три таких же «двери», и каждая вела в клетушку с двумя кроватями и голой электрической лампочкой, свисавшей с потолочной балки. Видел бы это мой папа! Заглянув сюда, он бы наверняка презрительно поморщился и стал бормотать что-то насчет несоблюдения законов об охране здоровья и безопасности труда, хотя, на мой взгляд, здесь было вполне тепло, сухо и достаточно безопасно. Кроме того, я заметила в стене амбара еще одну дверь, запертую изнутри на засов, так что в случае пожара легко можно было успеть выскочить наружу. Единственное «но»: все кровати, похоже, были уже заняты, и на них лежали спальные мешки, рюкзаки и прочие манатки. Однако, добравшись до последней клетушки, кстати, единственной, где горел свет, миссис Харти постучала по дверной раме и сказала:
– Тук-тук-тук, Гвин, ты дома?
– Это вы, миссис Харти? – откликнулся кто-то изнутри.
– Я тут тебе соседку привела.
Мы вошли. Внутри, скрестив по-турецки ноги в джинсах, сидела на кровати та самая улыбчивая девица из Уэльса и что-то писала – то ли дневник, то ли еще что. От кружки, стоявшей на полу, поднимался пар, и слегка дымилась сигарета, ловко пристроенная на горлышко бутылки с водой. Гвин посмотрела на меня и гостеприимным жестом указала на соседнюю кровать: мол, это все твое.
– Добро пожаловать в мою скромную обитель. Которая отныне станет нашей скромной обителью.
– Ну что ж, девочки, на этом я вас и оставлю, – сказала миссис Харти и ушла, а Гвин снова уткнулась в свой дневник. Ну и прекрасно, черт побери. И слава богу, что она не вздумала сразу же пытаться меня разговорить! Просто так болтать ни о чем сейчас совершенно не хотелось. Негромко шуршала шариковая ручка фирмы «Байро». Возможно, сейчас она писала как раз обо мне и о моем появлении на ферме; писала почти наверняка на уэльском, чтобы я не смогла прочитать. Ну, раз она не собирается со мной разговаривать, так и я первой разговор заводить не стану. Я швырнула рюкзак на кровать и прилегла рядом с ним, стараясь не обращать внимания на звучавший у меня в ушах насмешливый голос Стеллы Йирвуд, рассуждавшей о том, что невероятное стремление Холли Сайкс к свободе и самостоятельности завершилось, естественно, тем, что она оказалась в какой-то вонючей крысиной норе… Ну и пусть. Все равно идти мне некуда, да и сил у меня совсем не осталось. Ноги, как ни странно, выдержали, хотя у меня было ощущение, словно их обработали электроинструментами фирмы «Блэк энд Декер». Но самое главное – у меня не было спального мешка.
Я, как истинный вратарь, ловким и сильным ударом отбила мяч от своих ворот и – чпок! – попала прямо в ворота Гэри, выступавшего за команду студентов; на зрителей это произвело должное впечатление, и они радостно завопили. Брендан называл этот мой удар «особым ударом Питера Шилтона» и вечно ныл, что я левша и это дает мне безусловное преимущество. Пять – ноль в мою пользу. Это была уже моя пятая победа подряд, а играли мы до победного конца.
– Она же, черт побери, меня в пух и прах разбила! Что тут скажешь? – Лицо у Гэри пылало, а речь после нескольких банок пива «Хайнекен» была несколько невнятной. – Холли, ты просто ундервуд, то есть вундеркинд! Самый что ни на есть bona fide[26] вундеркинд настольного футбола! Такому и проиграть не стыдно… в общем. – И Гэри театрально мне поклонился, а потом потянулся через весь стол со своей банкой «Хайнекена», так что пришлось с ним чокнуться.
– Где это ты научилась так здорово играть? – спросила одна девица, имя которой было очень легко запомнить: ее звали Дебби, но не от «дебила», а от «дерби» – это ее родители так назвали. Я только плечами пожала и сказала, что мне очень часто доводилось играть в доме у одних наших родственников. И тут же вспомнила, как Брендан говорил в таких случаях: «Просто поверить не могу, что меня обыграла какая-то девчонка!»; мне только теперь стало ясно, что он говорил так, чтобы одержанная победа стала для меня еще слаще.
Но пока что с меня настольного футбола было более чем достаточно, и я вышла на улицу покурить. «Гостиной» нам служила старая конюшня, где все еще немного пахло конским навозом, но было, пожалуй, даже веселее, чем в «Капитане Марло» воскресным вечером. Человек двадцать сборщиков устроились за столами, лениво болтая и покуривая; кто-то закусывал и выпивал, кто-то флиртовал, а кто-то играл в карты; телевизора там не было, но кто-то притащил старенький портативный магнитофон и записи песен индейцев сиу и ирландских баньши. Бескрайние поля фермы «Черный вяз» полого спускались к морю, где точками светились огоньки, отмечая линию побережья от Фавершема до Уитстебла и даже дальше. Невозможно было поверить, что это тот же самый мир, где людей зверски убивают или бьют по лицу, где матери пинками выгоняют на улицу собственных дочерей.
Я глянула на часы: девять вечера. Мама наверняка уже велела Жако и Шэрон погасить свет и сказала им «спокойной ночи», а сама со стаканчиком вина устроилась в гостиной, чтобы посмотреть по телику очередную серию «Бержерака». Впрочем, сегодня она, возможно, спустилась вниз, чтобы выкурить сигаретку и предаться горестным рассуждениям о судьбе «этой сучонки», то есть меня: «Я просто не представляю, в какой момент у нас с ней все пошло наперекосяк. Господи, помоги мне в этом разобраться, ибо сама я понять не в силах!» А папа в это время уверяет слесаря Ниппера, Пи Джея и старого мистера Шарки, что «потом все наверняка разъяснится и встанет на свои места» – в общем, изрекает всякие «мудрые сентенции», которые ровным счетом ничего не значат.
Я вытащила из нагрудного кармана пачку «Ротманз» – восемь сигарет я уже выкурила, двенадцать осталось, – но закурить не успела: рядом возник Гэри в своей дурацкой майке с надписью «Реальность – это иллюзия, вызванная недостаточным потреблением алкоголя» – и угостил меня сигаретой «Силк Кат».
– Это в счет моего проигрыша, Холли, – сказал он. Я поблагодарила, а он прибавил: – Нет, тут уж ничего не скажешь: ты меня обыграла честно и по всем статьям. – Глаза у него при этом так и скользили по моей груди; точно так же когда-то вел себя и Винни.
Гэри уже собирался еще что-то мне сказать, но тут его окликнул какой-то приятель, и он, быстро шепнув «Еще увидимся», ушел. Ну, во-первых, еще большой вопрос, захочу ли я с тобой «увидеться»; а во-вторых, хватит с меня историй с парнями.
Три четверти сборщиков составляли студенты колледжей или университета, а также те, кто собирался в сентябре туда поступать; я была там самой молодой, моложе всех года на два, а то и больше, даже если считать, что мне уже шестнадцать, а не пятнадцать, как на самом деле. Я старалась вести себя так, чтобы не выглядеть застенчивой букой, потому что это мгновенно выдало бы мой истинный возраст, но все равно выделялась: никто из этих ребят не собирался становиться слесарем, парикмахером или сборщиком металлолома; все они хотели стать программистами, учителями, юристами, и это было очень даже заметно. Хотя бы по тому, как они говорили. Они всегда выражались как-то очень точно, словно обладали некой властью над словами, и слова им подчинялись; между прочим, примерно так выражал свои мысли и мой младший братишка Жако; а вот в нашем классе практически никто из ребят так говорить не умел. Кроме, пожалуй, Эда Брубека. Но он такой был единственным в двух параллельных выпускных классах. Я невольно посмотрела в сторону Гэри, и он, словно почувствовав мой взгляд, доброжелательно мне улыбнулся – типа «как-чудесно-что-мы-с-тобой-здесь-встретились». Я, естественно, тут же отвела глаза, пока он что-нибудь совсем уж не то не подумал.
Те немногочисленные сборщики, что не были студентами и не собирались поступать в университет, держались вроде как особняком. Например, Гвин. Она играла в шашки с Марион и Линдой, а на меня совершенно не обращала внимания, если не считать брошенного с фальшивой улыбкой «привет!». Зато смеялась Гвин довольно часто. Марион была, по-моему, немного глуповата, и ее сестра Линда вечно о ней заботилась, пасла, прямо как мамаша; даже фразы за нее договаривала. Они, похоже, каждое лето все каникулы проводили здесь, собирая разные фрукты. Еще там была супружеская пара, Стюарт и Джина; у них имелась собственная палатка, которую они поставили в сторонке у подножия холма. Обоим было под тридцать, и на самом деле они были фолк-сингерами и вечно рыскали в поисках работы в небольших городках, где имелся свой рынок. Когда я получила первую зарплату, Джина предложила мне и Дебби вместе с ней ездить за жратвой в Истчёрч, в «Спар». Стюарт и Джина, как сообщила мне Дебби, вообще служили как бы посредниками между остальными сборщиками и мистером Харти. И, наконец, там был один парнишка примерно моих лет по имени Алан Уолл, который обычно ночевал в крошечном «Караване», припаркованном сбоку от фермерского дома. Я еще в самый первый раз, когда вышла, чтобы осмотреться, видела, как он развешивал на просушку выстиранное белье. Вряд ли он был старше меня больше чем на год, максимум на два, но его тощее тело было на редкость жилистым и крепким, и он так сильно загорел, что кожа у него приобрела оттенок крепкого чая. Дебби сказала, что этот Алан – то ли цыган, то ли просто бродяга; «любитель путешествий», как теперь принято говорить; и мистер Харти каждый год нанимает кого-нибудь из его родичей, но она не знала, то ли это у них традиция такая, то ли эти Уоллы долг мистеру Харти выплачивают, а может, он и вовсе берет их на работу из суеверия.
Возвращаясь из туалета, я заметила, что в небольшом овражке между фермерским домом и нашим сараем кто-то меня поджидает. Потом услышала, как чиркнули спичкой, и из темноты вынырнул Гэри.
– Вот хорошо, что я тебя здесь встретил, – сказал он. – Хочешь еще покурить?
Да, Гэри был, пожалуй, недурен собой, но я заметила, что он как минимум поддатый, да и познакомились мы всего пару часов назад.
– Да нет, спасибо. Я, пожалуй, лучше вернусь в гостиную.
– Ну что ты, Холл, давай вместе покурим! Все равно каждый от чего-нибудь да умрет.
Он уже совал мне прямо в лицо пачку «Силк Кат», а из пачки торчала сигарета – это чтобы я ее губами взяла. Теперь отказаться было уже почти невозможно, иначе, пожалуй, вышла бы шумная ссора, так что я взяла сигарету, только не губами, а пальцами, и даже «спасибо» сказала.
– Прикуривай… Расскажи-ка о себе. Твой бойфренд в Саутенде, должно быть, до чертиков по тебе скучает.
И я, вспомнив о Винни, невольно выдохнула: «Господи, нет!» – и тут же подумала: «Ты все-таки полная дура, Сайкс!» А потому поспешно прибавила: «Ну, наверное, да…»
– Рад, что мы это выяснили. – Освещенное огоньком сигареты, лицо Гэри на этот раз показалось мне отвратительным; и улыбочка у него была какая-то скотская. – Давай погуляем немного, полюбуемся звездами, и ты мне еще расскажешь об этом мистере «Господи-нет-наверное-да».
Я что-то совсем не горела желанием «гулять» с Гэри; он наверняка стал бы запускать свои грязные лапы мне в лифчик или еще куда-нибудь, но я никак не могла сообразить, как бы послать его ко всем чертям и при этом не уязвить его гордость.
– Девичья застенчивость – это, конечно, круто, – вещал Гэри, – но она порой здорово мешает жить. Давай прогуляемся – у меня есть что выпить и что покурить… и все остальное, что тебе может понадобиться.
Господи, если бы парни хотя бы на одну ночь могли стать девушками, которых преследуют такие вот распаленные самцы! Думаю, тогда такие дешевые приемчики, какими сейчас Гэри пытался меня соблазнить, попросту исчезли бы из их обихода.
– Послушай, Гэри, сейчас неподходящее время. – Я встала и попыталась его обойти, чтобы вернуться во двор.
– Ты же с меня глаз не сводила! – Его руки преградили мне путь, словно автомобильный шлагбаум, а пальцы уже скользили по моему животу. От него исходил запах крема после бритья и пива, а еще от него прямо-таки разило сексуальной озабоченностью. – Ты же весь вечер на меня пялилась! И вот теперь у тебя есть все возможности…
Если я пошлю его куда подальше, он, пожалуй, постарается настроить всех сборщиков против меня. Если я взорвусь, как атомная бомба, и громко позову на помощь, то он все повернет в пользу своей версии, что «не следует брать на работу всяких малолетних истеричек», и снова начнет выяснять, сколько мне на самом деле лет и действительно ли мои родители знают, где я нахожусь.
– Сперва научись за девушками ухаживать как следует, Осьминожек, – раздался рядом с нами знакомый голос с уэльским акцентом, и мы тут же отскочили друг от друга чуть ли не на милю. Разумеется, это была Гвин. – Твои попытки соблазнить эту девочку больше, по-моему, похожи на разбой с применением насилия.
– Мы же просто… мы… просто разговаривали! – Гэри уже вскочил, явно намереваясь ретироваться в сторону «гостиной». – Только и всего.
– Он несколько надоедлив, но в целом безвреден. – Гвин посмотрела ему вслед. – Как язвочки во рту. На ферме он делает подобные предложения каждому существу женского пола за исключением Шебы.
Мне почему-то показалось, что быть спасенной – это унизительно, и я проворчала:
– Да ладно, я бы и сама с ним справилась.
– Ни капли в этом не сомневаюсь! – воскликнула Гвин с чуть большей горячностью, чем требовалось.
Похоже, я ее разозлила?
– Я прекрасно могу сама о себе позаботиться!
– До чего же ты мне напоминаешь… меня, Холли!
Ну, и как на это реагировать? Из «гостиной» доносилось «Up the Junction» в исполнении Squeeze.
– Смотри-ка, наш Осьминожек со страху даже сигареты свои обронил. – Гвин подняла пачку и кинула мне; я поймала. – Хочешь – верни ему. А можешь и себе оставить – в качестве компенсации за моральный ущерб. Теперь твой ход.
Я тут же представила себе, какова будет версия случившегося в изложении Гэри.
– Он же теперь меня возненавидит!
– Да он сам до смерти боится, что ты всем расскажешь, в какой жопе он оказался. Когда такому типу, как этот болтун, дают от ворот поворот, он сразу начинает чувствовать себя жалким карликом ростом в четыре фута, у которого пенис два дюйма максимум. А вообще-то, я пришла всего лишь для того, чтобы сказать, что выпросила для тебя у миссис Харти спальный мешок. Взаймы. Одному богу известно, скольким людям до этого довелось в нем спать, но мешок, безусловно, был выстиран, так что, по крайней мере, не липнет, хотя и весь в пятнах. А то у нас в амбаре по ночам довольно-таки холодно и сыро. Короче, я ложусь, так что если усну до твоего прихода, то приятных тебе сновидений. Гудок дают в половине шестого.
2 июля
Месячные у меня запаздывают всего на несколько дней, так что вряд ли я беременна, но почему же тогда у меня вырос живот? И откуда взялась эта третья сиська, покрытая сетью голубых вен, которая теперь болтается чуть ниже двух других, нормальных? Мама, естественно, смотрит на все это косо и не желает поверить, что я понятия не имею, кто отец этого ребенка: «Но ведь кто-то же засадил тебе его в живот! И мы обе прекрасно понимаем, что ты у нас отнюдь не Дева Мария». Но я действительно не знаю. Конечно, главный подозреваемый – Винни; но разве я могу быть абсолютно уверена, что у нас с Эдом Брубеком ничего не было там, в церкви? Или с Гэри на ферме «Черный вяз»? Или с этим цыганом Аланом Уоллом? Когда с твоей памятью уже однажды проделали какие-то обезьяньи трюки, разве можно быть полностью в ней уверенной? Та старая корова из «Смоки Джо» гневно смотрит на меня поверх своей «Financial Times» и требует: «А ты у ребенка спроси! Он-то должен знать».
И все вокруг начинают петь: Спроси у ребенка! Спроси у ребенка! И я пытаюсь сказать, что не могу этого сделать, он же еще не родился, но такое ощущение, будто рот у меня наглухо зашит. А живот мой тем временем все растет и становится похож на огромный кожаный шатер, и сама я болтаюсь где-то сбоку, накрепко привязанная к этому шатру. И ребенок внутри этого «шатра» светится красным – так светятся промежутки между стиснутыми пальцами, когда поднесешь руку к зажженной лампе; и этот ребенок такой же большой, как взрослый человек, и совсем голый. И я его боюсь.
«Ну, спроси же у него!» – шипит мама.
И я спрашиваю: «Скажи, кто твой папа?»
Мы ждем. И он, повернув голову в мою сторону, начинает говорить, хотя движения его губ почти не совпадают с произносимыми звуками, сквозь которые слышно какое-то странное потрескивание, словно голос доносится из какого-то страшного, раскаленного места: Когда Сибелиус будет превращен в груду обломков, то в три часа в День Звезды Риги ты поймешь, что я рядом…
…и жуткий сон как-то вдруг сразу кончился. И я испытала невероятное облегчение. Знакомый спальный мешок, темнота, пахнущая мясной похлебкой, и никакой беременности, и голос с уэльским акцентом, шепчет: «Все хорошо, Холли, тебе просто приснился страшный сон, детка».
Наша фанерная перегородка, сарай на ферме и эта девушка – как ее зовут? Ах да, Гвин. Я прошептала:
– Прости, я, кажется, тебя разбудила?
– Ничего, у меня легкий сон. Но тебе, похоже, снилось что-то страшное? Во всяком случае, звучало очень неприятно.
– Да-а… Впрочем, пожалуй, сон был просто глупый. А который час?
Ее наручные часы вспыхнули золотистым светом.
– Двадцать пять пятого.
Значит, большая часть ночи прошла. Стоит ли пытаться снова уснуть?
Густой, громкий, как рев зверей в зоопарке, храп спящих парней доносился, казалось, отовсюду, становясь то громче, то тише.
Меня вдруг охватил приступ тоски по дому, по моей комнате, но я тут же заставила свою тоску заткнуться. Помни о пощечине!
– А знаешь, Холли, – прошелестел шепот Гвин в черных простынях тьмы, – там ведь будет гораздо труднее, чем ты думаешь.
Какие странные слова, в какое странное время они сказаны!
– Если все они могут это делать, – сказала я, имея в виду студентов, – то и я, черт побери, наверняка смогу!
– Я не сбор клубники имею в виду. А твою историю с бегством из дома.
Быстро все отрицай!
– А с чего ты взяла, что я сбежала из дома?
Но Гвин на мои слова даже внимания не обратила – так вратарь не обращает внимания на мяч, пролетевший в миле от его ворот.
– Если только ты на сто процентов – на сто процентов, понимаешь? – уверена, что возвращение назад сделает тебя… – Она, похоже, вздохнула, – …несчастной, тогда возвращаться назад не надо. Но если дела обстоят иначе, я тебе советую: возвращайся. Лето кончится, и деньги твои тоже подойдут к концу, а мистер Ричард Гир не примчится к тебе на своем «Харли-Дэвидсон» и не предложит: «Запрыгивай, детка!», и ты будешь сражаться за местечко у мусорных баков на задах «Макдоналдса» после его закрытия, и ты действительно, что бы там Гэбриел Харти ни говорил, будешь мечтать об этом сарае на ферме «Черный вяз», как о пятизвездном отеле. В общем, ты как бы составляешь список, озаглавленный: «Всё то, что я никогда в жизни не пропущу», и сам этот список остается прежним, но вот его название вскоре будет совсем другим: «Всё то, что мне пришлось сделать, чтобы выпутаться».
Я очень старалась, чтобы мой голос звучал спокойно:
– Я ниоткуда не сбегала.
– Тогда почему назвалась не своим именем?
– Меня действительно зовут Холли Ротманз.
– А меня Гвин Аквафреш. Нравится тебе вкус зубной пасты?
– Аквафреш – это не фамилия. А Ротманз – фамилия.
– В общем, верно, но я готова спорить на пачку «Бенсон энд Хеджес», что это вовсе не твоя фамилия. Не пойми меня неправильно, назваться не своим именем – ход очень даже неглупый. Я, например, в первые месяцы своей «вольной жизни» то и дело меняла фамилию и имя. Но я хочу, чтобы ты поняла: если положить на весы все те неприятности, что ждут тебя впереди, и те неприятности, из-за которых ты сбежала из дома, то первые перевесят вторые раз в двадцать.
Просто ужасно, что она так легко прочла все мои мысли, словно видит меня насквозь!
– Ладно, сейчас еще рано размышлять о дне Страшного суда, – проворчала я. – Спокойной ночи!
Снаружи как раз запела первая утренняя птица.
После того как я стаканом воды смыла вкус трех «легкоусвояемых и питательных» крекеров с арахисовым маслом, мы вышли на большое южное поле, где миссис Харти и ее муж уже устанавливали некое подобие временного навеса. Было еще холодно, на траве лежала роса, но день явно грозил стать таким же липким и потным, как и вчерашний. Я не испытывала к Гвин ни ненависти, ни чего-то подобного, но у меня было ощущение, словно я предстала перед ней совершенно голая, и я, не решаясь встретиться с ней глазами, старалась держаться поближе к Марион и Линде. Гвин, похоже, обо всем догадалась и сама выбрала дальний ряд рядом со Стюартом, Джиной и Аланом Уоллом, так что теперь мы с ней не смогли бы разговаривать, даже если б захотели. Гэри вел себя так, словно я внезапно превратилась в невидимку; впрочем, он и работал на том краю поля, где собрались все студенты. И это меня совершенно устраивало.
Собирать клубнику – занятие, конечно, весьма нудное и утомительное, зато здорово успокаивает. Это вам не суета в баре. А еще очень приятно было провести день на свежем воздухе, в мирной обстановке – птички, овечки, рев трактора вдали, веселая болтовня студентов, хотя она-то через некоторое время почти смолкла. Каждому из нас выдали по картонному ящику, в который помещалось двадцать пять плетеных корзиночек; нужно было наполнить каждую корзинку зрелыми или почти зрелыми ягодами. Отщипываешь ягоду от стебля ногтем большого пальца, кладешь ее в корзинку, и так далее. Сперва я собирала клубнику, присев на корточки, но вскоре у меня смертельно устали и заныли колени и икроножные мышцы, так что пришлось встать коленями на солому в междурядье и так, на коленях, переползать дальше, и я очень пожалела, что не взяла с собой какие-нибудь более свободные штаны или шорты. Если клубничина оказывалась перезрелой настолько, что, пачкая пальцы, превращалась в кашицу, я отправляла ее в рот, но мне казалось, что было бы глупо слопать просто хорошую зрелую ягоду – все равно что съесть часть собственного заработка. Когда все двадцать пять корзиночек были заполнены, мы относили свой ящик под навес, где миссис Харти все это взвешивала и, если вес был точный или чуть больше, выдавала сборщику пластмассовый жетон, а если нет, то приходилось возвратиться и поднабрать еще немного, чтобы веса хватило. Линда сказала, что в три часа все двинут обратно на ферму, и в конторе нам обменяют жетоны на деньги, и посоветовала бережно хранить накопившиеся жетоны, иначе без жетонов и денег никаких не получишь.
С самого начала стало ясно, кто привык к работе в поле, а кто нет: Стюарт и Джина продвигались вдоль своего ряда в два раза быстрее всех остальных, а Алан Уолл – даже еще быстрей, чем они. А вот многие студенты постоянно отвлекались, то и дело бегали пописать, так что я оказалась далеко не самой медлительной. Солнце поднималось все выше и пригревало все сильней, и теперь я уже была рада, что стащила у Эда Брубека его бейсболку – я надела ее козырьком назад, и она хорошо защищала мне шею от палящих солнечных лучей. Через час я вроде как включила автопилот. Корзинки наполнялись словно сами собой – ягодка за ягодкой, ягодка за ягодкой; и заработок мой все рос да рос: два пенса, пять, десять… За работой я все время думала о том, что сказала мне ночью Гвин. Похоже, она все это познала на собственном горьком опыте. А еще я представляла себе, как Жако и Шэрон сейчас садятся завтракать, и рядом с ними стоит мой пустой стул, словно я умерла или что-нибудь такое. Спорить готова – мама по-прежнему твердит: «Даже говорить о ней не желаю, об этой юной мамзель!» Она, когда рассердится или просто заведется, то сразу начинает говорить как самая настоящая ирландка. Я думала о том, что быть ребенком – все равно что быть шариком в пинболе, когда тобой стреляют через центральную линию, не давая тебе возможности отклониться ни влево, ни вправо, и ты от себя совершенно не зависишь. Но как только ты возьмешь нужную высоту, то есть тебе исполнится шестнадцать, семнадцать или даже восемнадцать лет, перед тобой сразу открывается тысяча разных путей, и ты сама можешь выбрать, по какому из них пойти, – и одни пути просто удивительные, а другие так себе, самые обычные. Достаточно лишь слегка изменить скорость и направление, и это полностью именит все твое будущее; отклонишься на какую-то долю дюйма вправо, и шар откатится к партнеру, пролетев между твоими неуклюжими «ластами», так что не отвлекайся, иначе потеряешь очередные десять пенсов. Но возьмешь чуть левее, и шар окажется в игровой зоне – удар, еще удар, яростная атака – и вот она, славная победа с высоким счетом. Моя главная проблема в том, что я сама не знаю, чего хочу, думала я. К тому же у меня совсем мало денег; впрочем, на сегодня хватит, чтобы хоть еды себе прикупить. Вплоть до позавчерашнего дня единственное, что мне было нужно, – это Винни, но больше я такой ошибки ни за что не сделаю. И, словно сверкающий серебристый шар пинбола, откуда-то прилетела мысль: «А ведь я, черт побери, совершенно не представляю себе, ни куда я направляюсь, ни что со мной будет дальше».
В половине девятого объявили перерыв; мы выпили под навесом сладкого чая с молоком, который разливала женщина с невероятно трескучим кентским акцентом, похожим на хруст ломающейся земляной корки. Предполагалось, что у каждого имеется собственная кружка, и я приспособила старую банку из-под мармелада, которую выудила из кухонного помойного ведра; кое-кто, правда, удивленно поднял брови, но мне было наплевать, зато у моего чая был привкус апельсина. Сигареты «Бенсон энд Хеджес», забытые вечером перепуганным Гэри, я переложила в свою коробку из-под «Ротманз» и с удовольствием выкурила парочку; они оказались немного покрепче, чем «Ротманз». А Линда угостила меня сливочным печеньем, и Марион, одобрительно глядя на меня, сказала своим ровным, чуть глуховатым голосом: «Когда фрукты собираешь, всегда есть хочется», и я ответила: «Да, это верно», и Марион была просто счастлива, и мне вдруг захотелось, чтобы жизнь у нее оказалась более легкой, чем это ей явно светит. Потом я подошла к Гвин, которая сидела рядом со Стюартом и Джиной, и предложила ей сигарету, и она сказала: «Давай, я не прочь, спасибо», и с этого момента мы с ней стали друзьями. Вот так просто. Голубое небо, свежий воздух, ноющая спина – зато я уже стала на три фунта богаче, чем в ту минуту, когда сорвала свою первую клубничину. Без десяти девять мы снова начали сбор ягод. А в школе сейчас наша классная мисс Суонн как раз взяла журнал и громко выкликнула мое имя, но ей никто не ответил. «А ее нет в классе, мисс Суонн», – сказал кто-то из учеников, и в эту минуту Стелла Йирвуд наверняка должна была вспотеть от страха, если у нее есть хоть какие-то мозги, а они у нее точно есть. Если она успела похвастаться, что увела у меня парня, народ сразу догадается, почему меня нет в школе, а раньше или позже об этом узнают и учителя, и тогда Стеллу вызовут в кабинет к мистеру Никсону, куда, возможно, пригласят и кого-нибудь из полиции. Если же насчет Винни она держала язык за зубами, то будет вести себя совершенно спокойно, даже чуть высокомерно, но в душе, конечно, запаникует. Как и Винни. Секс с неоперившимися птенчиками – это, конечно, замечательно, но, по-моему, только до тех пор, пока никто ничего не знает и все спокойно; но теперь все очень быстро переменится, особенно если я останусь на ферме «Черный вяз» еще на пару дней. Я вдруг превратилась в несовершеннолетнюю школьницу, которую некий Винсент Костелло в течение четырех недель соблазнял с помощью подарков и алкоголя, а потом она исчезла без следа. И теперь этот Винсент Костелло двадцати четырех лет, продавец автомобилей с Пикок-стрит в Грейвзенде, стал главным подозреваемым. Я, вообще-то, по натуре не злая, и мне совсем не хотелось, чтобы Жако, или папа, или Шэрон из-за меня лишились сна, особенно Жако; а все-таки испортить жизнь Винни и Стелле, хоть чуть-чуть, было очень и очень соблазнительно…
Когда я отнесла очередной полный ящик к миссис Харти под навес, там уже все толпились вокруг радиоприемника, и у всех лица были какими-то невероятно серьезными – а миссис Харти и та женщина, что поила нас чаем, и вовсе выглядели очень напуганными, – и на какой-то ужасный миг у меня мелькнула мысль, что по радио уже объявили о моем исчезновении. Так что я почти с облегчением выслушала сбивчивый рассказ Дерби-Дебби о том, что неподалеку были обнаружены тела троих зверски убитых людей. То есть убийство – это, конечно, всегда ужасно, но в новостях каждый день сообщают о подобных находках и особого впечатления это, по-моему, ни на кого не производит.
– Где это случилось? – спросила я.
– В деревне Ивейд, – сказал Стюарт за себя и за Джину.
Я даже никогда о таком селении не слышала, так что спросила:
– А где это?
– Примерно миль десять отсюда, – сказала Линда. – Ты вчера мимо него проезжала. Это чуть в стороне от основной дороги, ближе к мосту Кингзферри.
– Тише! – сказал кто-то, и радио опять заскрипело:
«В полиции Кента нам подтвердили, что причина смерти этих людей не установлена и представляется весьма подозрительной. Настоятельно просим каждого, кто располагает какой бы то ни было информацией по этому поводу, связаться с полицейским участком в Фавершеме, где производится опрос свидетелей и осуществляется координация действий, связанных с расследованием этого дела. Убедительно просим местных жителей не…»
– Боже мой! – вырвалось у Дерби-Дебби. – Так ведь это убийство!
– Давайте не делать поспешных выводов, – сказала миссис Харти, поворачиваясь к своему гроссбуху. – Ну, сказали там что-то такое по радио, но это еще не значит, что все так и было на самом деле.
– Да нет, три мертвеца – это три мертвеца, – сказал «цыган» Алан Уолл. – Вряд ли кто-то их нарочно там оставил. – До сих пор я ни разу не слышала, чтобы Алан сказал хоть слово.
– И все-таки это вовсе не значит, что у нас по острову Шеппи бродит Джек-Потрошитель номер два, верно? Я сейчас схожу в офис и постараюсь разузнать об этом поподробнее. А Мэгг, – миссис Харти кивнула той женщине, что разливала чай, – пока побудет здесь за главную. – И она широким шагом поспешила к дому.
– Ну, тогда ладно, – сказала Дебби. – Наш «Шерлок» Харти наверняка в курсе дела. Но вот что я вам скажу: если сегодня ночью на двери амбара не будет засова толщиной с мою руку и с хорошим замком, я немедленно отсюда уезжаю, а она может отвезти меня на станцию.
Кто-то спросил, говорили ли по радио, как были убиты эти люди, и Стюарт сказал, что сообщили про «зверски жестокое нападение», более всего похожее на «убийство неким острым предметом», а не из огнестрельного оружия, но пока что никто ни в чем не уверен. В общем, мы могли совершенно спокойно вернуться к работе, потому что находиться на открытой местности среди множества людей всегда безопасней, чем в уединенном домике.
– Мне кажется, что это очень похоже на классический любовный треугольник, – сказал Гэри, тот приставучий студент. – Двое мужчин и одна девушка. Явное преступление на почве страсти.
– А мне кажется, они просто не смогли договориться по поводу наркотиков, – предположил его приятель.
– А мне кажется, что вы оба несете полную хренотень, черт бы вас побрал! – сердито отрезала Дебби.
Все дело в том, что уж если в голову тебе западет мысль о каком-то психе, который вполне может скрываться даже вон в той купе деревьев на краю поля или за этой зеленой изгородью, ты сразу как бы боковым зрением начинаешь видеть там какие-то фигуры. Это как у меня тогда было с теми «радиолюдьми», только их я едва слышала, а тут убийцы мне все время мерещатся. Я все пыталась прикинуть, когда именно были совершены убийства: а что, если это случилось, когда я шла через поля совсем близко от моста Кингзферри? А что, если это сделал тот велосипедист, спятив от горя и тоски по умершему сыну? Он, правда, совсем не был похож на психа, но, если честно, разве можно в реальной жизни вот так сразу отличить, кто псих, а кто нет? И та дружная компания парней и девиц в автомобиле «Фольксваген Кемпер» тоже выглядела довольно подозрительно… Пока мы перекусывали – Гвин угостила меня бутербродами с сыром, да еще и банан дала, потому что отлично понимала, какие у меня запасы еды, – то заметили, как над мостом пролетел вертолет, а в час дня «Радио Кента» сообщило в новостях, что в тот дом прибыла команда судебных медиков, что там все обследуют с собаками-ищейками и так далее. Полиция пока отказывалась называть имена жертв, но знакомая миссис Харти, жена одного тамошнего фермера, сказала ей, что в этом доме бывала по выходным некая молодая женщина по имени Хейди Кросс. Она всю неделю обычно проводила в Лондоне, потому что училась в тамошнем университете, так что могла приезжать только на уик-энд. Судя по всему, найденная мертвая женщина – это она и есть. Ходили слухи, что Хейди Кросс и ее бойфренд увлекаются «радикальной политикой», а значит, как утверждал теперь все тот же студент Гэри, это наверняка было убийством на политической почве, возможно, спонсированным ИРА, или ЦРУ, если убитые выступали против американского вмешательства, или MI5, если они были на стороне бастующих шахтеров.
Я слушала его и думала: ведь в университет вроде бы можно поступить, только если ты до чертиков умный, а про Гэри этого никак не скажешь. С другой стороны, мне вроде как и хотелось ему верить, потому что если он прав, то это означает, что никакой псих-убийца за стогами сена не прячется, а от мыслей об этом психе мне до конца отделаться так и не удавалось.
После ланча мы еще пару часиков пособирали клубнику, а потом потащились на ферму, где миссис Харти поменяла наши жетоны на деньги. За один только этот день я заработала больше пятнадцати фунтов! Когда мы вернулись в амбар, Гэбриел Харти как раз прилаживал на дверь засов – с внутренней стороны, как и хотела Дерби-Дебби. Наш работодатель явно не хотел, чтобы все сборщики дружно покинули его ферму, а созревающая клубника так и осталась гнить на плантациях. Гвин сказала, что обычно все сборщики сами ходят в Лейздаун за продуктами и пивом, но сегодня туда отправились только те, у кого есть машина. Тем лучше, решила я: сэкономлю деньги, а обед мне заменит плошка мюсли из тех остатков, что найдутся на кухне, и печенье «Ритц», да еще Гвин обещала угостить меня хот-догом. Мы поели, а потом долго сидели и курили в теплой тени под стеной, осыпающейся от старости, на поросшем травой клочке земли у входа на ферму. Оттуда был хорошо виден весь двор, где голый по пояс Алан Уолл развешивал на веревке выстиранную одежду. Он был такой мускулистый, загорелый, с выгоревшими светлыми волосами, и судя по тому, как Гвин на него смотрела, он ей явно нравился. Вид у него всегда был совершенно невозмутимый, говорил он мало и только по делу, и его явно не беспокоила возможность того, что убийца может скрываться где-то поблизости – в кустах или в густой траве. Гвин тоже весьма спокойно реагировала на все разговоры об убийствах, рассуждая примерно так: «Если ты вчера зверски прирезал сразу троих, то разве станешь скрываться на острове, плоском, как лепешка, и находящемся всего в миле от места преступления? Здесь же каждый незнакомец сразу оказывается на виду, и на него смотрят как на трехголового… Адольфа Гитлера! Ну, или примерно так…»
В общем, надо признать, это были вполне достойные аргументы. Мы с Гвин, затягиваясь по очереди, выкурили последнюю сигарету «Бенсон энд Хеджес». И я принялась вроде как извиняться перед ней за то, что ночью так грубо с ней разговаривала.
– Да ты что? – усмехнулась Гвин. – Неужели ты подумала, что я буду тебе проповедь читать? Видела бы ты меня, когда я из дома сбежала! – И противным тягучим голосом, как у сонной коровы, процитировала себя: «Мне ваша помощь не требуется, ясно? Вот и чешите отсюда!» – Она потянулась и снова устроилась поудобней. – Великий боже, ведь я тогда просто понятия не имела, как мне быть дальше! Ни малейшего понятия!
Мимо прогрохотал грузовик, увозивший в супермаркет клубнику, собранную нами за сегодняшний день.
Мне показалось, что Гвин никак не решит: то ли совсем ничего мне не рассказывать, то ли сказать кое-что, то ли поведать все…
– Я родилась в горной долине чуть выше деревни Ривлас, это недалеко от Бангора, в самом верхнем левом углу Уэльса. Я была единственным ребенком в семье, а мой отец был владельцем куриной фермы. Да и сейчас владеет ею, насколько я знаю. Больше тысячи птиц, все в таких маленьких клетках, не крупнее коробки для обуви – об этих клетках все время талдычат борцы за права животных. Куры начинали нестись уже через шестьдесят шесть дней. Яйца мы поставляли в супермаркет. А жили в коттедже, которого и не видно было за огромным курятником. Мой отец получил этот дом и землю в наследство от дяди и со временем создал там ферму. Когда Господь раздавал людям обаяние, моему отцу явно досталась тройная порция. Он спонсировал в Ривласе команду регби, а раз в неделю отправлялся в Бангор, чтобы петь в тамошнем мужском хоре. Хозяином он был жестким, но справедливым. Делал пожертвования в Плайд Камри[27]. Надо было очень постараться, чтобы найти во всем Гуинедде[28] человека, который сказал бы о моем отце хоть одно плохое слово.
Глаза Гвин были закрыты. Над бровью, сползая на веко, виднелся еле заметный шрам.
– Но самое главное в моем отце – это то, что в нем жили как бы два совершенно разных человека. Один публичный, этакий столп местного общества. Другой домашний, жестокий, лживый и деспотичный урод и извращенец. И это еще мягко сказано. Самое главное для него – это правила; он очень любил правила. Кто имеет право носить в дом грязь, а кто – ее убирать. Как следует накрывать на стол. В какую сторону должны быть повернуты щетиной зубные щетки. Какие книги разрешается читать в доме и какие радиостанции слушать – телевизора у нас не было. И правила эти постоянно менялись, потому что, видишь ли, ему хотелось, чтобы моя мать и я их нарушали, а он мог бы нас за это наказывать. Орудием наказания служила свинцовая труба, тщательно обернутая ватой, чтобы на теле не оставалось следов. Получив свою порцию наказания, мы должны были его поблагодарить. И моя мать тоже. Если же мы не проявляли должной благодарности, нас наказывали по второму разу.
– Черт возьми, Гвин! Даже когда ты была совсем маленькой?
– Да, он всегда был таким, сколько я себя помню. И его папаша вел себя в семье точно так же.
– И твоя мама просто… терпела и все это ему спускала?
– Если ты сама через такое не прошла, то вряд ли сможешь это понять. Во всяком случае, до конца никогда не поймешь. И я бы сказала, что в таком случае тебе здорово повезло. Понимаешь, желание повелевать всегда основано на страхе. Если кто-то очень боится твоих наказаний, он никогда не скажет тебе «нет», не даст сдачи, не убежит. Ему легче сказать «да» – для него это способ выжить. И постепенно это становится нормой. Чудовищной, но все-таки нормой. Чудовищной – именно потому, что считается чем-то естественным. Тебе повезло, раз ты можешь сказать: «Вскакивать по первому его приказу – значит разрешать ему тобой командовать!», но учти: если тебя держали на подобной «диете» с первого дня твоего существования, то для тебя просто не существует возможности восстать против этого. Жертвы – отнюдь не всегда трусы. Скорее это аутсайдеры среди прочих людей, которым и невдомек, сколько мужества требуется для того, чтобы продолжать жить в подобных условиях. Моей маме просто некуда было пойти, понимаешь? Ни братьев, ни сестер. И родители ее умерли еще до того, как она вышла замуж. Отцовские правила навсегда отрезали нас от всех остальных людей. Завести друзей где-то в деревне означало, что ты пренебрегаешь родным домом, а стало быть, заслуживаешь наказания свинцовой трубой. Я слишком сильно его боялась, так что даже друзей в школе не завела. И речи не могло идти о том, чтобы попросить у него разрешения пригласить домой подругу; а уж просьба разрешить тебе пойти поиграть к кому-то означала, что ты неблагодарная свинья, а быть неблагодарной свиньей – значит опять свинцовая труба. Этот безумец находил массу поводов для наказания.
Алан Уолл ушел в дом. С его рубашки и джинсов, висевших на веревке, капала вода.
– А разве ты или твоя мама не могли на него заявить?
– Кому заявить? Куда? Папа пел в хоре Бангора вместе с судьей и начальником полиции. Мои школьные учителя были от него в восторге, он их совершенно очаровал. Социальная защита? Но тут наше слово было против его слова, а отец наш, между прочим, считался героем, был награжден за храбрость во время Корейской войны. От мамы осталась лишь оболочка женщины, она постоянно сидела на валиуме; я была совершенно запущенным подростком, едва способным складно составить фразу. А в мой последний вечер дома, – Гвин как-то невесело усмехнулась, – он стал угрожать мне тем, что убьет и маму, и меня, если я попытаюсь очернить его имя. И подробно описал, как именно это сделает – словно зачитал вслух инструкцию из серии «Сделай сам» – и как легко ему потом удастся выйти сухим из воды. Не хочу рассказывать, не хочу вслух произносить слова о том, что он к этому времени сделал со мной, доведя все до точки кипения, но это было именно то, о чем ты, скорее всего, подумала. Мне было всего пятнадцать… – Гвин усилием воли заставила себя говорить спокойно, а я пожалела, что мы вообще затеяли этот разговор. – Столько, сколько тебе сейчас, верно? – Я невольно кивнула. – С тех пор уже пять лет прошло. Мама знала, чем он со мной занимается, – коттедж у нас маленький, – но даже не пыталась его остановить, не осмеливалась. Наутро после того, как он пригрозил, что убьет нас, я, как обычно, ушла в школу, сунув в сумку для физкультурной формы еще кое-какую свою одежду, и с того дня я в Уэльс ни ногой. У тебя случайно еще сигаретки не найдется?
– Сигареты Гэри все кончились, так что теперь придется мои курить.
– А мне «Ротманз», если честно, больше нравятся.
Я протянула ей пачку.
– Сайкс. Это моя настоящая фамилия.
Она кивнула.
– Холли Сайкс, значит. А я Гвин Бишоп.
– Я думала, ты Гвин Льюис.
– В обеих этих фамилиях есть буква «и».
– А что было после того, как ты уехала из Уэльса?
– Манчестер, Бирмингем. Полубездомное существование или просто бездомное. В Бирмингеме я попрошайничала в торговом центре «Буллринг». Спала в чужих домах вместе со сквоттерами или у друзей, которые в итоге начинали вести себя как-то не совсем по-дружески. В общем, старалась выжить. Хотя и с трудом. Если честно, чудо уже то, что я сейчас сижу здесь и все это тебе рассказываю. А второе чудо – то, что я ухитрилась избежать возвращения домой, куда меня стремились вернуть сотрудники социальной службы. Видишь ли, пока тебе не исполнится восемнадцать, всем этим сотрудникам больше всего хочется отправить тебя назад и передать в руки местных чиновников, а те, естественно, вернут тебя домой. Меня до сих пор преследует кошмар, как меня приводят домой, папаша радостно приветствует блудную дочь, а полицейский смотрит на это и думает: «Все хорошо, что хорошо кончается», не представляя себе, что как только мой отец запрет за ним дверь… Все, хватит. Но вот, собственно, зачем я рассказала тебе эту светлую и радостную историю: я хочу, чтобы ты поняла, как человеку должно быть плохо дома, если он решится на такой отчаянный шаг, как побег. На этом пути столько жутких трещин – упадешь, так уж не выберешься. Мне понадобилось пять лет, прежде чем я осмелилась просто предположить, что самое плохое уже позади. Дело в том, что я смотрю на тебя и вижу… – Она не договорила, потому что какой-то парень на велосипеде резко затормозил прямо перед нами, с грохотом уронил велосипед на землю и воскликнул:
– Сайкс!
Эд Брубек? Ну да, Эд Брубек!
– А ты-то откуда тут взялся?
Волосы у него взмокли от пота и встали дыбом.
– Тебя искал.
– Только не говори, что все это расстояние ты проехал на велосипеде. И ты ведь должен быть в школе?
– Сегодня утром был экзамен по математике, но теперь я свободен. Сел вместе с велосипедом на поезд, а потом от Ширнесса сюда прикатил. Слушай…
– Тебе, должно быть, очень хотелось получить обратно свою бейсболку?
– Это совершенно не важно, Сайкс, нам нужно поскорей…
– Умолкни. Откуда ты узнал, где меня искать?
– Я и не знал, но потом вспомнил, что мы с тобой говорили насчет фермы Гэбриела Харти, и позвонил ему. Он, правда, сказал, что никакой Холли Сайкс у него нет, есть только некая Холли Ротманз. Ну, я и подумал, что это вполне можешь быть ты, и оказался прав.
Гвин пробормотала:
– Да уж, ничего не скажешь.
– Брубек, это Гвин, – сказала я. – Гвин, это Брубек, – и они кивнули друг другу. Потом Брубек снова повернулся ко мне:
– Кое-что случилось.
Гвин встала, понимающе мне подмигнула, сказала: «Ладно, увидимся в наших апартаментах в пентхаусе» – и удалилась, слегка вальсируя. А я сердито сказала Брубеку:
– Да слышала я!
Он неуверенно на меня посмотрел.
– Тогда почему ты все еще здесь?
– Об этом по «Радио Кент» сообщили. Ну, о троих убитых. В деревне Ивейд.
– Да я совсем не об этом! – Брубек прикусил губу. – Твой брат тоже здесь?
– Жако? Конечно, нет! С чего бы это он мог тут оказаться?
Примчалась Шеба и залаяла на Брубека, а он все молчал, все колебался, как человек, принесший ужасную весть.
– Жако пропал.
Когда до меня наконец дошел смысл сказанного, у меня все завертелось перед глазами. А Брубек молчал, только велел Шебе: «Заткнись!», и та послушалась.
Взяв себя в руки, я слабым голосом спросила:
– Когда?
– В ночь с субботы на воскресенье.
– Жако? – Должно быть, из-за всей этой кутерьмы я просто плохо расслышала. – Пропал? Но… он никак не мог пропасть! Ведь паб на ночь запирают.
– Полиция уже с утра пораньше заявилась в школу, и мистер Никсон пришел прямо в зал, где у нас шел экзамен, и спросил, не знает ли кто, где ты находишься. Я чуть было не сказал. А потом… В общем, теперь я здесь. Эй, Сайкс? Ты меня слышишь?
Меня охватило то противное зыбкое ощущение, какое иной раз возникает в лифте, когда ты словно не доверяешь прочности пола.
– Слышу. Но я не видела Жако с субботнего утра…
– Я-то знаю, а вот полицейские в этом не уверены. Они, похоже, считают, что вы с Жако сговорились и вместе сбежали.
– Но это же бред, Брубек… ты же знаешь, что бред!
– Да, знаю! Но ты должна обо всем рассказать в полиции, иначе они так и не начнут искать Жако по-настоящему.
В голове у меня был полный сумбур; мне то мерещились поезда, идущие в Лондон, то полицейские водолазы, обшаривающие дно Темзы, то какой-то неведомый убийца, притаившийся среди зеленых изгородей.
– Но Жако даже не знает, где я! – Меня трясло, и небо как-то странно перекосилось и соскальзывало вбок, и голова у меня просто раскалывалась от боли. – Он не обычный ребенок и… и… и…
– Послушай меня, – Брубек схватил и держал мою голову обеими руками так, словно хотел поцеловать. Только целовать он меня вовсе не собирался. – Послушай меня, Холли. Хватай свой рюкзак – и едем в Грейвзенд. На моем велосипеде, а потом на поезде. Я помогу тебе через все это пройти. Обещаю. Давай, Холли, собирайся. И едем прямо сейчас.
Myrrh is mine, its bitter perfume…[29]
1991 год
13 декабря
– Громче, тенора! – велел хормейстер. – Заставьте свои неподвижные диафрагмы дрожать! Вверх-вниз, вверх-вниз, мальчики! Дисканты, не шипите! Не нажимайте так на «ссс» – вы все-таки не отряд голлумов[30]. И не цыкайте, уберите эти звонкие «ц». Эйдриен – если ты можешь взять верхнее «до» на фразе «не плачьте больше, о печальные фонтаны», значит, сможешь взять его и здесь. Еще раз и бодрее. И раз, и два, и…
Шестнадцать ушастых, как летучие мыши, хористов Королевского колледжа[31], патлы которых давно не знали ножниц парикмахера, и четырнадцать преподавателей выдохнули в унисон…
- О той, что так прекрасна и светла,
- Velut maris stella[32]…
Бенджамин Бриттен, «Гимн Деве Марии»[33]. Эхо дивных голосов разлилось под роскошным куполом и обрушилось на россыпь зимних туристов и немногочисленных студентов, сидевших перед алтарем прямо во влажной верхней одежде. Для меня Бриттен – композитор, действующий как бы наудачу: иногда он излишне многословен и кажется даже нудным, но иногда, словно набравшись сил после плотной трапезы, он словно привязывает твою дрожащую, корчащуюся душу к мачте и хлещет ее своими яростными возвышенными звуками…
- Светлей, чем свет дневной,
- Parens et puella[34]…
Когда выдавалась свободная минута, я размышлял, какую музыку хотел бы слушать, лежа на смертном одре в окружении целой стаи взволнованных сиделок. И ничего более ликующего, чем «Гимн Деве Марии», мне в голову не приходило; меня, впрочем, беспокоило одно: когда придет это великое мгновение, диджей Бессознательное снова включит в моей голове это дурацкое «Gimme! Gimme! Gimme!» (из «A Man after Midnight»)[35], и тут уж у меня точно не будет возможности исправиться и послушать нечто более торжественное. Мир, заткнись, ибо звучит один из самых великолепных музыкальных оргазмов:
- Со слезами взываю я к Тебе, не оставь меня,
- Богородица, моли за меня Сына своего…
У меня даже волосы на затылке зашевелились словно от сквозняка. А может, кто-то и впрямь на них подул? Например, она, та дама, что сидит через проход от меня? Вообще-то, ее там только что не было… Тоже глаза закрыла и словно пьет музыку, как и я. На мой взгляд, ей было сильно за тридцать… волосы – цвета ванили, кожа – цвета сливок, а губы – как божоле; скулы высокие и такие острые, что можно обрезаться. Ее гибкая фигура отчасти была скрыта теплым темно-синим пальто. Кто она? Покинувшая сцену русская оперная певица-иммигрантка, ожидающая своего спутника? Разве угадаешь – это же Кембридж! Но внешность у нее на редкость аристократическая…
- Tam pia[36],
- Что я могу прийти к тебе…
- Мария…
Пусть она останется после того, как хор строем удалится. Пусть повернется к молодому человеку, сидящему через проход, и шепнет: «Разве не было это дыханием Рая?» Пусть мы с ней обсудим симфонические интерлюдии к «Питеру Граймсу» и «9 симфонию» Брукнера[37]. Пусть мы избежим разговоров о ее семейных проблемах, пока будем пить кофе в «County Hotel». Пусть кофе превратится в форель и красное вино, и к черту мою последнюю кружку пива в Михайловом триместре[38] с ребятами из «Берид Бишоп». Пусть мы с ней поднимемся по застеленной ковром лестнице в уютную квартирку, где мы с матерью Фицсиммонса резвились в течение всей «недели первокурсников». Ф-фу! Мой Кракен[39], кажется, пробудился в трусах. Все-таки я – молодой мужчина двадцати одного года от роду, и уже минимум десять дней прошло с тех пор, как я в последний раз ложился в постель с женщиной, так чего же вы от меня хотите? Только меня вряд ли удовлетворит всего лишь наблюдение за красивой женщиной. Ого! Ну-ну-ну! Похоже, и она исподтишка за мной наблюдает. Я сделал вид, что рассматриваю «Поклонение волхвов» Рубенса, висевшее над алтарем, и стал ждать, когда она сделает первый шаг.
Хористы удалились, но женщина осталась сидеть. Какой-то турист нацелился было увесистой камерой на картину Рубенса, но гоблин-охранник тут же рявкнул: «Со вспышкой нельзя!» Пространство перед алтарем постепенно опустело, и гоблин вернулся в свою будку возле органа. Текли бесконечно долгие минуты. Мой «Ролекс» показывал уже половину четвертого, а мне еще надо было довести до ума эссе о внешней политике Рональда Рейгана. Но эта волшебная богиня сидела в шести футах от меня и явно ждала, что первый шаг сделаю все-таки я.
– У меня всегда такое ощущение, – сказал я, обращаясь к ней, – что наблюдение над тем, сколько крови, пота и слез тратят хористы, отделывая ту или иную вещь, способно только углубить тайну музыки, а отнюдь не приуменьшить ее. Вы не находите, что в этом есть некий смысл?
– Пожалуй, да – для студента последнего курса, – с улыбкой сказала она.