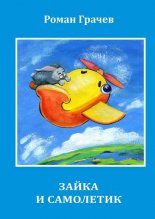История моих сюжетов (сборник) Пантелеев Л.

В книге использованы фотографии из архива Кальницких-Пугиных.
Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
© Пантелеев Л. (наследники), 2015
© Лурье С., 2015
© Мечик-Бланк К., 2015
© Романков Л., 2015
© Геликон Плюс, 2015
Еще не всё
Лет, предположим, тому назад тридцать пять некий литератор, считавшийся тогда молодым, сказал про Л. Пантелеева примерно так: бывают такие времена, что значительность писателя определяется книгами, которых он не написал.
Алексей Иванович услышал. И понял. И оценил даже слишком высоко. Незадолго до смерти прислал тому литератору письмо:
«Если то, что мне удалось сделать за мою долгую жизнь, заслуживает внимания и критической оценки, то сделать это, лучше, чем кто-либо, можете Вы – не сейчас, так позже, когда меня не будет…»
Насколько я понимаю, от титула «советский писатель» у него зудело лицо, как от въевшейся маски. И он уже не верил, что сорвет ее сам.
Тем не менее, он это сделал. В повести, напечатанной посмертно, – «Верую…».
Раскрыл свою тайну, а в сущности – нехитрый секрет. Но страшно для него мучительный. Вносивший в его существование нестерпимую фальшь.
Дело в том, что Л. Пантелеев был не советский писатель. Потому что Алексей Иванович Еремеев был не советский человек. Поскольку презирал агитпроп, ненавидел госбезопасность и веровал во Христа.
Но работал он – формально, да и фактически – как любой подцензурный автор, – на агитпроп. Ненависть – скрывал. Веру – тщательно таил.
Да, из страха. За тех и за то, что любишь, и так далее. А верней – оттого, что не было выхода. Не имелось другого способа жить и даже просто – быть.
Это многих утешало и даже успокаивало навсегда. Но у Алексея Ивановича совесть была какая-то непримиримая. Особенно под конец, когда настало личное несчастье. Металась, как в клетке.
А вместе с тем – он надеялся на свою литературу. Что раз он старался не допустить в нее ни атома лжи и зла, она послужит истине и благу. И что за это читатели будут его любить и не сразу забудут.
И так действительно и вышло. В его текстах жила, освещая их, некая непререкаемая норма единственно правильного человеческого поведения. Полагаю, что они спасли множество душ.
Вообще, страшно представить: если бы советские люди с детства читали только произведения настоящих советских писателей, – что бы вышло.
Отсюда это чувство, с которым об Л. Пантелееве думают, как мало еще о ком: благодарность.
Хотя истинная ценность детских книг – или, допустим, игрушек – известна одним лишь детям. А перечитывать боязно.
Я рискнул, заглянул. Потери, конечно, есть. Какой-нибудь «Пакет» или одноактные пьесы про войну – лучше о них промолчать. Но зато «Честное слово» и «На ялике» – не потускнели, кажется, ничуть.
Проза для так называемых взрослых: «Наша Маша» – абсолютная и трагическая катастрофа. Мемуарная эссеистика, дневники, записные книжки – невероятное, навсегда поучительное зрелище: ум пытается превозмочь двойную цензуру (первый ряд заграждений – в самом себе).
Бесспорна «Республика ШКИД». И – «Верую…».
Итог, одним словом, положительный. Настолько, что даже рано его выводить. Этим еще займется когда-нибудь история литературы. Заодно отметит благородный характер, разберет загадочную биографию.
Объяснит, если сама поймет, – каким это чудом Вы, Алексей Иванович, вырвались из своей эпохи. Когда пошлость бушевала вокруг, подобно безумному чудовищу, – создали несколько таких вещей, в которых ей ну совершенно нечем поживиться.
Каким чудом спаслись, почти ничего не дав ей взамен.
Самуил Лурье
Алексей Иванович незадолго до смерти передал мне свой архив.
Это была середина 80-х годов, глухая ночь всеобщей лжи.
А он мучился тем, что всю жизнь прожил по легенде, точно шпион. И надеялся, что кто-нибудь – например, я – рано или поздно расскажет правду – и оправдает его.
Сам А. И. не решился – страшно было расстаться с читателем. Да никто и не позволил бы писателю Пантелееву, мальчику из Республики ШКИД, беспризорнику, которого советская власть вывела на свет из подземелья, – признаться, что все было не так, скорее, – наоборот…
Кое-что сказано в публикуемом тексте. Многое другое – в книге, которую я составил из рукописей, найденных в архиве (Л. Пантелеев. «Верую…». Составление и вступительная статья С. Лурье. Л., 1989).
Но вся правда об этом благородном писателе, об этом несчастном человеке, о его трагической жизни, – вся правда о нем известна лишь Тому Единственному, в Кого он веровал горячо и тайно, скрывая эту веру, как унизительную вину, и стыдясь вечного страха, сглодавшего его судьбу и душу, как и миллионы других судеб и душ.
С. Л.
Повесть «Ленька Пантелеев» и моя подлинная биография
Я уже говорил и писал где-то, что называть повесть «Ленька Пантелеев» автобиографической можно лишь с некоторой натяжкой. Очень многое из рассказанного в повести было и в жизни автора. Был отец, участник русско-японской войны, получивший за подвиг дворянство. Была мать из купеческой семьи, были брат и сестра, двоюродная сестра Ира. Были приготовительное училище баронессы фон Мерценфельд и 2-е реальное училище, был реалист Волков, сын инженера, была горничная Стеша, крестный брат Сережа, поденщица Аннушка. Были ярославская деревня и ярославский мятеж, ферма, профшкола, Мензелинск, детдом в монастыре, лимонадный завод, рулетка, лампочки и многое другое. Но кое-что из перечисленного сокращено, умалено, кое-что преувеличено, кое-что затуманено, а кое о чем не сказано вовсе (такого не мало). Некоторые события поменялись местами. Например, настоящее бродяждничество выпало на мою долю уже после Шкиды – когда мы с Гришей в поисках кинематографического счастья устремились на юг. Уже туда нам пришлось с полдороги добираться без денег, путешествуя на манер героев О Генри или Джека Лондона. Вместе мы путешествовали до Харькова. Здесь Гриша, у которого не было хорошего жизненного опыта, заскучал, затосковал по родному Питеру. В Харькове мы расстались. И у меня только тут начались настоящие приключения и злоключения. В Петрограде «оборванный, длинноволосый, босой, перепачканный углем и нефтью», я появился не четырнадцатилетним, а шестнадцатилетним.
Вообще, жизнь моя, детство и юность были интереснее, чем жизнь Леньки Пантелеева. Почему же я не писал правду? Честно говоря, только потому, что правда в те времена не котировалась… Жизненный материал я типизировал, а точнее – схематизировал.
Например. О судьбе Волкова я ничего не знаю. Монархически-кадетскую атмосферу волковского дома я придумал. Жили Волковы гораздо скромнее. В повести подчеркнуто «классовое размежевание». Ничего не известно мне о судьбе Сережи Бутылочки после революции. Ему я тоже придал «типичную биографию». То же и со Стешей, которая дожила до блокады в очень скромной роли больничной, кажется, сиделки. Был в Ярославле хозяин «Европейской» гостиницы Поляков (переименованный мною в Пояркова), и был у него сын, белый офицер. Был звероподобный директор сельскохозяйственного училища под Мензелинском. Но придать ему идентичность с Поярковым заставила автора погоня за занимательностью сюжета.
В общем, со мной происходило приблизительно то же, что было с Буниным, когда он писал «Лику» или «Жизнь Арсеньева». Разница в том, что Бунин открещивался от именования его романа автобиографическим, а я своей рукой вывел этот подзаголовок. И вот теперь расплачиваюсь.
Придется, по-видимому, сделать все-таки то, чего я хотел избежать: попробовать написать совсем короткую автобиографию – без всяких подробностей и без всякой подцветки.
Родился я в 1907 году в Петербурге в доме № 140 по набережной реки Фонтанки, в собственном доме моего отца Ивана Афанасьевича Еремеева. При доме был лесной двор, где торговали дровами, досками, барочным лесом… В первом этаже были прачечная и лаковая мастерская (о которой, пиши я роман, а не краткую биографию, можно было сказать очень много), во дворе трехэтажный флигель с двумя квартирами, в одной из которых жила генеральша Соколова (переделанная в Силкову). В 1912-м или 1913 году отец, чтобы не иметь дела с перекупщиками, приобрел небольшой (на две пилорамы) лесопильный завод на Неве (у д. Кузминки) в 20 верстах от Шлиссельбурга, в 2–3 километрах от Островков, где в 1913 году мы жили на даче.
Женился отец по сватовству. Первое свидание моих будущих родителей состоялось в музее Александра III, то есть в нынешнем Русском музее.
О матери Александре Васильевне могу сказать, что она родилась 24 июня 1883 года в Петербурге в семье купца 1 гильдии – из архангельских крестьян. И мать, и отец ее носили фамилию Спехины. Происходили они из одной деревни – Зачачье Холмогорского уезда.
Лет восемь назад архангельский писатель К. рассказал мне, что в этом селе у здания школы стоит памятник (бюст?) Ивану Спехину, основателю этой школы.
Было это будто бы в пушкинские времена, в начале прошлого века. Молодой Иван Спехин пошел на заработки в Архангельск, там нанялся матросом на английский корабль, попал в Лондон, где в пьяном виде его завербовали в колониальную армию. Много лет он провел в Индии, испытал немало невзгод и приключений и только на склоне дней, каким-то образом разбогатев, давно став из Ивана Джоном, сумел вернуться на родину.
На свои средства он построил в Зачачье школу.
Поскольку прадеды и прабабки мои по материнской линии были сплошь Спехины, я не могу сомневаться, что во мне живет хоть капелька крови этого славного Джона Спайхина.
Мать кончила с серебряной медалью Александровскую гимназию на Гороховой улице, училась музыке на курсах Шлезингера (серебряную медаль, по поручению матери, я продавал в 1921 году на барахолке, в Александровском рынке).
Отец учился в Первом реальном училище, потом в Елизаветградском юнкерском. Служил во Владимирском драгунском полку. В начале русско-японской войны перевелся в 5-й Сибирский казачий полк (так как Владимирский на войну не шел), попал в действующую армию, воевал, совершил подвиг, получил орден Св. Владимира с мечами и бантом. В словаре Брокгауза и Ефрона (том 12, стр. 628) сказано: «Орден Св. Владимира дает потомственное дворянство». Дорого стоило мне – и в детстве, и в зрелые годы – это дворянство, которое отец заслужил кровью…
В русско-германскую войну отец четыре года провел на фронте. Последний раз я видел его в 1918 году. Он приезжал на несколько дней в деревню Ченцово Ярославского уезда той же губернии. В этой деревне, скрываясь от петроградского голода, мы жили у Федора Глебовича Корытова и у его жены Секлетии Степановны Корытовой. Федор Глебович был сначала приказчиком, а потом управляющим нашим лесным двором. Была с нами в Ченцове наша гувернантка, прибалтийская немка Елена Ивановна Тульпе, позже приехала сводная сестра отца Татьяна Афанасьевна (тетя Тэна), потом сестра матери Анна Васильевна (тетя Аня) с дочерью Ирой.
Отец пожил с нами дней пять. Ехал он в Ченцово в штатском, но в поездах несколько раз солдаты узнавали в нем офицера – по выправке. Несколько раз его задерживали.
Самые счастливые дни моего детства – последние дни, проведенные с отцом. Он приезжал прощаться.
Уехал и – канул.
Мать несколько раз ездила в Петроград. Нашу квартиру захватили, «национализировали» – к сожалению, не бедняки, перебравшиеся в хоромы из подвалов, а люди, никакого отношения к хижинам и подвалам не имевшие. Один из них был моряк, внук Федора Корытова, Василий Корытов, которого отец мой вытащил «из грязи в князи», дал возможность учиться, кончить гардемаринские курсы. Этот Васька Корытов, когда мама появилась в своей квартире, пьяный стрелял в нее из нагана, пуля пролетела над самой головой. В кабинете отца поселился некто Киселев, работник Экспедиции заготовления государственных бумаг, тоже никакой не пролетарий. Этот Киселев взломал несгораемый шкафчик в кабинете отца, уверенный, что найдет там золото и бриллианты. Но в сейфе ничего, кроме деловых бумаг и высочайших рескриптов о награждении орденами, не оказалось. На Киселева кто-то донес в Чека. Ему грозил суд и – по его словам – расстрел. Каким-то образом он разыскал мою мать (приехав из деревни, она остановилась у сестры Раисы Васильевны), упал перед нею на колени и умолял сходить куда следует и сказать, что сейф открыла она сама.
Мама это сделала.
С нами поступили жестоко и несправедливо. Никто из наших родственников (а среди них было немало людей во много раз зажиточнее нас) не потерял и сотой доли того, что потеряли мы.
Но в детские и юношеские годы, зараженный пафосом революции, я считал, что все совершившееся справедливо, и не позволял себе горевать о потерянном барахле. А потеряли мы буквально все – от одежды, мебели и посуды до икон и прадедовских книг. Матери удалось высудить только беккеровский рояль – свое приданое и «орудие производства». Все остальное осталось в пользовании тех, кто поселился в наших пяти комнатах. Года до 1970-го, когда дом был снесен, на окнах нашей бывшей детской висели те самые тюлевые занавески, декадентский рисунок которых я помнил с младенческих лет.
…Ушел на полстолетия вперед.
До осени 1919 года мы жили в Ченцове. Несколько раз за это время мама ездила в Петроград. Там до нее дошел слух, что отец арестован, что ему предложили работать «по специальности», быть директором государственного лесозавода где-то под Петрозаводском, но что он, мол, отказался. Какой-то авантюрист приходил к С. А. Пурышеву, единоутробному братцу отца, просил сколько-то тысяч за «выкуп» отца. Тысячи ему даны не были.
Потом в Ченцово пришло письмо от тетки нашей мамы, игуменьи Холмогорского монастыря матери Ангелины. В постскриптуме она писала: «Недавно у нас гостил Иван Афанасьевич».
Фраза эта звучала совершенно фантастически. В такое время! Отец! Гостил! В монастыре!
Много позже мы узнали, что в Холмогорском женском монастыре (вероятно, в части его) была оборудована тюрьма.
Чтобы не возвращаться к теме отца, скажу, что он, не в пример Ивану Андриановичу из «Леньки Пантелеева», не был запойным пьяницей и не оставлял семьи.
Но он мог бы и развестись с женой, и запить горькую. К этому легко могли толкнуть его и характер, и неудачно сложившаяся судьба.
…После подавления эсеровского восстания и на ярославскую землю пришел голод. Летом 1919 года мама и тетя Тэна отправились на поиски более хлебных мест. Таким хлебным местом показался им татарский город Мензелинск, стоящий километрах в десяти от Камы (от пристани Пьяный Бор).
На выезд из Ярославской губернии нужен был пропуск. Запомнилась эта последняя поездка с мамой в Ярославль (много позже, в 1929 году, я был проездом в Ярославле – с С. Я. Маршаком).
До Мензелинска добирались долго и трудно. Тети Тэны с нами уже не было, она вернулась в Питер. Ехали Александра Васильевна с тремя детьми, Елена Ивановна и Анна Васильевна с Ирой. На какие средства мы ехали и вообще жили – не знаю. Продавали и выменивали жалкие остатки барахла.
До Мензелинска добрались поздней осенью. Из города совсем недавно ушли белые. Мне показывали сапожника, знаменитого тем, что он чистил сапоги адмиралу Колчаку.
Унылая голодная жизнь. Почему-то часто меняем квартиры. Запомнилось 4–5 мест пребывания.
Угарные печи, клопы, ободранные обои.
Мама жарит пирожки с кониной, мы с Васей торгуем ими на рыночной Соборной площади.
Бесконечные болезни.
Перед второй годовщиной Октябрьской революции выдают – кажется, только детям – по четверть фунта пчелиного меда.
Я учусь в б. реальном училище.
Читаю. Пробую продолжать свои занятия литературой. Пишу стихи, прозу, пытаюсь сочинять пьесу, которую ставим в помещении общественной столовой (зав. этой столовой Сумзин – отец моего товарища по классу).
Мать уезжает в Петроград. Задерживается там. Не пишет. Вася на ферме. Тетка и меня посылает туда же.
(Вспомнил, как я мечтал об этой ферме. Представлял ее каким-то колледжем. В связи с этим вспомнилось другое. Мечты о кадетском корпусе, куда меня почему-то прочила мама, чему категорически воспротивился отец.)
Мучительная жизнь на ферме, в этом вертепе, изображенном несколько смягченно в повести. Уроки воровства.
Побег. Детский дом. Налет на монастырь.
Возвращение матери. И мое возвращение к ней.
Она заведует детским садом.
К ней сватаются – сначала местный покоритель сердец, парикмахер, потом – загадочная личность – Король Электричества, артист эстрады, с сыном которого Володькой мы учились, кажется, в одном классе.
Мать не теряет надежды, что пропавший без вести отец – вернется.
Отказывает «женихам».
Дает уроки музыки. Играет на рояле на киносеансах в городском клубе «Аудитория»… Там я впервые увидел Короля Электричества.
Пишу обо всем этом, как в анкете в графе «Краткая автобиография». Писать скучно.
В Мензелинске мы жили до 1921 года.
Забыл упомянуть профшколу, в которой я учился после фермы. Школа эта в повести написана довольно точно.
Двухнедельное путешествие на пароходах и в поездах до Петрограда…
Начало нэпа. Еще очень голодно. Приютила нас в своей восьмикомнатной квартире мамина старшая сестра Раиса Васильевна (в той самой квартире, где бывал когда-то Распутин). Мы с Васей спим на полу в прихожей. Потом живем в бывшей столовой – Ира с тетей Аней и мы четверо. Елена Ивановна репатриировалась, уехала к себе на родину, в Эстонию. Помню, как мы провожали ее на Варшавском вокзале.
И здесь, в Петрограде, мы люто мерзли. Мама ходила на Фонтанку, в бывший наш дом, просила у Киселева (он был председателем домового «Комитета бедноты») разрешения взять несколько досок с бывшего нашего же лесного двора. Иногда Киселев разрешал, и мы с Васей волокли на салазках эти доски или пластины с Фонтанки на Екатерининский канал в «дом церкви Вознесения».
Муж Раисы Васильевны Михаил Петрович – делец, коммерсант, владевший до революции винными складами, фруктовым магазином и рестораном на Невском (в доме Елисеева, где сейчас кино «Баррикада»), в начале нэпа вышел из состояния вынужденной спячки и занялся делами (между прочим, этот респектабельный буржуй учил меня, Васю и своих двух сыновей, Вову и Сережу, самому заурядному воровству. Под его руководством и с его участием мы несколько раз забирались ночами в склад аптекарской посуды, находившийся во дворе церковного дома, и уносили штук по десять больших стеклянных банок с притертыми пробками. Зачем они ему были нужны, эти банки, – не знаю. Нам, мальчишкам, это занятие нравилось, в нем был азарт – бескорыстный).
Нужно было что-то делать и нашей маме. О работе и речи не могло быть.
Кто-то надоумил ее открыть на Сенной чайную. Денег у нее не было. Один пай внесла тетя Тэна, другой – в виде каракулевого сака – тетя Аня. Мамин пай был – ее труд. Крохотную чайную в два окна, на пять-шесть столиков назвали «Теремок». Недолгое время работал там в качестве официанта и я. На крохотной кухне работала Ира.
Вообще-то я учился в советской единой школе, в б. гимназии Гёде на Екатерининском канале, угол Фонарного переулка. (Был там среди моих товарищей сын портного Изя Шнеерзон, несколько лет спустя кончивший самоубийством, была девочка, носившая бойскаутскую шляпу. Сохранялись нравы, о которых повествуется в «Леньке Пантелееве». Но Володька Прейснер, журнал «Ученик», история с Карлом Марксом и др. – или выдумано, или почерпнуто из других периодов жизни.)
…Одним из завсегдатаев чайной «Теремок» был Василий Васильевич Осипов, высокий красивый ярославец, полуоптовый торговец мясом. Чем он пленил нашу маму, этот полуграмотный человек, не знаю. Он был женат, жил неподалеку, на Мещанской улице. Сильно пил (загадка творчества: почему-то этот грех я перенес с отчима на отца).
Однажды, когда Василий Васильевич (или Васвас, как звали его мы с Васей и Лялей) сидел в «Теремке» и потягивал из стакана самогон, туда прибежала девочка и сказала, что жена его – сгорела.
Женщина эта разжигала примус, он почему-то вспыхнул, она схватила его и выбежала на лестницу. Там и охватило ее пламя.
Жила она четыре дня.
Все эти четыре дня мама наша не отходила от нее, не спала ни одной ночи.
Женщина умерла.
Когда, в каком году это случилось, – сказать не могу, не помню.
«Доход», который давала чайная, был мизерный. Сытым я себя не помню. Тут и начались лампочки, магазин «ПЕПО», «кручу-верчу» и многие другие проделки, о которых я в повести – да и нигде вообще – не упомянул.
Дважды я «печатал пальцы» в угрозыске.
Михаил Петрович открыл к этому времени в Горсткиной улице лимонадный завод под фирмой «Экспресс». По просьбе мамы он взял меня «в мальчики». Его компаньоном был человек по фамилии Краузе.
Захар Иванович (фигура яркая) от начала до конца выдуман.
Я доставлял много огорчений маме.
Наконец я попал (кажется, после «операции» в «ПЕПО») в очередной раз в уголовный розыск, оттуда в детский распределитель (или приемник) на Б. Конюшенной, затем под конвоем в Комиссию по делам несовершеннолетних, откуда и получил направление в школу им. Достоевского.
Когда это случилось, не помню. Не знаю даже, летом или зимой.
Я уже был несколько месяцев в Шкиде, когда маме сделал предложение мой будущий отчим В. В. Осипов. никаких точных сведений о гибели моего отца не было, мама и по церковному, и по гражданскому праву считалась замужней. За разрешением на новый брак ей пришлось обращаться к митрополиту Петроградскому Вениамину. Но этого ей показалось мало. В первый приемный день она приехала ко мне в школу им. Достоевского и сказала, что без моего согласия замуж не пойдет. Страшновато вспоминать этот день. Отца я любил, не терял надежды, что он жив, но я не только благословил маму на брак, но и согласился быть шафером на ее свадьбе.
На Мещанской маме жилось нисколько не лучше, чем до этого. Василий Васильевич пил, дела его шли из рук вон плохо… Будучи женой торговца, маме приходилось делать тряпичные куклы, потом – искусственные цветы. (Давно мечтаю – и вряд ли эта мечта осуществится – написать правду о нэпе). О нэпманах не только у молодого современного читателя, но и у людей пожилых представление самое лубочное – по карикатурам В. Лебедева, К. Рудакова и др. Нэпманы были, конечно, и такие – толстопузые, в ботинках «Джимми», в брюках дудочками, а нэпманши – в фетровых ботиках и меховых шубках. Но среди тех, кого я знал, таких не было. Богатыми нэпманами (но не такими, опять-таки, не карикатурными) были до поры до времени и Михаил Петрович с Раисой Васильевной. Нэпманом был старый, дореволюционный, весьма респектабельный коммерсант Краузе. Но нэпманшей считалась и тетка Васвас, дряхлая старуха, торговавшая на улице деревянными ложками. В конце двадцатых годов эту «нэпманшу» лишили избирательных прав и выслали из Ленинграда. Василий Васильевич и жена его, моя мать, тоже были лишенцами…
…Выйдя из Шкиды, я поселился на Мещанской, спал на сундуке в коридоре. Вася работал в частной мастерской Солуянова учеником слесаря, потом перешел в кондитерскую…
До этого торговал на рынке, в пивных и чайных – искусственными цветами. Этим же занимались и мы с Лялей. И даже некоторое время Гриша Белых. Позже мы торговали с ним газетами… (Все это должно было войти в повесть, которую я очень долго и мучительно писал и не дописал. Как я сейчас понимаю, задуманная как продолжение «Республики ШКИД», она никак не смыкалась, не склеивалась с этой легкодумной, далекой от настоящих жизненных трудностей повестью.)
Мы с Гришей начали понемногу печататься. В «Кинонеделе», потом – в юмористическом журнале «Бегемот».
Я сочинял анекдоты и подписи к карикатурам. Носил их полсотнями и больше в «Бегемот» на Фонтанку. Там милый, по-петербургски интеллигентный человек, секретарь редакции В. Черний проглядывал мои анекдоты и отбирал из полусотни – один-два. За анекдот или подпись под рисунком платили бешеные деньги – шесть рублей!
Отчим, который называл меня почему-то «комсоголец», один раз сказал мне:
– Эх, ты, голова садовая!..
– И не Садовая, а Третьего июля, – ответил я и сразу же поймал себя на мысли: «Готовый анекдот».
Записал, снес в «Бегемот» и в ближайшем номере увидел этот шедевр напечатанным.
(Старинная Садовая в довоенные годы называлась улицей Третьего июля.)
Остается сказать, что на поиски кинематографического счастья мы направились с Гришей летом (в самом начале лета, по-видимому) 1924 года. Мама не могла дать мне денег на дорогу, дала самое ценное, что у нее было, – пачку, в полпуда весом, цветной рогожки, в какую обертывались корзины с искусственными бульденежами[1]. Эту рогожку мы мучительно долго продавали в Москве на Сухаревке, с трудом нашли покупателя.
…Доскажу то, чего не досказал, или то, что еще вспомнилось.
В Харькове я несколько дней работал учеником киномеханика в кинематографе (кажется) «Маяк». Устроил меня (одного из нас) человек по фамилии Невский, какой-то деятель, кажется, профсоюзный, оказавшийся питерцем. Как мы к нему попали, хоть убейте, не помню. Он дал нам записку к механику этого «Маяка». Именно в эту минуту, когда мы сидели на ступеньке проекционной будки и ждали механика, у Гриши и возникла мысль о возвращении в Питер. Слишком ничтожным показался ему результат нашего кинопутешествия: вместо лавров киноартистов или режиссеров – работа мальчиком в кинобудке. Да еще надо было тянуть жребий: кому? После решения Гриши этот вопрос отпадал. Мне работа понравилась, но у меня не было ни жилья, ни прописки, оформить меня на работе не могли.
…Харьковские и вообще украинские и южнорусские впечатления отражены в рассказах «Портрет» и «Часы».
Аркашку я встретил именно в это время. Но соблазнить меня, как соблазнил он в повести Леньку, ему не удалось.
На Украине я встретил слепого нищего, раскулаченного мельника. Недели две-три я был его поводырем. Сам не просил, но – ел милостыню.
Эти мои приключения и злоключения были куда сложнее, интереснее выдуманных злоключений «Леньки Пантелеева» – тем, что тут была внутренняя борьба, и мне удалось выйти из нее победителем.
Говоря коротко – после Шкиды я и Гриша ни разу не взяли ничего чужого. А ведь очутился я в обстоятельствах куда более сложных, чем 2–3 года назад.
Маму я не хотел расстраивать, писал ей радужные завиральные письма. Но пришел день, когда я не выдержал и написал ей, что «в данный момент» оказался «не при деньгах». Она перевела мне – сколько сумела: три рубля. Было это еще в Харькове. Я стоял на почте в очереди к окошечку «До востребования». Перед этим три дня ничего не ел, «только воду стегал» (и съел еще, помню, вымыв его предварительно в струе городского фонтана, огрызок абрикоса). И вот, не доходя почтового окошечка, я обессилел, зашатался и упал. Первый раз в жизни. Второй был зимой 1942 года в блокадном Ленинграде (что такое голод и вообще что такое фунт лиха, я рано узнал, это лихо долго ходило за мною по пятам).
Дохлый котенок в кармане – тоже в эту пору моих скитаний.
Из Ченцова два раза убегал – в Петроград (когда мама уезжала туда). Один раз с восьмилетним Васей. Дошли до г. Нерехта Костромской губернии. Пришли туда поздно вечером, было уже темно. Навстречу шумная толпа мальчишек. Я говорю:
– Скажите, пожалуйста, где тут гостиница?
И на всю жизнь запомнился дружный хохот и чей-то голос:
– Свалились, когда с горы скатились!..
Второй раз такой же неудачный побег – с тринадцатилетней Ирой.
Отчим Василий Васильевич был ярославец, деревенский, из-под Углича. Мальчиком его привезли в Питер – в корзинке, чтобы не платить за билет. Об этой корзинке он, подвыпив, любил рассказывать нам – пасынкам – в назидание.
Мне было трудно жить с отчимом. Когда я вернулся в Ленинград с юга, кто-то нашел мне комнату – в доме, где жил, по преданию, Раскольников. Комната эта была совсем в духе Достоевского. Узкая, как щель, на пятом этаже. Окно – на потолке, так наз. «верхний свет». Сестра моя вспоминает, с каким трудом она и Гриша Белых втаскивали по узкой питерской лестнице старую железную кровать – в это мое жилище.
Потом я поселился у Гриши, в крохотной комнатке возле кухни, в первом этаже, с окнами на второй двор (Измайловский, 7, кв. 92. впрочем, не Измайловский, а проспект Красных Командиров. Так называлась эта улица с 1918-го по 1944 год).
Литературными крестными отцами моими (нашими) считаются Маршак и Шварц. Иногда приплетают сюда и Горького.
На самом же деле, первый, кто приветил меня в литературе, булл уже упомянутый выше В. Черний, секретарь редакции журнала «Бегемот», старый сатириконовец, печатавший и в «Сатириконе», и в «Бегемоте», и в «Крокодиле», и в др. журналах под этим невеселым псевдонимом (В. Черний, то есть Вечерний) очень печальные рассказы.
Потом, когда выходила «Республика ШКИД», мы встретили его в Доме книги. Он работал в Огизе корректором. Хвалил «Республику ШКИД». И было грустно от этой похвалы…
Впервые – в журнале «Нева», 1994, № 4.
Честное слово
Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе.
Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер.
Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу.
Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.
Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.
Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.
Я подошел и окликнул его:
– Эй, что с тобой, мальчик?
Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:
– Ничего.
– Как это ничего? Тебя кто обидел?
– Никто.
– Так чего ж ты плачешь?
Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом.
– Давай пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.
И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал:
– Не могу.
– Что не можешь?
– Идти не могу.
– Как? Почему? Что с тобой?
– Ничего, – сказал мальчик.
– Ты что – нездоров?
– Нет, – сказал он, – здоров.
– Так почему ж ты идти не можешь?
– Я – часовой, – сказал он.
– Как часовой? Какой часовой?
– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем.
– Да с кем же ты играешь?
Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:
– Не знаю.
Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.
– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем?
– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик… он маршал был… он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».
– Ну?
– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду».
– Ну и что?
– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.
– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?
– Еще светло было.
– Так где же они?
Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:
– Я думаю, – они ушли.
– Как ушли?
– Забыли.
– Так чего ж ты тогда стоишь?
– Я честное слово сказал…
Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно.
– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?
– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?..
Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.
А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…
– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.
– Да, – сказал он, – хочу.
– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.
– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве?
– Почему же нельзя?