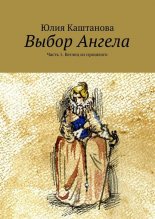Москва – Кавказ. Россия «кавказской национальности» Медведко Леонид
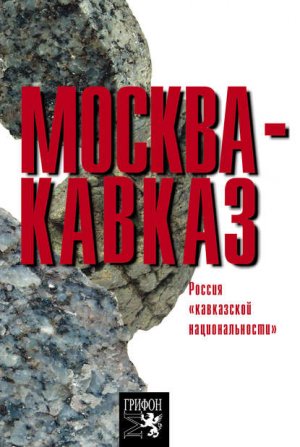
Предпослание от авторов-составителей
Квадратура кавказского круга
Предисловие Леонида Медведко
Кавказ после распада СССР в чем-то уподобился «пороховому погребу» Балкан в канун Первой мировой и Ближнему бурлящему Востоку после окончания Второй мировой войны. Южный Кавказ превратился вдруг в «ближнее зарубежье», а Северный Кавказ – в разных смыслах в жаркий Юг России. В целом же Большой Кавказ по новой стратегической географии США и НАТО располагается в их «расширенной зоне ответственности», так называемого Большого Ближнего Востока. Таковы новые геополитические реалии как для Кавказа, так и для России после их, казалось бы, «цивилизованного развода» и распада прежней семьи, называвшейся «дружбой народов».
Природа и «анатомия» возникших и все еще не остывших конфликтов по обе стороны Кавказского хребта – в их схожем диагнозе. Он может определяться не столько как «извращаемая история с географией», сколько как «заблудившаяся география в истории». Отсюда и все схожие рецидивы общей болезни в виде войн и конфликтов в противостоянии террора и антитеррора. Они связаны не только с тем, что в геополитике принято называть одним словом – «местонахождением», но и с их геоцивилизационным «условием пребывания». Так же как и Ближний Восток после распада Османской империи и ухода оттуда западного колониализма, Кавказ с распадом сначала Российской империи, а затем и Советского Союза превратился в «постимперское», а вместе с самой Россией в «постсоветское пространство».
В силу схожего с Ближним Востоком географического и геостратегического положения многие районы Кавказа подвергались во время двух мировых войн иностранным вооруженным интервенциям, да и оккупации тоже. Не однажды Кавказ становился и яблоком раздора как для соседних могущественных империй, Селевкидского Ирана и Османской Турции, так и западных колониальных держав и претендентов на мировое господство. Вместе с революциями, контрреволюциями и гражданскими войнами Кавказ и Россия переживали все это сообща. Такая общность судеб предопределена была в прошлом самой их историей с географией, которые дважды порождали мировые войны в прошлом столетии. Эта же общность обусловлена и в новом, ХХ! веке их схожей геоисторической сущностью и успела уже породить и «третью глобальную войну» террора и антитеррора. Оказавшись в эпицентре этой войны, Кавказ с точки зрения «стратегической географии» США и НАТО рассматривается не как продолжение геополитического пространства и зона ее интересов, а как некое ее «исламское подбрюшье» на пути силового продвижения демократии западного образца в «расширенных» границах Ближнего Востока. Вместе с «островом Крымом» Кавказ пытаются как бы оторвать от великого континента России-Евразии, присовокупляя без ведома и согласия его народов к глобалистской неоимперии Большого Ближнего Востока.
Но, продолжая выполнять роль сухопутного межконтинентального и межцивилизационного моста между Востоком и Западом, между христианским и нехристианским миром, Россия и Кавказ становятся ареной одновременного не столько столкновения, сколько сталкивания цивилизаций, их напряженного сопряжения и совместного противостояния перед общими вызовами и угрозами. Помимо четырех государственно-образующих многонациональных народов России, Азербайджана, Грузии и практически моноэтнической Армении на Кавказе проживает более сотни различных этносов. Если, по подсчетам ученых, на Земле существует около пяти тысяч действующих и потухших вулканов и столько же приблизительно этносов с признанными и непризнанными их культурными автономиями, то на Кавказе таких этносов и народов намного больше, чем тектонических потенциальных очагов сотрясений. На геополитической карте Кавказа горячих точек и «кризисных воронок» намного больше, чем тех самых очагов, которые периодически напоминают о себе разрушительными землетрясениями со всеми их немалыми людскими жертвами. У каждого из четырех государственно-образующих народов Северного и Южного Кавказа все еще кровоточат свои раны: здесь Чечня и Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия. Но на самом деле таких болевых точек гораздо больше. Очертить их «меловым кругом» на земле Кавказа столь же трудно, как пытаться вывести «квадратуру» этого круга. Вычерчивается он к тому же не мелом, а чаще кровью. При выяснении причин периодически возникающих кровопролитий и в поиске выхода из конфликтных тупиков те, кто оказались втянутыми в «кризисные воронки», своими силами выбраться из них сами не в состоянии. Не только потому, что не хватает своих собственных сил, но чаще всего еще и потому, что приходящие на помощь утопающим «спасатели», предлагая свои услуги, каждый старается вытянуть утопающего на своем берегу.
Такие «спасательные работы» ведутся уже более пятнадцати лет. Ровно столько, сколько прошло времени после случившейся катастрофы с советским «Титаником».
Слава богу, образовавшаяся после этой геополитической катастрофы «воронка» не затянула тех, кто сумел своими силами добраться до той или другой стороны Кавказского хребта. Но теперь им предстоит вместе как-то обустраиваться – вместе или порознь – на этой земле, называвшейся некогда Советским, а ныне Большим Кавказом, от моря Черного и до моря Каспийского по обе стороны – к северу и югу от Кавказского хребта.
Пятнадцатилетие постимперского сосуществования России и Кавказа в составе СНГ совпало со 150-летием одной из самых тяжелых для Российской империи Восточных войн.
Она вошла в историю не только как Крымская, но и как очередная Кавказская война. В написанном вскоре после ее окончания историческом труде «Кавказская война» известный военный историк граф Василий Потто, напоминая о четырехмерных – двух морских и двух сухопутных – геополитических координатах Кавказа по отношению его к России, Западу и двух соседних с ним восточных держав, писал: «Какое русское сердце не отзовется на это имя – Кавказ, связанное кровной связью и с исторической и с умственной жизнью нашей Родины…» Достаточно беглого взгляда на географическое положение кавказского перешейка, лежащего между двумя морями и между Юго-Восточной Европой и Юго-Западной Азией – двумя главными путями, которыми азиатские народы совершали свои передвижения в Европу, чтобы понять тот фатум, который «приводил русский народ к столкновениям на Кавказе».
Этот «фатум» стал еще более чувствительным как для России, так и для всего Кавказа после того, как Закавказье, вместе со значительной частью Северного Кавказа, оказалось включенным в «расширенные» Вашингтоном рубежи Большого Ближнего Востока. Расчеты Москвы на создание некого «пояса безопасности» на южных границах России не оправдались. С началом глобальной антитеррористической войны (в один из ее фронтов стал превращаться и Кавказ) «пояс» вместе с расщепленной «осью зла» терроризма на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива, Афганистане становится источником опасности и геополитических вызовов как для России, так и для всего Кавказа.
Надо отметить в контрапункт, что название и подзаголовок книги родились из абсолютно личного наблюдения, когда на Курском (или уж – Бог простит за неточность – на Казанском) вокзале в Москве после отмены поездов на Ереван, на Тбилиси, на Баку и, наконец, на Грозный, бродили мрачные люди с лицом небритой кавказской национальности и спрашивали у билетных касс: «Москва – Кавказ? Есть что-нибудь?» Уехать хоть куда, а там видно будет. Год 1992 – не точное время распада великой империи, в которой нам выпало счастье и горе жить.
Но в тот момент даже «хоть что-нибудь» отсутствовало (а поездов на Ереван и Тбилиси, насколько мне известно, и до сих пор нет). И это состояние дел в отношениях Москвы и Кавказа не только более нетерпимо, а прежде всего неестественно как для Москвы, так и для Кавказа. Это состояние замершего на полустанке поезда. Зачем было бы тогда строить эпохальную железную дорогу по непростым рельефам местности?
Воистину, Кавказ со мною и во мне! Никуда не деваться нам от этой реальности Москвы, да и всей России, от смешанных браков и детей двойного, а то и тройного-четверного этнического происхождения!
Подзаголовок этой необычной книги «Россия "кавказской национальности"» тоже подсказала сама жизнь. Вот одна из историй, во множестве происходящих на улицах Москвы. Приключилась она с одним нашим коллегой, земляком бывшего президента непризнанной республики Абхазия Ардзинба, тоже когда-то сотрудником Института Востоковедения РАН. В Московском метрополитене его остановил для плановой (предобеденной) проверки документов молодой страж правопорядка, наверняка получивший от своего начальства указание «бдеть» в связи с объявленной либо ожидаемой «повышенной опасностью террористических действий». При себе у рассеянного российского ученого паспорта не оказалось. Вид у него явно был «кавказской национальности». Поэтому на вопрос, кто он и откуда, коллега с ироничным подтекстом ответил, не скрывая происхождения своего «лица»: «Россиянин я, но, как видите, кавказской национальности». Отец у него армянин, мать – русская, и по-русски он говорит без какого-либо акцента. У него, судя по всему, были полные основания идентифицировать себя не только россиянином, но и русским. Так сказать, русский с кавказской внешностью, отказавшийся стать гражданином Грузинской Республики, от которой Абхазия откололась. Поэтому и принял российское гражданство, вот только паспорта по небрежности, свойственной многим ученым, у него при себе не оказалось.
Вместо паспорта он достал некий документ, дающий право постоянно проживать в Сухуми. Население этого города имеет кто российские, кто грузинские, кто армянские или иные паспорта. Но все они продолжают считать себя гражданами бывшего Советского Союза или Российской Федерации, которая официально взяла на себя бремя быть правопреемницей распавшейся империи. Все смешалось в доме, называвшемся некогда «Советским Кавказом», а в первые годы советской власти – ЗакФедерацией ЗСФСР. В то время она простиралась от Черного до Каспийского моря, охватывая пространство по обе стороны от Кавказского хребта. Ныне на Кавказе четыре независимых де-факто, но не признанных де-юре государства, не говоря уже о северокавказских республиках, которые входят в состав России, но…
И тем не менее не только на территории РФ Кавказ до сих пор остается «от моря до моря». Будучи, однако, разделенным не только Кавказским хребтом, но и многими, подчас непризнанными и спорными границами, тут накопилось за последнее время проблем, как говорится, выше гор. Каждый из участников книги и «Коллоквиума», разной национальности, в ту или иную часть своей жизни был связан с Кавказом. И потому каждый чувствует себя причастным к поиску решений этих давно назревших противоречий, особенно с учетом нарастающей угрозы терроризма, – и не только в России, а во всем мире.
Составители и авторы этого необычного сборника, который можно было бы назвать также по числу его участников «Квадратура Кавказа», предлагают читателям свое видение стоящих непростых и, похоже, все более осложняющихся, но во многом общих взаимосвязанных проблем геополитической и национальной безопасности России и трех новых суверенных государств Кавказа. Видение этих проблем каждым из них интересно по двум причинам. Во-первых, проведенный ими коллоквиум носит как бы междисциплинарный характер. Один из участников по образованию естественник, другой – философ, третий – социолог и четвертый – военный историк, востоковед. Во-вторых, будучи москвичами, все они представляют в той или иной мере (отчасти по внутреннему самоощущению) все четыре государственно-образующие нации на Северном и Южном Кавказе: русского с украинско-белорусской кровью; «частичного» армянина, чувствующего в себе русскую и польскую кровь; азербайджанца и грузина, навсегда ощущающих свою породненность с такими интернациональными городами, как Москва, Баку и Тбилиси. Так что каждый из них, в соответствии со своими взглядами на мир, постарался по-своему заглушить «зов крови» на генетическом уровне – гласом разума. Пусть читатель сам рассудит, насколько им это удалось.
О Москве и о Кавказе – «разная этажность»
Предисловие Роберта Оганяна
Здравомысленного и открытого разговора о взаимоотношениях Москвы и Кавказа жаждут обе стороны, но скрыто и лавируя, не зная в точности интересов друг друга. Может быть, это просто части чего-то единого. Пожалуй, так. Да и сейчас еще не время раскрывать все и обо всем – так говорят люди знающие. Однако пришла пора обрисовать в литературной форме хотя бы часть возможно нелицеприятной для всех действительности, которая не ноет уже, а кричит и отчасти захлебывается в этом крике. Отнесемся к этому крику честно, как врачующие (себя же зачастую!) – спокойно и с некоторой долей оздоровляющего цинизма.
Мы видим, как в нынешнем состоянии Москвы проявляется тот ужас, который был порожден в свое время именно отношением Москвы к регионам, – «до самых до окраин». Однако в отличие от сакраментальной кинопесни получилось не совсем так, и «человек не проходит как хозяин». Точнее, содержательный смысл сильно изменился.
Прежде всего, некоторые сомнения: принимают ли человеки человека за человека (может быть, это проходит медведь, барсук или лось?..) или как хозяина (собственник, директор, диктатор, просто мошенник?..). И шутку эту можно продолжать, только невесело и не надо.
Главное, следует сказать о страшной и готовой выплеснуться в любой момент ненависти русского человека против тех, которых он считает пришельцами, а именно, вероятно, против тех, кто проходил, но не совсем дошел. Также – о ненависти проходящих к москвичам. Вот-вот, центром этого нового вавилонского столпотворения ненависти взаимоне-понимания стала Москва. Это в принципе естественно, ведь в огромном мегаполисе легче добыть средства для жизни, найти работу, ограбить кого-нибудь или предоставить сексуальные услуги. Иди-ка проделай все это где-нибудь у «южных гор и северных морей»! Это характерно не только для выходцев из Кавказа, однако именно Кавказ во многом подготовил и обусловил ту двойственность в отношении самих москвичей к жизни, которая развивалась еще с середины прошлого века. Эта тема будет рассмотрена подробнее в главе «Биометрическая ксенофобия».
Помимо академических вопросов, затронутых «сенатором» этой книги профессором Леонидом Ивановичем Медведко, важным представляется рассмотреть коллизии бытовой культуры взаимодействия этих двух громадных общностей «Москва – Кавказ».
Москва на протяжении многих десятилетий платит немалую и временами страшную цену за свое положение региональной столицы мира. Многие москвичи издавна побаивались явления приезжих родственников и знакомых с Кавказа. В то же время пострадавшие «гостеприимцы» имели возможность похвастаться перед знакомыми и коллегами – вот, дескать, приехал человечек с юга, привез дынь или вина, и вот, коллеги, позвольте преподнесть кусочек вам с нашего стола. Однако кому это нужно, по большому-то счету? Дайте спокойно рассориться с тещей или женой (как вариант— подругой), развестись или воспитывать детей в небольшой квартире, где каждый погонный метр мягкой мебели на счету… И напротив, москвичи, приезжающие на Кавказ, страшно утомлялись от беспрестанного и навязчивого внимания, которое им уделялось, даже если человек поселялся в гостинице, сам по себе, – но ведь штука-то в том, что на усиленное внимание трудно не отреагировать. Нельзя сказать, что не хочешь ехать за сто километров смотреть средневековый храм, а просто желаешь погулять по городу в те несколько часов, которые остаются к вечеру от конференции или еще чего. Нехорошо получится. А многие, как принято по-московски, просто считали избыточное угощение и гостеприимство естественной халявной данью патрициям из метрополии от жителей южных протекторатов. Разве нет?
Хорошо описал это состояние москвича на Кавказе Андрей Битов в «Путешествии в Армению», очень многое там схвачено верно, хоть и время действия отстоит от нас теперешних лет на тридцать.
Как быть – подчиниться принятому стилю и внутреннему принципу поведения? Признать (москвичам) призрачное равенство Москвы с Кавказом? Или наоборот, поступить по-своему и заработать в результате лишние штрафные очки в глазах местной кавказской общественности («как же, мы его так приняли с хашем и шашлыками, а он ушел смотреть какой-то музей!»)? Или (для кавказцев) признать равенство Кавказа с Москвой (что было вовсе не так, конечно) и тогда уж не напрягать москвичей назойливыми просьбами провести в их доме несколько дней и ночей. Тут у человека, может быть, назревает развод, инсульт и раздел имущества, – а вот на тебе, приезжает друг-приятель или троюродная сестра со своими проблемами, о которых гость подробно и страстно рассказывает, ничуть не беспокоясь состоянием дел у своего московского хозяина.
Состояние двойственности описано многими писателями, физиологами и художниками в широком смысле слова. А Герман Гессе в своем мрачноватом романе «Степной волк» расположил два полюса этой двойственности на оси коллективистского (как бы человек) и внеобщественного (как бы волк) моделей поведения. Но все равно там и там, внутри и волка и человека остаются островки противоположностей, как в рисунке «инь-ян».
Трудно избежать ощущения, что кавказец в Москве, ставший со временем москвичом и будучи по сути русским, неизбежно сохраняет в душе эту вот контрастность двух начал. Ну да ладно, эти изыски – не для нас, не для обычного аполитичного человека, будь у него хоть два-три лишних высших образования.
Обратимся, быть может, к простой и понятной аналогии – этажности, или высотности.
Человек, всю жизнь проживший в горах, с трудом воспринимает равнинную действительность как данность, ничем не уступающую его привычному пейзажу в ценности почв или красотах зрительных. За одной горой другая, и так дальше. Приводилась подобная метафора еще Фридрихом Ницше, о карликах, которые миллионами копошатся у ног немногих гигантов, переговаривающихся поверху между собой сквозь века. Однако карликам внизу слышен только невнятный гул этого степенного разговора. Но в случае Москвы и Кавказа вовсе не справедливо было бы уподоблять какую-то сторону «карликам», а какую-то – «гигантам». Однако этажность все-таки разная, по непосредственному ощущению. В чем это выражается?
В Ереване я обозревал небосклон, на две трети закрытый холмами и горами. Куда ни пойди. В Москве же во второй половине своей жизни я приучился обозревать мир, обустроенный многоэтажными зданиями, заслоняющими небосклон примерно на такую же его часть. Простора все-таки нет, но его нет по-разному. Как говорилось у Дмитрия Галковского в его великолепном «Бесконечном тупике», когда вокруг некогда знатного памятника, который указывает рукой на некий простор, вырастают гребни высотных домов (почему, кстати, нет памятников, указывающих куда-нибудь ногой? Вопрос к Зурабу Церетели, если после неминуемой смерти Пеле – или даже до того, если продажи кофе этой марки потребуют срочной рекламной поддержки, – ему закажут соответствующий монумент в Рио-де-Жанейро). Простора больше нет, но памятник продолжает указывать. Как следует расценивать жест памятника? По-прежнему считать, что где-то там есть некий простор? Хм.
Конечно, не стоит воспринимать буквально, но что-то в этом есть.
Вопрос в том, насколько соотносится естественная, природой данная ограниченность кавказского горского взгляда (правда, в прикаспийском Баку пейзаж более ровный, но ради красоты метафоры об этом можно позабыть), с ограниченностью московской, обусловленной многоэтажными колоссами рукотворных зданий. Созданий человеческих. Иначе говоря, культура Москвы представляется созданной многовековым, непростым и порой мучительным человеческим старанием, тогда как культура Кавказа во многом еще относится к природному существованию, где глинобитный дом или даже резиденция генерал-губернатора ничего не могли заслонить сверх того, что уже было заслонено величественными горами – созданными Богом. Еще на моей памяти, относительно молодого человека, в Ереване были редкостью высотные здания, да и они располагались как-то на периферии города, в жилых районах, не нарушая облика вечного города (знающие старики поговаривали, будто он древнее самого Рима).
А Третий Рим, в соответствии с фразой измученного цитированием Филофея, – все-таки Москва, так получается.
Важнейший вопрос культуры на сегодня – определиться: Москва – Кавказ? Либо в промежутке между этими относительно равновесными по культурной силе понятиями может стоять союз «и»? «Москва и Кавказ»? Или же точка, грубо: «Москва. Кавказ». Наконец, возможен вариант и запятой, по-европейски мягко: «Москва, Кавказ»…
Ироническое «закавычивание» краткого предисловия могло бы разочаровать поклонников Кавказа в Москве, а также и москвичей, но, дай бог, не разочарует.
Мемуарные заметки московского бакинца
Чингиз Гусейнов.
Беллетризируя прожитое… – я, однако, уже прибегал к подобному жанру, и опыт мой был, правда, похож на заметки по случаю, и, не придумав им собственного названия, перефразировал пушкинскую строку, заменив его «суровую прозу» на мои «воспоминанья», и так родилось: Лета к воспоминаньям клонят. Потом решил, слово недавно услышал, понравилось, кстати, мало кто его знает и в словарях нет, – вынесу в заглавие: Амбидекстр, это о таких, как я, который левша, но пишет левой и правой, а ещё и зеркально. Напечатал: Левша, пишущий правой, но вышла опечатка в последнем слове, лишняя д, и вместо правой прочиталось самонадеянное правдой, хотя воспоминания – взгляд субъективный. У амбидекстра, как свидетельствуют учёные мужи, два речевых центра, и с годами, старея, он сохраняет детское воображение и, мысля диалогично, не нуждается в собеседнике, ибо он у него есть – он сам. Так что же: заметки для себя?
Рубеж между реальным сегодняшним – вот данность, кажется, будет так всегда, – и возможным небытием обозначился после того, как была поставлена точка в большом труде. Однако такое случалось и прежде, а потом оказывалось, что ещё топать и топать. Но ощущение, что теперь – правда: завершён за тридцать лет романный цикл, обрамлённый именем Мухаммеда: первое – «Мамиш…» о Мухаммеде несвященном (в Германии, издав, так и назвали: Несвященный
Мухаммед), последнее – о пророке: Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина.
И будто выпотрошился. Ни к чему не лежит душа, кроме как – запечатлеть в дневнике, предавшись иллюзии творчества, день прожитый, возвращаясь иногда в вчерашнее. А потом с ходу переключиться на компьютерный преферанс, не мирясь с виртуальным проигрышем и постоянно обнуливая результат в надежде на везение в следующей игре. Можно ив нарды сразиться, но – лучше вживую, да не с кем. То же с шахматами: партнёры кто умер, кто далече.
И тут – мемуарное сочинительство. Но для кого, главное – зачем? Ответ: мол, ни к чему иному не приучен + многолетняя привычка сидеть за письменным столом + оправдание известного тезиса ни дня без строчки, ставшего обузой. Вот и мечешься между для кого и надо.
Не выпячиваться. Этичнее, когда образ автора элиминирован, вынесен за черту ради условной объективности или усиления автоиронии. Однако быть и субъективным, когда при подчинённости не утрачиваются господствующие высоты, но глядеть не сверху вниз, это – заповедь, часто нарушаемая, как и все другие, а снизу вверх. Стоишь у врат памяти, и выстроились в очередь персонажи, каждый в ожидании быть услышанным, среди них – и позитивные есть, случаются кумирные, но лучше без них, и деструктивные. И воспоминания чтоб были обращены вовне – быть экстравертивными, но и внутрь тоже – интровертивными. Но главная опасность, которая подстерегает сегодня, – быть дидактичным, поучать, что сродни занудству, тем более что каждый стремится жить своим умом. Так что в большей мере быть по стилю рефлективно-аналитическим, нежели сентиментальным, однако сохраняя при этом поэтичность.
А может, выстроить беллетризованную автобиографию в жанре, не раз опробованном и реализованном мной, в котором – прибегну к научной терминологии – познавательно-исследовательское, документальное содержание облачено в художественную форму?
…В одной средневековой рукописи на тюркском, у огузов, – ну вот, пошло катиться по наклонной сочинительство, – жизнь человека разделена на двенадцать периодов: первый – дух, витающий на крыльях любви, коль скоро явился в мир, тут один лишь донулевой минус; второй – утробный, он включается в возраст человека, и начало вычислимо лишь приблизительно, простая арифметика, с вычетом определённых природой девяти месяцев; третий – младенчество; четвёртый – детство; пятый – отрочество; шестой – юность; седьмой – молодость, точнее, возмужание, и я бы это определил, если б спросили, всего лишь одним: вдруг тебе открылось, что ты, да, да, именно ты, мнящий себя бессмертным, оказывается, смертен, и отныне тебя не отпустит формула древних мудрецов: «Жизни конец наблюдай»; восьмой – первая зрелость, тут у кого как, может даже и наступить, хотя неясно, что это – зрелость? твёрдо стоишь на ногах? кормилец? уже познал боль утрат самых-самых близких? девятый – вторая зрелость (годы старости? дряхлости?); десятый – третья зрелость; одиннадцатый – младенчество; двенадцатый – возвращение в утробу земли, а души – чьей куда по деяниям его и помыслам: в ад или рай.
Однако придётся не выходить за черту десяти, без одиннадцатого: как старому младенцу рассказать о себе? и двенадцатого, о чём, иншалла, поведает Клио, если будет на то воля Всевышнего, Он терпит муз рядом с Собой. И – объединить в одно витающий дух + утробный + младенчество, но разве поймёшь, когда завершается одно и начинается другое? Ав каждом присутствует сей день, прерываемый… однако пора:
Имя из сказки Мелик-Мамед
Так, именем азербайджанского героя-богатыря звали деда по материнской линии, самая изученная мной, а фамилия – Рахмановы, корабелы, как говорили в семье; потом узнал, что шили они паруса.
Жили в старой части Баку, дом как крепость. Служил Мелик-Мамед в пароходстве «Меркурий» капитаном торгового судна «Наследник» (в советские годы – «Цюрупа»), плавал по Куре и Каспию, удостоен указом «Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая» от 18 марта 1905 года «по выдержании испытания в науках» звания «капитана первого разряда», впоследствии – у меня старая визитка: «капитанъ дальняго плаванья», и «смерть застала его, как о нём писали, на пристани, после швартовки судна».
Дабы увлечь внучку Дину рассказом о деде её деда, придумал ему, обыгрывая а-ля революционное прошлое его, уже начинался пересмотр всего и вся, «пиратские» приключения… Смотрит он на меня горделиво со своего портрета, густые чёрные брови, чёрные усы. Не он ли дважды выполнял, дабы не сочли трусом, поручение Наримана Нариманова взять на борт тираж его книжки «С каким лозунгом мы идем на Кавказ?», отпечатана в Астрахани для распространения тайного в Баку, полна выспренности: «На высоких вершинах Кавказских гор водружено будет Красное знамя». А потом тем же путём – гневное письмо Нариманова бывшему другу Усуббекову, премьеру независимой от большевистской России Азербайджанской республики. Оба они романтики-утописты, но первый успел за месяц до загадочной смерти в Москве покаяться в письме малолетнему сыну, нечто вроде завещания, а второй погиб от руки террориста, – дела и помыслы их пахли кровью. «Близок грозный час, – стращал Насиббека, – когда предстанете перед судом рабочих и крестьян!» – письмо в общую почту вложил племянник Мелик-Мамеда юный Гусейн, курьер в правительстве, точнее – министерстве иностранных дел, впоследствии, такие игры фортуны, он станет «вождём» Советского Азербайджана – Председателем Совнаркома Азербайджана.
Республика, прозванная «мусаватистской», вскоре и впрямь прекратила существование: в апреле 1920 г. части 11-й Красной армии вторглись, дабы «не обидеть восставший народ», в Баку, затем двинулись в Армению, оттуда – в Грузию, везде шли «навстречу пожеланиям восставшего народа», неся на штыках «счастье» Кавказу.
Рахмановых было три брата, и все они жили в отцовском доме на Персидской улице, д. 44. У старшего Али-Паши («паша» с ударением на последнем слоге, «генерал» по-турецки) рождались только мальчики, плеяда вождей будущего Советского Азербайджана; среднему, моему деду Мелик-Мамеду, жена, моя бабушка, рожала лишь девочек, Махбубу и Махфират, ставшей моей матерью; а младший брат Али-Ага вот-вот женится, – разница между старшим и младшим – почти двадцать лет.
У меня сохранилась копия брачного свидетельства – кябина моих деда Мелик-Мамеда и бабушки Наргиз, или Нарцисс: арабская вязь, а сбоку перевод на русский поблекшими фиолетовыми чернилами, исполнен нотариусом, красным подчёркнуты имена жениха и невесты[1]:
Жених бакинец Мелик Мамед Гаджи Гаджибаба оглы[2], 35 лет. Поверенный его – отец названного. Невеста бакинская жительница Наргиз Ханума – так в тексте, не ханум, а ханума на грузино-армянский манер – Мешади Али-Акпер кызы (Мешади – титул моего прадеда, обретённый после посещения им города Мешхед в Иране, священного у шиитов), поверенный ея бакинец Гаджи Агабаба Зейнал оглы.
Кябинная сумма сто восемьдесят пять червонец, долг жениха. Кябин вечный. 18 Зигиджа 1319 – 27 Ноября 1911 года отец жениха названный Гаджи Гаджибаба пожизненно ручается, а после смерти ответствует жених. Так как названный Гаджи Гаджибаба неграмотный, по его просьбе расписался Кербалай Мустафа Гаджи Мирага Мамед Касим оглы[3] Гаджи Агабаба Зейнал оглы. Кябин совершил молла мечети «Джами» Ахунд Мамед Ахундзаде. И указан переводчик: Перевел Ибрагим Джеваншир.
Бакинский Народный нотариус Николевского района (смесь нового, «народный», и старого: центральный район Баку – в честь императора) удостоверяет соответствие вышеизложенного оригиналу и что доход в казну и гербовый взыскан 1921 года Декабря 28 дня по реестру № 7618.
Дед мой, как все тогдашние мужчины, мечтал о сыне, и потому – с согласия, говорят, первой жены – привёл в дом вторую, Мейранса, и та родила ему сына Рахмана, а следом дочь Лейлу, так что мечта осуществилась и неведомо, почему дед согласился принять от своего боцмана в дар его сестру: якобы шли с ним по улице, и он услышал песню Улицы водой полила, / чтобы не было пыли, когда любимый придёт, заслушался, очарованный нежным девичьим голосом, спросил, кто она, и боцман ответил: «Она моя сестра, и если тебе нравится, как она поёт, дарю её тебе!» – таков был знак особой преданности боцмана своему капитану; третью жену звали Ширингыз, Сладкая девочка, она оказалась бездетной; я её помню – худую и высокую в моём представлении подростка, оранжевые от хны волосы, быстрая и подвижная, с крикливым голосом: она внесла в семью склоки, ну да, ведь сальянка, а сальянцы ух какие интриганы! – говорила о ней с раздражением бакинская родня бабушки.
Первую жену, то есть мою бабушку, дед как будто любил, о чём можно судить по тому – это я в детстве не раз слышал, – что часто ей пел, когда она была единственной его женой, народную песню, чрезвычайно популярную поныне: Ты – моя красавица, / Свет моих очей. / Даже в раю не сыщешь / Такой, как ты, гурии… и когда я её слышу («рай» в советские годы был заменён на «в мире»), тотчас представляю себе картину, кажущуюся мне необычным, даже смешным, но мне приятно это видение: дед песней изъясняется бабушке в любви!..
Я хорошо помню жён деда, знаю многое из подобного быта не понаслышке. В многожёнстве – часто дискутируемая проблема, трактуется порой прямолинейно, даже примитивно – видят принижение женщины, удовлетворение мужчиной неуёмной похоти, хотя проблема эта в меньшей мере, так сказать, сексуальная, а в большей – экономико-социальная, связанная как с наследником, так и вообще наследством, укреплением уз семьи, клана, расширением финансовой основы семьи. Зачастую, если жена не может родить сына и вообще – рожать, сама приводит вторую жену к мужу; такое лично наблюдал не раз, тянется с библейских времён (Авраам – Сарра – Агарь, или Хаджар на мусульманский манер).
Многожёнство давало возможность женщине завести семью, обрести дом, состояться, оно не навязывается в исламе, не является обязательным, обставлено рядом существенных и зачастую невыполнимых условий, связано с возможностями мужчины содержать жён, обеспечивая всем им равные права; это – как бы само собой разумеющееся. И есть в Коране: да, мужчина может привести в дом новую жену и разрешено иметь четырёх жён, но! – и тут наиглавнейшее условие – если мужчина в состоянии ровно разделить свои чувства между жёнами! Если этого сделать не в силах, то новые женитьбы категорически воспрещаются. И ещё: великим грехом при многожёнстве считаются склоки и раздоры в семье, вызванные ревностью жён друг к другу. И дети жён считаются родными братьями и сёстрами.
Бабушка моя, будучи в идеальных отношениях со второй женой мужа и понимая, что этот брак был вызван желанием мужа иметь сына, решительно не примирилась с третьей, внесшей интриги в семью.
…Боже, какой разгорелся спор вокруг Сладкой девочки, когда в апреле 2006 года с женой Еленой я побывал – впервые в её жизни – в Баку, дабы отметить 80-летие родного брата Али-Икрама, знаменитого тариста, музыканта-исполнителя в Азербайджане, ныне почти ослеп, увы. И моя несказанная радость, что ночевал в комнате, в которой родился и где ночевал в последний раз ровно полвека назад. Тут собралась вся наша многочисленная родня, в том числе троюродные мои сёстры по единому деду, но разным его жёнам – первой и второй, Афа и Лала: утверждали, что третья жена Ширингыз – никакая не сестра боцмана, а младшая сестра их бабушки. А я доказывал, что это исключено, чтоб женились на сёстрах, и «младшая сестра» – метафора, жёны так обращались друг к другу. Часто называлось имя Ширингыз, смысл которой был известен Елене, знала историю, и когда произнесла, прозвучало с русским акцентом, сладкозвучной чёткостью, и женщина, прислуживающая брату, Судаба – весёлая, музыкальная, иногда устраивают семейные «концерты», он играет на таре, а она поёт газели; увы, ни слова не знает по-русски – вдруг произнесла, обращаясь к Елене: «Ти хароши Ширингыз!» – расхохотались, прервав спор. Трудно было представить, что вот так вместе собрались впервые, столько тепла, уюта и близости исходило от таких разных, но родственно связанных, и удивительно, что с девочками… какое уж там: каждой вокруг пятидесяти, а видимся-встречаемся… впервые.
Третью женитьбу бабушка моя рассматривала как мужнюю блажь, ожидая лишь повода, чтобы выразить ему свой протест. И повод вскоре нашёлся: скандал с умыкнутой дочерью – моей матерью.
«Свет моих очей» Наргиз из Крепости
Можно сказать: «велика роль бабушки в моей жизни» – банальность. Пережила не только мужа – почти на тридцать лет, – но дочь, мою мать, на десять лет, и умерла в мои двадцать семь. Растила двух дочерей – старшую Махбубу благополучно выдали замуж за человека набожного и образованного, знатока Корана, имя его Али-Мамед, а звали меж собой Бирдже-даи, «Единственно-неповторимый дядя», он был родом из Пиршаги, тихого живописного пригорода Баку, зелёного, песчаного, некогда было облюбовано азербайджанскими поэтами, пока их не разметало в 1937-м: именно здесь великий Мюшфик создал знаменитое, самое значительное, с моей точки зрения, в советские годы стихотворение «О, если бы вернулись те дачные дни!.…», светло-жизнерадостное содержание которого звучит в свете последующей его трагедии с ностальгической болью, – да простится мне сентиментальность.
Угораздило Али-Мамеда в одно из гостеваний прийти в Крепость, где жила семья бабушки, и узреть, полюбив, будущую жену, а когда уходил – такое совпадение – попал в бойню азербайджанцев, началась так называемая трёхдневная мартовская война 1918 года, приведшая к власти большевистскую Бакинскую коммуну, – ранили его в спину, чудом остался жив; однажды я сквозь сетку-майку увидел шишку на его лопатке.
А за младшей дочерью Махфират не уследили: сбежала из дому – ей всего лишь четырнадцать! – с полюбившим её (а она – его) моим будущим отцом. Побег вызвал переполох в семье, тем более что случилось в девичьем доме бабушки, где в маленьком дворике жили братья с семьями… хватились – нет Махфират! Соседи видели, как она в шелковом платке, сама, без принуждения с чьей бы то ни было стороны, села с молодым парнем в фаэтон и умчалась в неизвестном направлении.
Дед был взбешен: как могла жена допустить, чтобы дочь умыкнули?! Позор на весь род!.. Впрочем, уже времена советизации Азербайджана – кстати, потом «советизация», в котором оттенок насилия, заменило словосочетание «установление Советской власти», – к тому же мой отец именно в тот период, как напишет потом в автобиографии, служил в рядах рабоче-крестьянской милиции, да и никакого нарушения закона: всё случилось по доброй воле девушки.
Побег матери, вписываясь в популярный тогда лозунг: Революция в быту! Революция – в сознании!.. всегда меня волновал, даже восхищал в свете искусства соцреализма, особенно как предался сочинительству: такой сюжет! вызов, брошенный патриархальному миру! свобода личности!.. Но родня не любила говорить о дерзостном поступке, а мой старший брат Али-Икрам, ревностно чтящий наши обычаи, всегда обходил в беседе со мной эту тему, будто ощущал неловкость от приключившегося, а то и возражал: ничего подобного не было, выдумки недругов семьи.
Но одно дело – художественный вымысел с интригой в духе борьбы личности с косностью или раскрепощённой женщины Востока, бросившей вызов патриархальному миру (увы, мной по-настоящему замысел так и не был реализован, а если что и написал, – назывное, декларативное: вот бы где соединились революционность с мистикой духа, на крыльях любви витающего), а другое – как было в конкретных бытовых обстоятельствах того реального мира, осуждающего подобные выходки.
Побег дочери будто бы послужил причиной раскола в семье деда, тот, рассказывают, жестоко избил бабушку, прогнав её из дому, при этом даже приводились его слова: Не удержала дочь – сама отправляйся следом за нею! – за что отец – мой прадед, любивший свою невестку, тоже прогнал сына из дому: иди, мол, к двум другим своим жёнам, которые, кстати, жили в другом доме, который дед купил для них (где поныне живут троюродные мои – по деду – сёстры, дети его дочери Лейлы от второй жены, те самые Афа и Лала, и где хранились диплом и визитка деда).
Разрыв был, но повод, думается, другой: поступок дочери вдохновил бабушку на решительный шаг – сама, давно в ней копилось, собиралась с мужем расстаться: привёл в дом, прихоть, блажь, третью жену.
Сразу после составления копии брачного договора (очевидно, потребовалось советское подтверждение брака, заключенного за двадцать лет до этого) и состоялся побег моей матери; и бабушка, покидая дом мужа, не забыла забрать с собой кябинную грамоту, почему она и оказалась у меня; так что терпела-терпела и однажды ушла жить в семью дочери, тем более что та вскоре родила сына – первого внука моего деда. Однако не могу не сказать, что для других, для внешнего, так сказать, мира уходу бабушки из дома мужа был придан вполне житейский резон: надо помочь дочери, некому присмотреть за ребёнком, ибо не справляется с учёбой, – ах она ещё учиться пошла! – судачила родня, это так не принято, чтобы замужняя училась! Впрочем, скандальный брак моей матери оказался удачным, и родня вскоре примирилась с молодой семьёй.
Редкое имя – Махфират
Слово, взятое из Корана: «Молитесь Всевышнему, дабы добиться Его благосклонности, и Он простит вам ваши грехи!» А вообще-то многие имена у мусульман – коранического происхождения.
Если со дня моего рождения 20 апреля 1929 года… – о, как переживал, когда в юности, перелистывая энциклопедии, моё любимое занятие, узнал, что именно в этот день, в этом месяце родился. Адольф Гитлер; но возликовал, открыв ближе к почтенным годам, что день-месяц моего рождения – те же, что у пророка Мухаммеда, да простит Всевышний мой грех, что рядом поставил имена посланника Его и злодея из злодеев.
Так вот, если вычесть положенные месяцы со дня рождения, будет июль предыдущего года, пик жары, когда на даче в Мардакьянах под Баку (до моря идти долго, лучше выйти из дому рано, когда лучи солнца не столь обжигающие) отдыхали отец и мать в свежевыбеленном известью домике с единственным окошком на стене, зияющим чёрной дырой.
Однажды мать с отцом, я стоял рядом, долго смотрели на это окно, и мать, прижав меня к себе, сказала: Запомни, мы здесь жили, когда тебя ещё не было на свете, но ты должен был появиться, – и переглянулась с отцом, он был в майке-сетке, в их взгляде была какая-то странная, загадочная теплота.
Дачу с огромным песчаным участком, чем испокон веку владели родители бабушки по материнской линии, с обилием стелющихся по песку виноградников, приземистых инжировых – много позже узнаю, что это смоква, – деревьев и высоких шелковиц с крупными сладкими ягодами, белыми, чёрными и розовыми, в советские годы отняли, оставив нашим лишь малую часть у дороги с единственным чёрнотутовым деревом, взобравшись на которое можно увидеть море. Недавно перевезли сюда прах деда бабушки, потревожив его дух, с бакинского кладбища в Чемберекенте[4] – намечается прокладка дороги, строительство многоэтажных домов, прежде всего – здания ЦК Компартии (с добавкой или уточнением в скобках б – большевиков) республики; прах похоронили в дальнем углу дачи у каменного забора, засыпанного песком.
Я рос в утробе, эволюционируя… короче, стремительно зрел, ускоренно проходя, по Дарвину, миллиардный биологический путь от одноклеточных – через обезьяну, до человека[5].
А между тем жизнь в молодой семье текла своим чередом, как можно домыслить на основании впоследствии услышанного, где были свои бытовые радости и неурядицы, согласия и ссоры, всевозможные семейные интриги: мать была коренной бакинкой, а отец – из пришлых, шемахинец, с множеством братьев, переселившихся в Баку.
Была моя мать при собственном рождении, как рассказывали, полна жизни и так здорова, о чём свидетельствовали алые пухлые щёки, что это отчего-то встревожило суеверную мою прабабку. Смутно её помню: маленькую, сгорбленную, и удивился, когда увидел бабушку с её мамой, и в глазах бабушки – нечто детское. Прабабка, боясь сглаза, велела, чтобы ребёнку чуть-чуть выпустили кровь: младенцу надрезали слегка спинку у лопаточки – оказалось, неудачно, – и оттуда брызнула кровь, так хлестала, что еле остановили, с тех пор ребёнок рос хилым и болезненным. Кстати, эти знахарские способы лечения погубили впоследствии самою прабабушку: она захворала и слегла, попросила, чтоб пылающим факелом вытеснили из глиняной пиалы воздух и приложили к её смазанной жиром груди, дабы втянула чёрную дурную кровь, от которой – хворь, так лечили простуду издавна. Уснула с приставшим к груди сосудом, а утром застали мёртвую, и я на всю жизнь запомнил чёрный круг пиалы, отпечатавшийся у неё на груди, а посреди – тёмное вздутие (и бабушка моя умрёт от этого же, но вместо глиняной пиалы – банка стеклянная).
Мать, когда ей было четырнадцать, случайно встретил мой будущий отец Гасан и… умыкнул, точнее, она бежала с ним: любовь была обоюдной, это неистребимое убеждение сыновей. Отец был старше матери, если судить по году рождения в автобиографии, 1897, на двенадцать лет.