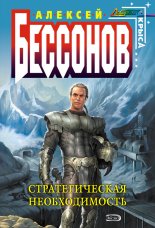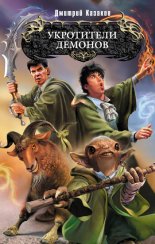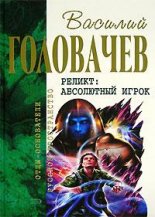Дети ночи Симмонс Дэн
– Достаточно и масок, – сказала Кейт.
По утренней сводке уровень лейкоцитов у Джошуа был умеренно низким.
– Привет, Сильвер, – бросил Лучан, завязывая маску. Кейт покачала головой. Она знала, что Лучан когда-то ездил с отцом в Америку, но провел там всего несколько дней. Откуда он знает про Одинокого Ковбоя?
Лучан, казалось, прочел ее мысли. Она увидела по его глазам, что он ухмыляется под маской.
– Записи одной старой радиопостановки, – пояснил он. – Кое-что я привез из Нью-Йорка несколько лет тому назад.
– Когда был еще ребенком, – уточнила Кейт.
Как только Лучан начинал казаться ей слишком привлекательным, она заставляла себя вспомнить, что он еще не родился, когда был убит президент Кеннеди, и что ему было всего три года, когда убили Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Думая об этом, Кейт ощущала себя очень старой, хотя в год гибели президента ей самой исполнилось всего десять лет, а когда застрелили Бобби, она еще ходила в школу.
Лучан пожал плечами.
– Ладно, старушка. Один – ноль. Так мы будем смотреть твоего ребенка?
Кейт пошла вперед. Ее вдруг холодной волной окатило предчувствие, что Джошуа лежит в своей кроватке уже мертвый и остывший.
Ребенок был жив. Он лежал на спине, сцепив маленькие ручонки, и смотрел на Кейт снизу широко раскрытыми глазами. «Несовершеннолетний пациент мужского пола номер 2613» – вскоре он станет Джошуа Артуром Нойманом – был голеньким, если не считать сбившейся тонкой пеленки, и походил на маленького птенчика, выпавшего из гнезда раньше времени: вздутый живот, выступающие под бледной, розоватой кожей ребра, тоненькие искривленные пальчики… В том месте, где пластырь удерживал иглу капельницы, бросалась в глаза заметная припухлость.
Кейт хотела было проверить капельницу, но Лучан опередил ее, подрегулировав опытной рукой приток раствора.
Кейт перегнулась через бортик кроватки и, склонившись к ребенку, нежно поцеловала его в щечку.
– Подожди еще несколько дней, малыш.
Ребенок сморщился, будто вот-вот готовый расплакаться, но вместо этого вздохнул. Теперь он перевел взгляд на Лучана, тоже наклонившегося над кроваткой.
– Эй, парень, – сказал Лучан театральным шепотом, – выступает Нил Даймонд. – И он промычал несколько тактов из песни «Прибытие в Америку».
Кейт сняла металлическую табличку, висевшую на гвоздике у кроватки в ногах малыша, и нахмурилась, пробежав глазами записи, появившиеся за время ее отсутствия.
– Наконец-то они удосужились сделать анализ крови, который я просила еще три недели тому назад, – сказала она. – Я бы сама его сделала, будь в этой чертовой дыре приличный микроскоп.
– И что там? – спросил Лучан, щекоча пальцем животик ребенка.
– Такое же низкое количество Т-лимфоцитов, что и раньше, – ответила Кейт. – А еще подтверждается критический дефицит аденозиндезаминазы.
Лучан вдруг выпрямился, изобразив деланое внимание, закрыл глаза и затараторил скороговоркой, будто на экзамене:
– Аденозиндезаминаза… Жизненно важный фермент, необходимый для расщепления токсичных побочных продуктов обычного метаболизма… отсутствующего при таких редких расстройствах, как дефицит аденозиндезаминазы.
Он открыл глаза и уже серьезным тоном сказал:
– Извини, Кейт. Это ведь неизлечимо?
– Теперь излечимо, – отрезала Кейт, швырнув табличку на батарею отопления с такой силой, что лязг металла эхом прокатился по небольшому помещению. – Это весьма редкое нарушение… возможно, меньше трех десятков детей во всем мире… Но средство есть. В Штатах мы пользуемся…
– Искусственным ферментом ПЕГ-АДА, – договорил за нее Лучан. – Но я сомневаюсь, что в Румынии есть ПЕГ-АДА. Возможно, его нет во всей Восточной Европе.
– Даже в партийных больницах?
Лучан медленно покачал головой. Кейт обратила внимание на то, какой у него мужественный подбородок, насколько гладкая кожа на щеках. Чтобы прочитать лабораторный анализ, он надел круглые очки в черепаховой оправе, но вместо придания солидности и серьезности они преобразили его в совершенного мальчишку.
– Я могу заказать этот фермент в Америке или через Красный Крест, – сказала Кейт. – Но к тому времени, когда посылка пробьется через все препоны и проволочки, пройдет не меньше месяца, а Джошуа может умереть от какого-нибудь вируса. Нет, быстрее получится, если я увезу его с собой… – Она помолчала. – Вообще-то ты молодец, Лучан. Знать о дефиците аденозиндезаминазы… Большинство практикующих врачей в Штатах об этом и слыхом не слыхивали. Что ты получил на выпускном экзамене?
– Четыре целых ноль десятых. Выдающиеся результаты во всех областях, в том числе и в делах любовных. – Лучан опять наклонился над кроваткой. – Ну что, малыш. Давай-ка двигай вместе со своей трансильванской попкой в Боулдер, чтобы мамаша доктор Нойман всадила тебе в нее дозу ПЕГ-АДА.
Джошуа в своей кроватке, казалось, обдумывал эти слова, после чего сцепил кулачки покрепче, сморщился и громко заплакал.
Глава 11
В американское посольство Кейт отправилась на следующее утро. Сначала она прошла по бульвару Бэлческу до приметного здания отеля «Интерконтиненталь», потом квартал по улице Батиштя до улицы Тудора Аргези. Хотя еще не было и девяти, на узком тротуаре уже выстроились люди. Испытывая чувство вины, но зная, что у нее нет нескольких часов или дней чтобы выстаивать в очереди, Кейт прошла вперед. Румынские солдаты взглянули на ее паспорт и махнули в сторону калитки, где стоял морской пехотинец. Тот кивнул, вошел в телефонную будку и начал что-то говорить в черную трубку.
Кейт посмотрела через улицу, где у кирпичной стены выстроились несколько участников акции протеста. На стене висел стяг с надписью: «КВВ. МЫ ОЖИДАЕМ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ. 1982–1987». В руках у людей были плакаты: «ГОЛОДОВКА. ДАЙТЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ», «ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?», «ОСТАНОВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ», «ВАШИНГТОН СКАЗАЛ “ДА”. ПОЧЕМУ РУМЫНИЯ СКАЗАЛА “НЕТ”?», «ЧТО ГОВОРИТ АМЕРИКАНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО?»
Пехотинец вернулся, румынский солдат открыл черную металлическую калитку, и Кейт вошла в посольский двор, кивая с извиняющимся видом терпеливо стоящим в очереди людям.
Оказавшись внутри, она прошла через металлодетектор типа тех, что устанавливаются в аэропортах, отдала сумочку для проверки, после чего подверглась осмотру уже с помощью портативного металлоискателя, которым по ней водил скучающий охранник. Сумочку ей вернули и пропустили в дверь на первом этаже посольства.
Некогда просторный зал теперь был разделен на комнату ожидания и десяток служебных отсеков. Везде выстроились очереди: самую длинную составляли румыны, ожидавшие виз в дальнем конце помещения; американцы же стояли в очередях поменьше у каждого окошка. В комнате ожидания было восемь рядов стульев, большую часть которых занимали американки с румынскими младенцами и маленькими детишками. Царившие здесь шум и разноголосица выбивали из колеи. Пока Кейт ожидала своей очереди на запись у дежурного чиновника, сердце у нее заныло от ощущения безнадежности затеянного.
Через два с половиной часа неприятное предчувствие получило подтверждение. За это время Кейт успела переговорить с четырьмя служащими посольства и пригрозила поднять шум, если ей не позволят встретиться с кем-нибудь более высокопоставленным. К ней спустился некто из канцелярии посла, выдвинул складной металлический стул, оседлал его, улыбнулся и медленно, с расстановкой объяснил ей то же самое, что и предыдущие четыре чиновника.
– Мы просто не можем пускать в Штаты детей со СПИДом, – убедительно говорил этот человек. У него были безукоризненные зубы, безукоризненная стрижка, безукоризненная стрелка на серых брюках. Он невнятно представился – что-то вроде Кэрли, Коули или Кроули.
– Проблема СПИДа в Соединенных Штатах и так достаточно серьезна. Наверняка вы это понимаете, миссис… м-м-м… Нойман. – Доктор Нойман, – в очередной раз поправила Кейт. – У этого ребенка нет СПИДа. Я специалист по заболеваниям крови и могу поручиться.
Чиновник поджал губы и медленно кивнул, как бы оценивая какие-то факты, труднодоступные для его понимания.
– А Троянская клиника это подтверждает?
Кейт фыркнула. Троянская клиника представляла собой самую обычную поликлинику, для которой стало подарком судьбы, что на нее пал выбор американского посольства в проведении лабораторных анализов на гепатит В и СПИД перед выдачей виз. Кейт скорее поверила бы прогнозам астролога, чем выводам лаборантов Троянской клиники.
– Я это подтверждаю, – сказала она. – Пять недель назад мы делали анализ на ВИЧ в Первой окружной больнице. Одновременно мы исключили СПИД и выявили отсутствие гепатита. У меня имеются результаты анализов, подтвержденные и письменно заверенные докторами Первой окружной больницы Рагревску и Григореску, главным патологом и его помощником.
Посольский – Кэрли? Коули? нет, все-таки Кроули – поджал губы, снова кивнул и сказал:
– Но нам все же обязательно требуется заключение Троянской клиники о том, что ребенок здоров. И, разумеется, письменное разрешение на усыновление хотя бы от одного из его родителей.
– Черт побери, – сказала Кейт, наклонившись вперед так резко, что мистер Кроули чуть не свалился со стула. – Во-первых, повторяю в десятый раз: сведений о родителях ребенка не имеется – ни об отце, ни о матери. Никаких сведений. Он был брошен. Покинут. Оставлен умирать. Даже в детском доме в Тырговиште не знают, кто принес его туда. Во-вторых, ребенок не здоров – это одна из причин, по которой я забираю его в Штаты. Я уже раз пятнадцать это объясняла. Но он не заразен. У него нет гепатита В. У него нет СПИДа. Никаких заразных болезней. Насколько мы знаем, у ребенка нарушение иммунной системы, которое, скорее всего, носит генетический характер и почти наверняка приведет его к смерти, если вы не разрешите мне доставить его туда, где я смогу ему помочь.
Чиновник кивнул, снова поджал губы, побарабанил карандашом по столу и, скрестив руки, сказал:
– Что ж, миссис Нойман, мы бы с радостью вам помогли, но процедура в случае со столь… столь необычным ребенком займет не меньше месяца и просьба о выдаче визы, скорее всего, будет отклонена без письменного разрешения матери ребенка и справки о здоровье из Троянской клиники. А вы не рассматривали возможность усыновления здорового ребенка?
Если бы Кейт закричала, ее крик был бы слышен на улице. Если бы она позволила себе закричать! Когда охранник провожал ее к выходу, в комнате ожидания Кейт заметила знакомый «костюм ниндзя» – черный силуэт среди пастельных тонов летней одежды американцев и серых одеяний румын.
– Мистер О’Рурк!
Священник обернулся, улыбка тронула его губы, но тут же погасла, едва он увидел ее лицо. Он быстро пересек многолюдное помещение и, подойдя к Кейт, жестом отослал охранника. Тот, слегка поколебавшись, отпустил руку Кейт. Отец О’Рурк подвел ее к стулу в самом спокойном уголке зала и, смахнув с него стопку бумаг, усадил. Когда священник отошел, Кейт чуть не бросилась за ним следом, но вскоре он вернулся, неся бумажный стаканчик с холодной водой, которую она с благодарностью выпила.
– Что случилось, миссис Нойман? – Голос его звучал мягко, а серые глаза пристально изучали лицо Кейт.
Пока она говорила, какую-то отстраненную часть ее рассудка мучила мысль: это и есть исповедь? Это и есть то, что дает религия… перекладывание всех твоих проблем на чьи-то плечи? Кейт так не думала.
Выслушав ее, О’Рурк кивнул.
– А вы уверены, что румынские чиновники поторопятся с оформлением документов ребенка к вашему отъезду, даже если американцы не расшевелятся?
Кейт энергично кивнула. Опустив глаза, она с удивлением обнаружила, что все еще сжимает в руках бумажный стаканчик.
– А сколько надо на лапу? – спросил О’Рурк. – Румынскому чиновнику, я имею в виду.
Кейт нахмурилась.
– Нисколько. То есть я ожидала каких-то… ожидала, что придется заплатить пять-шесть тысяч долларов… но не пришлось. Мистер Станку, чиновник из министерства… он не упомянул, а я… нет.
Священник с минуту переваривал эту новость. В его глазах Кейт прочла недоверие и вытащила из сумочки ворох документов.
– Вот, взгляните, мистер О’Рурк. Они были готовы уже сегодня утром. Лучан говорит, они отвечают всем официальным требованиям и этого вполне достаточно. Я пыталась показывать их посольским чинушам… нашим чинушам… но эти безмозглые сучьи дети так задирают носы, что…
Она замолчала и вздохнула.
– Ничего, миссис Нойман, ничего. – Священник деликатно, но твердо положил ладонь на руку Кейт. – Подождите-ка здесь немножко, ладно?
Он принес ей еще один стакан воды. Но Кейт не могла пить – она чувствовала, что злость комом стоит в горле, как тошнота. Много лет она не теряла контроля над ситуацией до такой степени.
Отец О’Рурк просунул голову в ближайшее окошко.
– Донна, можно воспользоваться твоим кабинетом? Да-да, всего пару минут, честно. Я сниму трубку, если позвонит его превосходительство. Спасибо, Донна, ты – чудо.
Кейт удивленно заморгала сквозь слезы, увидев, как из кабинки выходит молодая женщина. О’Рурк подмигнул ей и проскользнул внутрь. Кейт услышала, что он просит оператора на коммутаторе вывести его на линию спутниковой связи со Штатами, и узнала код округа Колумбия – 202.
Разговор продолжался не больше двух минут, и она улавливала только обрывки из него, поскольку мысленно все время возвращалась к тому, что ей следовало сказать мистеру Кроули из посольства.
– Приве, Джим… Да, Майк О’Рурк, верно… Отлично, все отлично… А ты как? Нет, на этот раз не из Лимы и не из Сантьяго… Из Бухареста. Точно.
Кейт закрыла глаза. Она, одна из первых пятнадцати гематологов Западного полушария, слушает, как какой-то приходский священник треплется с кем-то из своих старых приятелей, – возможно, с другим священником из Джорджтаунского университета или еще откуда-нибудь…
– …Совершенно верно, – сказал О’Рурк в трубку. До Кейт дошло, что он сумел объяснить ее затруднения с визой не более чем в десяти словах. – Именно так, Джим… Мозги у тебя еще мхом не заросли со времен велосипедных дозоров. Она одна из немногих американок, что я повидал здесь за полтора года, и она хочет усыновить действительно приютского ребенка, очень больного… Больной, но совершенно не заразный… а этот хрен из отдела виз вставляет палки в колеса. Да… Согласен, вопрос жизни и смерти.
Кейт почувствовала, как ее обдало холодом, когда она услышала это из чужих уст. Джошуа. Умер. Она вспомнила крошечные пальчики, доверчивые глаза… И словно вновь воочию увидела бесчисленные безымянные могилки возле детских домов и больниц в Бухаресте и других местах.
– Хорошо, Джимми… Тебе того же, старик… Кев, думаю, пока в Хьюстоне… А Дейл работает над очередной книжкой в Грэнд-Тетоне или еще где-нибудь… Нет-нет, у Лоренса это уже третья свадьба, он приглашал меня. У них был какой-то знаменитый гонщик, который подрабатывает в качестве дзен-гуру. Он-то и провел церемонию… И тебе, амиго. Еще позвоню.
О’Рурк вышел из кабинки и коснулся ее колена жестом отца, успокаивающего плачущего ребенка. Кейт подавила распиравшую ее злость. Она стала вспоминать знакомых гематологов, администраторов из ЦКЗ, репортеров, газетчиков, медицинских обозревателей. Среди них наверняка найдется кто-нибудь с большим весом, чем джорджтаунский приятель О’Рурка. Кто-нибудь окажет давление на Госдепартамент. За три дня?
– Я провожу вас до больницы, – сказал священник.
– Хорошо, – согласилась Кейт. Прежде чем они вышли из здания посольства, она сжала его локоть под черным рукавом пальто. – Спасибо, мистер О’Рурк. Спасибо за попытку помочь.
– Ради бога, миссис Нойман…
Они были уже в дверях, когда сверху буквально слетел по ступенькам мистер Кроули. Он так спешил, что почти скользил по мраморному полу. Волосы его растрепались, галстук съехал набок, на раскрасневшемся лице выделялось бледное пятно вокруг рта, а в глазах было такое выражение, что Кейт подумала, уж не полное ли и окончательное крушение карьеры только что привиделось этому чиновнику с ускользающей фамилией.
– Миссис… м-м-м… доктор Нойман! – воскликнул он с явным облегчением в голосе. – Я рад, что мне удалось перехватить вас. Произошло недоразумение… Боюсь, я сам допустил ошибку.
Он протянул ей ворох бумаг.
– Мы устроим так, что заявление на визу будет рассмотрено до завтрашнего утра. Эта временная виза должна удовлетворить румынские власти, если у них возникнут какие-нибудь вопросы…
Уже позже, по дороге в больницу, Кейт спросила О’Рурка:
– Кстати, а что вы делали в посольстве?
– Приходил по делам.
– Что-нибудь насчет сомнительных усыновлений?
Он пожал плечами. У Кейт вдруг совершенно некстати мелькнула мысль, что он в своем черном наряде с белым воротничком выглядит очень опрятным, симпатичным мужчиной, настоящим ирландцем.
– Иногда, – сказал священник, – я не только препятствую, но и содействую.
– Вы очень помогли мне. Возможно даже, что вы дали Джошуа последний шанс выжить. – Кейт помолчала, глядя на поток машин, проносящихся по бульвару Бэлческу. – А как фамилия вашего друга Джима?
Отец О’Рурк потер подбородок.
– Извольте. Харлен.
– Сенатор Харлен? Сенатор Джеймс Харлен, возглавляющий Комитет по иностранным делам?…
Которого Госсекретарь Бейкер хотел взять заместителем, хоть он и из другой партии? Тот, которого в восемьдесят восьмом году Дукакис чуть не назначил кандидатом в вице-президенты вместо Ллойда Бентсена?
Священник улыбнулся.
– Джимми оказался прав, когда решил, что это будет не лучшим ходом. Я же хотел, чтобы он баллотировался, и это лишь показывает мою наивность. Но он собирается дождаться девяносто шестого года и выйти на выборы… не в роли вице-президента. Из демократов только он да Куомо обладают всеми необходимыми для президента качествами… А у Джимми, мне кажется, для этого хватит и энергии, и новых идей.
– И вы с ним друзья, – сказала Кейт, лишь потом сообразив, насколько глупо это прозвучало.
– Были друзьями. Давным-давно.
О’Рурк смотрел в сторону Национального бюро по туризму на противоположной стороне бульвара, но взгляд у него был отсутствующий.
– Если бы я верила в чудеса, то сказала бы, что они постоянно происходят со мной в последнее время, – призналась Кейт.
При этих словах ее охватило странное чувство. «Это правда. Это не сон. У меня будет ребенок». Она испытывала то же ощущение, что и в юности, когда, преодолевая страх, стояла на краю пятнадцатифутового трамплина в Кенморском муниципальном бассейне: и прыгнуть боязно, и отступать гордость не позволяет.
– Единственным чудом кажется то, что румынский чиновник из министерства оказывает услугу без взятки, – задумчиво произнес О’Рурк.
Заметив, что она дрожит, он хотел было взять ее за руку, но передумал. Кейт почувствовала на себе его внимательный взгляд.
– Знаете, миссис Нойман, если мальчику суждено выжить, то чудеса придется делать вам.
– Знаю, – ответила она. Затем, осознав, что, кажется, не произнесла это вслух, повторила громко и отчетливо:
– Я знаю.
Глава 12
Кейт и Джошуа должны были вылететь в Соединенные Штаты в понедельник, двадцатого мая, но еще накануне вечером, в воскресенье, она не сомневалась, что их не выпустят из страны.
ЮНИСЕФ, который совместно с Международным фондом помощи ЦКЗ патронировал ее шестинедельную поездку в Румынию, заранее прислал ей билет на рейс «Пан-Америкэн», а поскольку в аэропорту Отопени не принимали телефонных подтверждений заказов, Кейт чуть ли не каждый час звонила в Национальное бюро по туризму, чтобы убедиться в его правильности. Мало того, она заставила Лучана два раза съездить в аэропорт в субботу и три – в воскресенье, дабы удостовериться, что рейс не отменен, а ее место забронировано. Хотя Джошуа отдельный билет был не нужен, она попросила Лучана проверить и это.
Мистер Станку – низенький, краснощекий, жизнерадостный человек, представляющий собой полную противоположность стереотипу восточноевропейского бюрократа и ни в чем не похожий на других встречавшихся Кейт румынских чиновников, – подтвердил, что выездная виза Джошуа оформлена правильно и имеет законную силу. На формальном требовании насчет получения согласия одного из родителей никто не настаивал. С румынской стороны процедура усыновления оказалась на удивление простой.
Американское посольство действовало медленнее, но в субботу днем мистер Кроули уже оформил выездную визу для Джошуа. Лучан приносил в больницу фотоаппарат, чтобы снять ребенка, но оказалось, что фотография не нужна. В США все формальности будут завершены в Центре по усыновлению в Скалистых горах, штаб-квартира которого располагается в Денвере, и потому у Кейт вряд ли возникнут проблемы, когда она окажется на месте.
Поначалу главный администратор Первой окружной больницы господин Попеску был не очень-то доволен тем, что эта вспыльчивая американка забирает одного из его подопечных, причем ничего не заплатив ему за такую возможность; но звонки из Министерства здравоохранения и заверения румынских педиатров в том, что у ребенка почти нет шансов выжить, а его дальнейшее содержание повлечет за собой лишь дополнительные расходы для больницы, успокоили его до такой степени, что в последний день работы Кейт он только глуповато ей улыбался.
Все бумаги были наконец оформлены. «Пан-Америкэн» получила уведомление, что в США перевозят очень больного ребенка, и приготовила во Франкфурте дополнительное медицинское оборудование. В самолет Кейт взяла свой медицинский саквояж, укомплектованный запасами из Красного Креста, а также контрабандными одноразовыми шприцами в стерильных упаковках, внутривенными капельницами и антибиотиками из Западной Германии, которые Лучан каким-то образом стянул из мединститута. Кейт была очень растрогана, поскольку знала, какие деньги за все это можно выручить на черном рынке.
И хотя ее нет-нет да и посещала мысль о том, что все эти припасы должны бы остаться в Румынии и помочь хоть нескольким из многих тысяч больных детей здесь, она гнала эту мысль прочь и знала, что пойдет на все, украдет что угодно, сметет на своем пути любого, лишь бы спасти Джошуа. Для самой Кейт, почти двадцать лет свято соблюдавшей врачебную этику, собственное поведение стало потрясением.
Она с четверга пыталась дозвониться до Тома, своего бывшего мужа, но автоответчик в Боулдере выдавал одну и ту же запись, сделанную его низким, веселым, мальчишеским голосом, сообщавшую, что он спускается по реке Арканзас и вернется, когда вернется. Желающим предлагалось оставить сообщение. Кейт оставила четыре сообщения, каждое из которых было чуть более связным, чем предыдущее.
Ее разрыв с Томом, случившийся шесть лет назад, имел скорее спокойный, чем драматический характер и произошел мирно, без злобы. Они вошли в тот один процент разведенных, чьи взаимоотношения становятся более дружескими после развода, и частенько встречались, чтобы поужинать или выпить вместе после работы. Тому недавно стукнуло сорок, но он продолжал оставаться здоровым, как тот бык из поговорки, и привлекательным на манер Тома Сойера. В конце концов он осознал, что так и не повзрослел. В Боулдере он работал инструктором по водному туризму, но по совместительству мог быть и альпинистом, и велогонщиком, и проводником в Гималаях, и фотографом-пейзажистом. Занимавшая все его время профессия искателя приключений служила идеальным оправданием того – как он и сам уже признал, – что он так и не стал взрослым.
А что касается Кейт, то за последние месяцы она выросла даже слишком, и ее чересчур уж взрослая часть души вытеснила все те остатки ребячества, которые роднили их с Томом в старые времена. Разговоров о воссоединении они не вели – Кейт не сомневалась, что ни один из них не способен представить себе совместную жизнь по второму кругу, – но общались гораздо раскованнее и куда непринужденнее обменивались своими небольшими проблемами и большими секретами. Много лет они уверяли друг друга, каждый по своим соображениям, что дети в их жизни не нужны, и вот теперь доктор Кейт Нойман, тридцати восьми лет, везет домой ребенка.
Позвонив в воскресенье вечером, Том застал ее в квартире на улице Штирбей Водэ. Его поход на плотах был удачным. Полученное от Кейт сообщение показалось ему невероятным. Голос Тома представлял собой обычную смесь мальчишеской энергии и боулдерского энтузиазма. Услышав его, Кейт чуть не заплакала.
– Боюсь, ничего не получится, – сказала она. Связь была ужасной. Отраженные звуки, задержки, глухие шумы, свойственные трансатлантическим переговорам, усугублялись шорохом, скрежетом, щелканьем и прочими помехами румынской телефонной связи. И все же Том ее слышал.
– Почему ты сомневаешься, если с бумагами порядок? Ребенок… Джошуа… Ты хочешь сказать, с ним что-то не то?
– Нет, сейчас он в порядке.
– Тогда что?…
– Я не знаю, – вздохнула Кейт. Она сообразила, что если в Бухаресте сейчас семь часов вечера – насыщенный майский свет заливал орех за окном, – тогда в Боулдере должно быть десять утра.
– Я просто ужасно боюсь, что ничего не получится. Что нас что-нибудь… остановит.
Голос Тома звучал серьезно как никогда.
– Это на тебя не похоже, Кэт. Что случилось с той Железной Леди, которую я знал и любил? С той женщиной, которая хотела исцелить весь мир, даже если он не захочет исцеляться?
Мягкость его тона не соответствовала словам, а «Кэт» заставило ее вздрогнуть. Так он называл ее в ранние дни замужества, когда они предавались любовным утехам.
– Это из-за обстановки, – сказала она. – Тут начинаешь чувствовать себя параноиком. Кто-то мне говорил, что во времена Чаушеску каждый третий или четвертый в стране служил платным осведомителем. – В телефоне пощелкивало и посвистывало. Огромное расстояние гулом отдавалось в проводах. – Я вдруг подумала, что нам не стоит говорить по телефону.
– Жучки? Запись разговоров? КГБ – или как оно там называется у румын? – донесся голос Тома сквозь треск помех. – Черт с ними.
– А счета за телефон? – Кейт сделала попытку улыбнуться.
– Ладно, и на АТТ тоже плевать. И на Эм-Си-Ай. Или с кем там у меня договор?
Кейт все же улыбнулась. Во времена замужества за телефон всегда приходилось платить ей. Том редко представлял себе, кому они платят и за что. А кто сейчас, интересно, оплачивает его счета?
– Во сколько ты будешь завтра в Степлтоне? – Голос Тома был еле слышен из-за шумов на линии. Кейт закрыла глаза и вслух стала вспоминать маршрут:
– Из Бухареста на Франкфурт через Варшаву рейсом 170 в семь десять утра. Из Франкфурта рейсом 67 в десять тридцать утра прибытием в аэропорт Кеннеди в час ноль пять дня. Потом из Кеннеди рейсом 97 прибытием в Денвер в семь пятьдесят восемь вечера.
– Ого, – сказал Том. – Тяжелый день для малыша. Да и для мамаши.
В наступившей секундной паузе слышен был лишь приглушенный шум на линии.
– Я буду встречать тебя в Степлтоне, Кейт.
– Не стоит…
– Я буду тебя встречать.
Кейт не стала спорить.
– Спасибо, Том, – сказала она. – Ах да… захвати с собой сиденье для машины.
– Что захватить?
– Сиденье для ребенка в машине.
Послышался приглушенный смешок. Том чертыхнулся.
– Отлично, – сказал он наконец. – Я весь день буду искать это дурацкое сиденье. Считай, что оно у тебя есть, Кэт. Я тебя люблю. До завтра.
Он резко положил трубку, что всегда заставало Кейт врасплох. Внезапно наступившая после разговора тишина была невыносимой. Она в сотый раз мерила шагами комнату, проверяя багаж – все упаковано, кроме пижамы и туалетных принадлежностей, – в пятидесятый раз просмотрела бумаги в дорожной куртке типа «сафари в банановой республике»: паспорт, ее виза, виза Джошуа, документы на усыновление, заверенные министерством и американским посольством, сертификат о прививках, справка об инфекционных заболеваниях, письмо из канцелярии господина Станку с просьбой оказать помощь при лечении и аналогичное письмо от ведомства Кроули из американского посольства. Все на месте. Все проштамповано, утверждено, заверено и запечатано.
Но что-нибудь обязательно будет не так. Она точно знала. Любые шаги в подъезде или во дворе дома могли принадлежать какому-нибудь чиновнику с известием: Джошуа умер, после того как она оставила его мирно спящим в больничной кроватке. Или министерство отменило разрешение. Или…
Что-нибудь обязательно случится.
Кейт приняла предложение Лучана отвезти ее в аэропорт. У отца О’Рурка с утра были какие-то дела в Тырговиште, городке в пятидесяти милях к северу от столицы, но он обещал, что подъедет к больнице к шести утра, когда она планировала забрать оттуда Джошуа. Все было продумано, обговорено, упаковано… Она даже заставила Лучана помочь ей разобраться с расписанием «Восточного экспресса» на Будапешт – на тот случай, если авиакомпании «Пан-Америкэн» и «Таром» вдруг перестанут обслуживать Бухарест… Но все же Кейт не оставляли мучительные сомнения: что-нибудь обязательно должно случиться.
В десять вечера она надела пижаму, почистила зубы, поставила будильник на 4:45 и забралась в постель, зная, что не уснет. Уставившись в потолок, она пыталась представить, как спит Джошуа – на спине или на животе?… Закреплена ли капельница, которая должна напоследок подкрепить его силы перед завтрашними испытаниями?…
Для Кейт началась долгая бессонная ночь ожидания.
Сны крови и железа
Я смотрел из этих окошек… этих маленьких окошек, через которые сейчас до меня доходит так мало света… Я стоял возле них, когда мне было три или четыре года, и смотрел, как из переполненной тюрьмы на Ратушной площади через улицу к месту казни в Ювелирной башне вели воров, разбойников, убийц и злостных неплательщиков. Я вспоминаю лица этих людей, этих обреченных: немытые, с покрасневшими глазами, изможденные, бородатые и грубые… Как только до них доходило, что жить им остается лишь несколько минут, что вот-вот на шею им набросят веревку и палач столкнет их с помоста, несчастные принимались отчаянно озираться вокруг. Я вспоминаю, как однажды видел трех женщин, которых содержали отдельно в тюрьме Ратушной башни, как свежим осенним утром их вывели оттуда в цепях, провели через площадь на улицу, потом вниз, по вымощенному булыжником холму, и они скрылись от моего любопытного взгляда. Но какие это были мгновения, секунды безыскусного зрелища, когда я стоял в комнате отца, которая одновременно служила и залом суда, и личными покоями… О, эти нескончаемые мгновения экстаза!
Женщины, как и мужчины, были одеты в грязные лохмотья. Я видел их груди под обрывками ветхой коричневой ткани. Тела их покрывала тюремная грязь и потеки крови – следы грубого обращения тюремщиков. Но груди их были белыми и беззащитными. Я видел, как мелькают грязные ноги и бледные бедра; я увидел темное пятно меж бедер, когда упала самая старая из них, раскинув ноги и заскользив по булыжникам, в то время как стражник тащил их, визжащих и вопящих, на длинной цепи. Но больше всего мне запомнились их глаза… такие же перепуганные, как и у заключенных мужчин, раскрытые так широко, что белки, окружавшие темные радужки, делали их похожими на глаза кобылицы, которая понесла, почуяв запах свежей крови или присутствие жеребца.
Именно тогда я впервые ощутил возбуждение – нарастание нервной дрожи в груди при виде того, как осознание неизбежности смерти нисходит на этих мужчин и женщин, – возбуждение и пульсирующую чистоту этого чувства. Я вспоминаю, как перестали меня держать ослабевшие ноги и я упал на отцовское ложе возле этого самого окна. Сердце мое бешено колотилось, а образы этих напряженных, обреченных мужчин и женщин неизгладимо стояли у меня перед глазами даже после того, как от их криков осталось лишь эхо, а затем и оно растаяло в прохладном воздухе, проникающем в раскрытые окна отцовской комнаты.
Отец мой, Влад Дракула, приговорил этих людей к повешению. Точнее, утвердил приговор всего лишь кивком или движением руки. Именно отец создал, а теперь исполнял законы, обрекающие на смерть этих людей. Именно он навел на них ужас, призвав Смерть, пульсирующее биение которой ощущалось на площади внизу.
Я вспоминаю, как лежал на том ложе, чувствовал, как мое сердце медленно возвращается к нормальному состоянию, ощущал первую вспышку замешательства – следствие странного возбуждения… Я лежал в комнате и думал: «Когда-нибудь и я стану обладателем этой власти».
Именно в этой комнате я впервые пил из Чаши, когда мне исполнилось четыре года. Я отчетливо все помню. Матери не было. Той ночью присутствовал отец с пятью другими мужчинами, одетыми в церемониальные облачения драконистов – зелено-красные, с капюшонами, которых я до того ни разу не видел. Я вспоминаю яркий гобелен позади отцовского трона, вывешиваемый только на эту ночь: огромный дракон, свернувшийся в золотое чешуйчатое кольцо, разинул устрашающую пасть, расправил крылья с могучими лапами, оканчивающимися алчно скрюченными когтями. Я вспоминаю свет факелов и невнятно произносимые ритуальные формулы ордена Дракона. Вспоминаю, как подносили Чашу… вкус первой крови. Вспоминаю сны, посетившие меня той ночью.
Именно в этой комнате в 1436 году от Рождества Христова, когда мне было пять лет, я слышал, как отец объявил всему двору о намерении завладеть землями и титулом своего умершего единокровного брата Александра Алди и стать, таким образом, первым полновластным князем Валахии. Я вспоминаю стук подкованных копыт, разносящийся в зимнем воздухе, скрип кожи, смертоносное позвякивание железа о железо, когда той декабрьской ночью мимо наших окон проходила конница. Я вспоминаю, как любил великолепие столичного города Тырговиште… В памяти воскресает чувственное восприятие итальянских, венгерских, латинских слов, выученных там, и каждый новый звук, отдающийся во рту насыщенным вкусом крови. Я помню волнение, охватывавшее меня во время суховатых занятий по истории, которые вели боярин-наставник и старые монахи. Сколь скоротечным оказалось то чудесное время!
Мне было двенадцать лет, когда отец отдал меня и моего единокровного брата Раду в заложники турецкому султану Мураду. Возможно, когда мы ехали в Галлиполи на встречу с султаном, он не собирался так поступить. Однако, едва мы достигли городских ворот, отец был схвачен людьми султана и позже отец поклялся на Библии и Коране, что не будет противиться его воле, а в подтверждение этой клятвы нас оставили при дворе правителя. Раду было всего восемь лет, и я помню его слезы, когда нас в повозке под охраной отправили из Галлиполи в крепость Эгригоз, что в западной Анатолии, в провинции Караман.
Я не плакал. Я вспоминаю, какой холодной была та зима, насколько непривычной казалась тамошняя пища, как слуги, следившие за нашими желаниями, еще и запирали двери в наши покои, едва только ранние сумерки опускались на этот город в горах. Я вспоминаю, как поражены были люди султана, когда им объяснили обряд Чаши, но они восприняли это как еще один варварский обычай, присущий христианству. А поскольку их тюрьмы были переполнены преступниками, рабами и военнопленными, ожидавшими смерти, отыскать жертвы оказалось делом нетрудным. Впоследствии нас перевезли в Токат, а еще позже – в Адрианополь, где мы жили и взрослели в обществе султана.
Мурад считался жестоким человеком, но все же он был менее жесток, чем наш отец и относился к нам в большей степени по-отечески. Помню, однажды он коснулся моей щеки, когда я, волнуясь, показывал ему, как летает и нападает сокол, которого я помогал дрессировать. Его неожиданное легкое прикосновение было довольно продолжительным.
К концу моего шестилетнего пребывания там я чаще стал думать на турецком, чем на родном языке, и даже теперь, когда силы мои угасают, а сознание мутится, мои полусонные мысли облечены в турецкие слова.
Раду с детства имел приятную внешность и остался красавчиком к моменту появления первых признаков мужественности. Я же был уродлив. Раду пресмыкался перед нашими наставниками – философами и учеными. Я же сопротивлялся их усилиям воспитать нас в духе византийской культуры. Раду избегал Чаши, в то время как я испытывал потребность пить из нее сначала еженедельно, а не раз в месяц, а затем и ежедневно. Раду доставались поощрения и ласки от наших тюремщиков и наставников, а на мою долю приходились лишь побои. К тринадцати годам Раду научился угождать и женщинам из гарема, и мужчинам-придворным, что приходили в наши покои поздно ночью.
Я ненавидел своего сводного брата, и он отвечал мне ненавистью, смешанной с презрением. Мы оба понимали, что если выживем – а каждый из нас был преисполнен решимости сделать это по-своему, – то когда-нибудь станем врагами и соперниками из-за отцовского трона.
Раду шел к трону своим путем, сделавшись фаворитом султана Мурада II и гаремным юношей у его преемника Мехмеда. Он оставался в Турции до 1462 года: в свои двадцать семь Раду все еще считался красавчиком, но уже не мог быть гаремным юношей. Когда султан пообещал ему титул моего отца, выяснилось, что на трон претендует некто более дерзкий и изобретательный. Претендентом оказался я.
Я вспоминаю тот день – мне уже исполнилось шестнадцать, – когда до нас, находившихся при дворе султана, дошло известие о смерти отца. Случилось это поздней осенью 1447 года. Казан, вернейший стольник моего отца, пять дней скакал до Адрианополя, чтобы принести эту весть. Подробности были немногочисленными, но печальными. Подстрекаемые алчным королем Венгрии Хуньяди и его валахским союзником боярином Владиславом II, жители Тырговиште подняли мятеж. Мой родной брат Мирча был схвачен в Тырговиште и заживо зарыт в землю. Моего отца Влада Дракулу выследили и убили в болотах Балтени, неподалеку от Бухареста. Казан сообщил нам, что тело отца доставлено в тайную часовню в окрестностях Тырговиште.
Казан, чьи старческие глаза слезились больше обычного, вручил мне два предмета. Отец попросил передать их мне в качестве наследства, когда они бежали к Дунаю, а по пятам за ними следовали убийцы. Наследство состояло из превосходного меча толедской работы, подаренного отцу в Нюрнберге императором Сигизмундом в год моего рождения, и золотого медальона в виде дракона, полученного отцом при вступлении в орден Дракона.
Повесив медальон на шею и подняв высоко над головой меч, клинок которого блеснул при свете факелов, я произнес клятву перед лицом Казана, и только Казана.
«Клянусь кровью Христа и кровью Чаши, – воскликнул я твердым голосом, – что Влад Дракула будет отмщен и я самолично выпущу кровь Владислава и выпью ее, а те, кто задумал и осуществил предательство, оплачут тот день, когда они убили Влада Дракулу и сделали своим врагом Влада Дракулу, Сына Дракона. До этого дня они не знали истинного страха. И я клянусь кровью Христа и кровью Чаши, и пусть все силы Небес и Преисподней придут ко мне на помощь в этом святом деле».
Я вложил меч в ножны, похлопал по плечу плачущего стольника и вернулся в свои покои, где лежал, не смыкая глаз, и обдумывал планы побега от султана и мести Владиславу и Хуньяди.
И теперь я лежу и не сплю, думая о том, что как клинки из толедской стали закаляются в огнедышащей печи, так и люди закаляются в горниле боли, потерь и страха. И так же, как и мечи искусной работы, людские клинки, закаленные таким образом, не теряют смертоносной остроты в течение столетий.
Свет погас. Я делаю вид, что сплю.
Глава 13
Колорадский филиал Центра по контролю за заболеваниями занимал здания на предгорье над Боулдером, в зеленом поясе под геологическим образованием, известным как Флатироны. Местные жители по привычке называли этот комплекс НЦАИ, поскольку в течение двадцати пяти лет здесь размещался Национальный центр атмосферных исследований. Когда год назад НЦАИ стало тесно в этих стенах и он переехал на новое место в городе внизу, ЦКЗ успел перехватить комплекс для своих нужд.
Здание было спроектировано И. М. Пеем и построено из той же темно-красной породы, из которой состояли огромные, наклоненно вздымавшиеся глыбы Флатиронов, нависавших над Боулдером. Замысел архитектора основывался на том, что напоминающий песчаник материал будет выветриваться с такой же скоростью, как и сами Флатироны, вследствие чего здания «растворятся» в окружающей среде. Расчет Пея в основном подтверждался. Хотя ночью огни в окнах ЦКЗ были отчетливо видны на фоне скал и лесов зеленого пояса, в дневное время туристы, скользнув взглядом по комплексу, часто оставались в полной уверенности, что это всего лишь еще одно необычное скальное образование, каких немало на всем протяжении Передней Цепи.
Кейт Нойман любила свой офис в Боулдерском ЦКЗ, и возвращение из Бухареста заставило ее увидеть прелесть этого места другими глазами. Ее кабинет располагался в северо-западной части современного здания, спроектированного Пеем в виде чередующихся вертикальных пластин и нависающих коробок из сланца и песчаника, с большими окнами. Сидя за рабочим столом, Кейт могла видеть огромную стену первых трех Флатиронов, уходящих на север, расположенные у их подножия луга с колышущейся волнами травой и сосновые леса у подножия Флатиронов, хребты горного массива Фаунтен, выглядывающие из-под тонкого слоя почвы, подобно гребню стегозавра, и даже сами прерии, начинающиеся от Боулдера и на всем обозримом пространстве простирающиеся на север и восток. Ее бывший муж Том говорил, что Флатироны были когда-то слоями осадочных пород под дном древнего внутреннего моря, поднятыми на поверхность примерно шестьдесят миллионов лет тому назад могучими горообразовательными процессами, происходившими в западном направлении от Скалистых гор. Теперь вид Флатиронов всегда напоминал Кейт бетонные плиты дорожки, вытесненные корнями деревьев.
Тропа начиналась сразу же от черного хода ЦКЗ, а за следующим хребтом виднелась более широкая Тропа Столовой горы. Под окном Кейт тут же появился олень, который принялся пощипывать травку, а сотрудники сообщили, что этим летом видели пуму, притаившуюся в ветвях деревьев не дальше сотни футов от здания.
Кейт, однако, не было никакого дела до всего этого. Она не обращала внимания на кучи бумаг, скопившиеся на ее столе, на курсор, мигавший на экране компьютера, а думала о своем сыне. Она думала о Джошуа.
Так и не заснув в ту последнюю ночь в Бухаресте, Кейт собрала свои вещи, поймала на темной и мокрой улице такси и поехала в больницу, чтобы посидеть рядом с Джошуа, пока не наступит время отъезда в аэропорт. Лифт в больнице не работал, и она побежала по лестнице, вдруг почему-то решив, что застанет кроватку в третьем изоляторе пустой.
Джошуа спал. Последняя порция крови, прописанная ему Кейт накануне, вернула ребенку совершенно здоровый вид. Она уселась на холодную батарею, подперев подбородок кулаком, и смотрела, как спит ее приемный сын, пока первые лучи рассвета не забрезжили в грязных окнах.
Лучан заехал за ними в больницу. Бумажной волокиты здесь оказалось напоследок гораздо меньше, чем опасалась Кейт. Отец О’Рурк, как и обещал, приехал с ними попрощаться. Когда они со священником пожимали друг другу руки на ступеньках у выхода, Кейт не удержалась и поцеловала его в щеку. О’Рурк улыбнулся, задержал ее лицо в своих ладонях, а потом – она даже не успела ничего подумать или возразить – благословил Джошуа, легонько прикоснувшись к его лбу большим пальцем и быстро перекрестив.
– Я буду думать о вас, – тихо сказал О’Рурк, открывая переднюю дверь «Дачии» для Кейт с ребенком. Затем взглянул на Лучана: – Езжайте поосторожнее, слышите?
Лучан только улыбнулся в ответ.
Дорога в аэропорт была почти пустой. Джошуа проснулся, но не заплакал, а лишь смотрел вверх своими большими, темными, вопрошающими глазами, лежа на руках у Кейт. Лучан, по-видимому, почувствовал тревожное состояние Кейт.
– Хочешь, расскажу один новый анекдот про Чаушеску? Нет, правда, совсем свеженький.
Кейт слабо улыбнулась. Потрепанные щетки устало стирали дождевые капли с ветрового стекла.
– А ты не боишься, что у тебя в машине есть микрофоны? – спросила она.
Лучан ухмыльнулся.
– Они работали бы не лучше, чем вся эта куча хлама, – ответил он. – Кроме того, Фронт национального спасения не имеет ничего против анекдотов про Чаушеску. А вот когда мы про НФС рассказываем, тогда они на ушах стоят.
– Ладно, – вздохнула Кейт, получше укутывая ребенка в легкое одеяло. – Давай свой бородатый анекдот.
– Ну вот. Незадолго до революции Великий Вождь просыпается как-то в прекрасном настроении и выходит на балкон, чтобы поздороваться с солнцем. «Доброе утро, солнце», – говорит он. И можешь себе представить, до чего он удивился, когда солнце ему ответило: «Доброе утро, господин президент». Чаушеску бежит в комнату и расталкивает Елену. «Проснись! – кричит он. – Теперь меня даже солнце зауважало». – «Замечательно», – говорит жена Вождя и переворачивается на другой бок. Чаушеску, испугавшись, уж не сошел ли он с ума, днем опять выходит на балкон. «Добрый день, солнце», – говорит он. А солнце опять почтительно отвечает: «Добрый день, господин президент…»
– Конец у этого анекдота есть? – перебила его Кейт. Далеко впереди уже замаячил въезд в аэропорт. Дождь усилился. Она стала опасаться, как бы не отменили рейс «Пан-Америкэн» до Варшавы.
– «Добрый день, господин президент», – ответило солнце днем, – продолжал Лучан. Он включил поворотник и, не обращая внимания на то, что лампочка не зажглась, въехал на длинную подъездную дорожку. – Чаушеску так разволновался, что захотел и Елену вытащить на балкон, но она как раз занималась макияжем. Наконец, уже ближе к закату, он все-таки убедил ее. «Смотри и слушай, – сказал он жене, которая вдобавок была еще и председателем Национального совета по науке и технике. – Солнце меня уважает». Он повернулся в сторону чудесного заката. «Добрый вечер, солнце», – сказал он. «Пошел в задницу», – ответило солнце. Чаушеску очень расстроился и потребовал объяснений. «Как же так? Утром и днем ты обращалось со мной вполне почтительно, – лопочет он, – а теперь меня обругало. Почему?»
Кейт заметила свободное место в ряду машин, выстроившихся вдоль изгиба дорожки, выходящей к зданию аэропорта, но не успела показать, как Лучан уже довольно ловко притер машину параллельно уже стоящей. При этом он не потерял нить своего рассказа.
– «Почему ты меня так оскорбило?» – не унимается наш Вождь. «Ты, дерьмо собачье, – отвечает солнце. – Сейчас-то я на Западе».
Лучан обошел вокруг машины и, пока Кейт с ребенком выходила, держал над ними зонтик. Кейт улыбкой выразила свою признательность – больше за его доброту, чем за анекдот. Они вместе пошли к зданию аэропорта. Лучан нес чемодан и держал зонтик, а Кейт несла сумку на плече и ребенка.
– У трансильванцев есть пословица про анекдоты вроде моего, – сказал Лучан: – Ridem noi ridem, dar purceaua e moarta in cosar.
– И что это означает?
Они вошли под тяжелый бетонный козырек здания аэропорта. Охранники в серой форме с автоматами равнодушно скользнули по ним взглядом.
– Это означает… Мы все смеемся, но поросенок в корзине сдох.