Сферы Макеев Александр
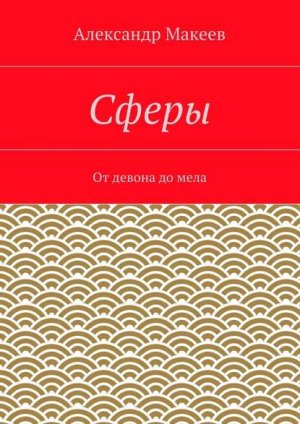
© Александр Иванович Макеев, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава первая
1
Весна 1948
За вагонным окном, затуманенным снаружи поздними заморозками, а внутри дыханием пассажиров общего вагона, замелькали дачные посёлки и платформы. Деревья, готовившиеся вот-вот распуститься, просвечивали сиреневым отливом почек, местами переходящим в зелень.
Андрей Чуваев сидел у окна, и уткнувшись лбом в вагонное стекло, в который раз задавал себе одни и те же вопросы: зачем он едет? что его ждёт? кто его ждёт?
Впервые в Москве он был в прошлом году, когда их часть переводили под Харьков, и никакая, даже самая кривая дорога, не вела через столицу, в которой училась его сестра. Но волею случая или судьбы он попал на глаза полковому начальнику, пожелавшему отправить Андрея вместе с семьёй и трофеями в Харьков через Москву. Дородная полковничиха вместе с двумя дочерьми ехала к дальним родственникам мужа, которых никогда не видела и, познакомившись с которыми, забыла о приставленном к ней денщике.
Сестра Андрея, Анюта, первая из семьи вступила на тропу высшего образования и, видимо, возгордившись будущим инженерством, не навестила родителей прошлым летом, и Андрей, на правах брата, решил пожурить сестру, а если будет необходимость, реализовать и более строгие родительские наказы. Но когда он увидел Анюту, все сердитые родительские наставления были забыты, чему также способствовало обилие однокурсниц, при которых никакого серьёзного разговора произойти не могло. В общежитии на него налетело столько девчат, что в первый момент он никак не мог понять, кто из них Анюта. Все хотели посмотреть на фронтовика, брата их подруги, да и просто на мужчину.
В Харьковском гарнизоне Андрей часто вспоминал дни, проведённые в Москве, сетуя на себя за то, что не смог как следует присмотреться к жизни сестры, наставить её на правильное отношение к родителям, да и к жизни, конечно. Но потом все эти мысли отодвинулись на потом, до демобилизации. И вот это потом наступило. Демобилизация накатила неожиданно и быстро. Устоявшаяся солдатская жизнь была позади, армейские рельсы оборвались, и настала гражданская жизнь при полной неопределённости выбора положения в ней.
Приехав к родителям, в маленький провинциальный городок, он старался быть в стороне от той жизни, в которую были вовлечены обыватели. От посещения киношек и единственного в городке парка культуры и отдыха, от девушек и от всего того, что было положено делать в его возрасте. Побыв дома две недели, Андрей, получив письмо от Анюты, в одночасье собрался и поехал на встречу со столичной жизнью.
В письме промелькнуло упоминание о Кате, которая помнит его и ждёт. За прошедший год Андрей ни разу не вспомнил о ней, да и вспоминать было нечего ни при частом повторе её имени в песнях, льющихся из уличный репродукторов, ни в привете от неё. Так, одна из подруг сестры. Что же сейчас, по пришествию года…
– Эй, служивый! Солдатик! Очнись. Голову приморозишь. Чем думать будешь?
Андрей отлепил лоб от стекла и повернулся на голос. Его тормошила соседка, севшая в вагон в предрассветных сумерках. От её многочисленных платков шёл парок. Видимо, на пути к станции ей пришлось изрядно промокнуть под весенним дождиком.
– Слушай, милок,. Москва скоро. Пора вещи собирать. – Она взглянула на свою связку, закинутую каким-то добряком на самую верхнюю полку. – Ты к кому едешь?
– К сестре, бабуля.
– Да какая я тебе бабуля? Внучок нашёлся. Я тебе ещё в тётки гожусь. Бабуля!
– Не обижайся, сестрёнка.
– Ну, вот, опять шутит. И что вы все шутить начали?
– Время такое наступило. Можно и пошутить, – ответил Андрей и попытался отвернуться от назойливой попутчицы. Но сделать это было не так просто. Ответное слово для неё было равносильно мелочи, отданной цыганке – меньше червонца не отделаешься.
– Сестра в Москве что делает?
– Учится.
– Встречать будет, значит?
– Она меня вчера ждала. Пришлось задержаться на день.
– А жить у неё будешь?
– Вряд ли. Она сама в общежитии живёт. Пристроюсь где-нибудь.
– Мил человек, помоги мне ради Христа. Может, и я тебе пригожусь. У меня в Москве родни много. – Она снова посмотрела на свою связку. – Понадеялась я на себя, а теперь вижу, что правильно ты меня в старухи списал. Промокла маненько, поясницу ломит.
– Нести-то далеко?
– Да тебе и нести не придётся. Сразу на метро сядем. А там два шага, рядом… Согласен?
– Что с тобой делать?
Старуха, успокоившись ответом, сразу глубоко задышала и стала похрапывать.
В конце вагона хлопнула дверь.
– Граждане пассажиры. Наш поезд прибывает в столицу Союза советских социалистических республик, город-герой Москва. Просьба не забывать свои вещи и не суетиться при выходе.
Андрей стянул с полки старухину связку, и сразу вагон огласился старухиным воплем:
– Ах ты, бандит проклятый. Дьяволов сын. Люди! Люди!…
– Да ты что, заспала что ли? То помоги, то обворовали её. На, тащи свои мешки.
– Ты это? А я со спины не признала. Прости. Что, уже приехали?
– Поднимайся, пошли.
Старуха принялась накручивать свои платки
– Погоди ты. Куда торопишься? Али Москвы не знаешь. Пусть схлынут. В толпе не только вещи потерять можно, себя не найдешь.
По проходу шли люди с кульками, корзинами, чемоданами, сумками. С детьми. Из середины вагона за ними наступала тишина.
На платформу, застеленную мокрыми досками, они вышли последними. Спина толпы была уже на выходе в город. Вагоны опустели, затихли, и только паровоз, с разбегу не успевший отдышаться, шумел и выпускал между колёсами пар.
Старуха налегке двигалась шустро, ни разу не оглянувшись, выказывая тем самым доверие и заглаживая свою вину.
Выйдя из метро, они попали в толчею трамваев с задранными под самое небо номерами и цветными стекляшками сигнальных фонариков. Трамваи стояли, двигались, звонили, открывали и закрывали с шумом двери, выпускали и впускали людей. Вагоновожатые выходили на стрелках с маленькими ломиками и переставляли стрелки в нужном им направлении.
– Зацепа! – торжественно произнесла старуха.
– Что?
– Зацепа! – с той же интонацией, смакуя слово, повторила старуха. – Здесь до ночи шумно. Идём на рынок. Может чего купим подешевле или продадим подороже.
Они вошли в ворота рынка, широкие и глубокие, и более подходящие для крепости средней руки, чем для торжка. Пройдя мимо сухого фонтана, старуха по хозяйски расположилась за прилавком.
– Мешки ставь сюда. Рядом со мной.
– Эй, Лексевна, ты, где такого кавалера подхватила. Для себя сберегаешь или для кого сохраняешь? Ты чего-то сегодня припозднилась. Поздно встали?
Прилавочные соседки захохотали и стали оправлять платки, убирая под них волосы.
– Всё вам языки чесать. О прилавок почешите. Молчали бы лучше – покупателей распугаете.
Перебраниваясь с соседями, Лексевна развязывала узлы на мешках и выкладывала на прилавок кошечек с прорезанными в голове щелями, цветные блестящие коробочки, прошитые по рёбрам крупными стежками, бумажные абажуры и прочие нехитрые предметы быта.
– Ты, милок, ступай. Погуляй часик другой. Расторгуюсь – расплачусь с тобой. Ступай.
Андрей, пройдя рынок насквозь, вышел на неширокую улицу. Справа начинался подъём на мост. Слева – перспектива домов. Он проклинал себя за то, что связался со старухой. Московская жизнь начиналась с рынка, что не сулило ничего хорошего в будущем.
Висящий за левым плечом вещмешок перетянул Андрея в свою сторону. Улица закончилась площадью в окружении двухэтажных домов, и только впереди торчало высокое здание мосторга. Из-за забора пахнуло подгоревшей гречневой кашей. За парикмахерской висел красный рак. Вход в пивную с площади прикрывал от сторонних глаз кругляк деревянного киоска «Союзпечати», выкрашенный коричневым суриком.
Спустившись по трём перекошенным ступеням, Андрей попал в зал. Несмотря на ранний час, все столики были заняты. Он опустил мешок на пол и сел на свободное место у столика, занятого двумя любителями утреннего пива, бросившими равнодушный взгляд на Андрея и тут же вернувшихся к своим кружкам и разговору.
Перед Андреем выросла фигура подавальщика в серо-белой кургузой куртке и тёмных брюках, из левой штанины которых торчал резиновый шишак протеза.
– Пару пива и чего-нибудь поесть.
– Может, сто грамм?
– Давай, только поскорее.
На рынок Андрей решил не возвращаться. Плевать он хотел на старухины благодарности. Но какая-то досада на себя или на старуху жевала сознание, и только появившаяся еда и питьё отвлекли его от этих мыслей.
Утолив первый голод и почувствовав жар от выпитой водки с пивом, Андрей оглянулся по сторонам. Сквозь табачный дым просматривались группки, большие и маленькие, занятые мыслями, навиваемыми пенным напитком. Соседи по столику не обращали на него внимания. Они стукались кружками, отламывали шеи ракам, хрустели баранками. Из их разговора Андрей понял, что они работают на хлебозаводе. Курносого звали Иваном, рядом с ним сидел Миша.
– Послушай, Иван! – Андрей обратился к курносому. Почему-то тот внушал большее доверие.
– Ты откуда меня знаешь? Чего тебе? Ты от кого? Ты от Вальки?
– Я от себя. Помоги мне устроиться где-нибудь. Я сегодня в Москву приехал.
– Ишь ты, едрёна корень! Разговорчивый какой! Пошёл ты…
– Ты чего, Иван? – остановил его приятель. – Видишь, приезжий. Что он о москвичах подумает?
– Да что хочет, то пусть и думает. Я его трогал? Мы к нему приставали? Сел и сиди, сопи в две дырочки, пока лишних не сделали. Ты глянь, Слон, что делается! Не спросясь – садится. А потом помогите ему! Понаехали…
– Как тебя звать-то?
– Зовуткой. Я к вам, мужики, как к людям, а вы… Я же не без рук. Придёт моё время, долго Андрея просить не придётся.
– Вот что, Андрей, ты на Ивана не обижайся. Мы только после ночной смены. Устали как черти. Он и в трезвом виде чёрт чего несёт, а уж выпьет… понимать должен. Пошли со мной, если поел.
Иван продолжал ворчать и на улице, поминая всю дорогу приезжих, которые понаехали со своими проблемами и мешают жить коренным москвичам. Во дворе Иван шмыгнул за выступ дома, погрозив Андрею здоровенным кулаком.
Слон-Миша подошёл к двери под ржавым козырьком и поманил Андрея за собой.
2
Седьмой год Анюта с Катей жили бок об бок. Сначала в одной палатке на строительстве укрепрайона (копка котлованов и уступов), куда их на добровольной основе послал горком комсомола. Затем в одном вагончике на подмосковном железнодорожном узле, в бараках почтового ящика, а теперь – в одной комнате студенческого общежития.
В первую военную осень им пришлось многое пережить вместе. Копать землю, прятаться от немецких самолётов, хоронить менее удачливых подруг, читать немецкие листовки с забористым текстом и стихами. И кто их только сочинял? Видимо, затерявшаяся в чужом стаде русская душа.
К будущему укрепрайону везли их в товарных вагонах, на облупившихся боках которых просматривались двуглавые орлы. Выгрузили посреди поля и пешком заставили прошагать полсотни километров. Выдали палатки, лопаты и котлы, в которых дня два варить было нечего. Работа была до одури нудная. Копали уступы, перекидывая землю с нижних ярусов на верхние, и так с раннего утра и до самого вечера. Между копающими ходили военные, распоряжавшиеся всеми работами.
По утрам палатки покрывались инеем, а головы промерзали, как капуста до кочерыжки, до турецкого седла. Но количество брало своё. Постепенно из исполнения трудовой и гужевой повинности вырисовывался общий результат работы тысяч людей. Отдельные участки соединялись между собой и приводились к общему порядку укрепрайона. Но до специальных сапёрных и инженерно-технических работ дело не дошло.
В конце сентября посредине дня проехала эмка, подъехавшая к группе военных. Из эмки высунулась папаха и шинель с красной оторочкой. По реакции военных, по скорости, с которой они рассыпались, стало ясно, что произошло нечто из ряда вон выходящее, то, о чём постоянно говорилось по ночам в палатках.
Вечером они уже были на марше, побросав всё, что нельзя было унести.
Эшелон, в который их посадили под утро, двигался медленно, отстаиваясь по несколько дней на полустанках и станциях, по названиям которых знатоки определяли направление затянувшегося движения, которое вскоре совсем прекратилось – от эшелона отстегнули поезд. Кормили исправно, но никаких объяснений не давали: ни где они, ни сколько всё это будет продолжаться. Велено было от вагонов далеко не отходить и быть готовыми к немедленной отправке.
В конце второй недели, когда состав стало заносить снегом, появились штатские. Они собрали девчат у неизвестно откуда взявшегося паровоза, на который залез один из штатских. Но из-за общего гвалта ничего не было слышно. Было видно, что изо рта говорившего шёл парок, но слова не доходили до слуха, уносимые ветром. Постепенно шум толпы прекратился.
– Дорогие девушка! Я еще раз повторяю: об отправке домой не может быть и речи. Поэтому вам предлагается следующее. Необходимы люди на железную дорогу и в госпитали. А также имеется работа на номерном заводе. Подумайте и к вечеру сообщите старшим по вагонам. Если списков до утра не будет, мы сами решим за вас по законам военного времени. А теперь можете расходиться по вагонам.
Какая-то бойкая девица полезла на паровоз и стала что-то объяснять штатскому. Послышался отчаянный баритон, переходящий от мороза в фальцет.
– Да поймите же! Это совершенно невозможно, будь у вас там кто бы то ни было. Там немцы. Куда вы хотите ехать? К немцам?!
Последние слова разом всех остановили. А как же родители? родственники? знакомые? Да и просто все те, кто там жил. В таком недавно близким и ставшим далёким по причине, от них не зависящей. Туда нельзя было не только поехать, но и даже написать!
Вечером Анюта с Катей решили пойти в госпиталь. Кем угодно, но только быть рядом с теми, кто мог помочь им вернуться домой. Всю ночь они мечтали, как они будут ухаживать за ранеными, читать им письма, писать ответы…
Утром их ночным планам не суждено было исполниться. В начавшейся неразберихе их внесли не в те списки, и они оказались под командой штатского с паровоза, а к концу года мастерски собирали взрыватели, засунув руки в бронированный бокс с толстенным стеклом на уровне глаз.
Тётя Поля сидела на своём обычном месте – за столиком при входе. По её дежурному кивку Анюта поняла, что Андрея пока нет. Она пошла в свою комнату, в которой вместе с ней жили ещё семь студенток. Комната была небольшая, и межкроватного пространства оставалось немного. Койки Анюты и Кати стояли рядом и ничем не отличались от заведённого комендантом порядка. Отличие занимаемого студенткой объёма начиналось на третьем ярусе: пол, кровать, тумбочка. Катин третий ярус был аккуратно прибран, застелен кружевной бумажной салфеткой, по краям которой симметрично стояли две зеленоватые вазочки со вставленными в них бумажными цветками на проволочном стебельке, сохранившиеся у Кати ещё с последней первомайской демонстрации. Между вазочками примостилось маленькое зеркальце. На Анютиной тумбочке не было свободного места от необходимых ей вещей и вещиц. Между баночками, тюбиками, разнокалиберными флаконами попадались огрызки красных, синих и чёрных карандашей, чернели заколки, часть которых была насыпана на обрывках бумаги, густо намазанных красными штрихами. Времени на уборку мусора у Анюты не хватало. Прижавшись боками к стене, стояла стайка маленьких белых слоников, ранжированных по высоте. Самых маленьких слоников прикрывала фотография Василия Белова – её однокурсника и ухожора. Белов был на два года моложе Анюты, жил в Москве с родителями в отдельной квартире. Родители часто оставляли сына одного по причине частых и разной длительности командировок. Белов-старший был кинохроникёром. У матери тоже была какая-то киношная профессия.
Когда родители Белова уезжали, вся их квартира поступала во власть студентов. Они почти ежедневно собирались в квартире Беловых, среди многочисленных вещей которых был английский патефон, под звуки которого проходила большая часть вечеринки. В группе был свой фотолетописец – Венька Комаров, любивший из групповой фотографии сделать нечто монументальное. Он загонял всех на огромный диван и долго придавал каждому телу своеобразное расположение членов, группируя их таким образом, что свежему человеку было трудно определить чьи фрагменты тел где располагались.
Сейчас родители Белова были в Прибалтике, и их приезд планировался в середине сентября. Анюта, вызывая брата, рассчитывала, на первое время, на гостеприимство Белова. Это было необходимо и из других соображений. Белов, оставаясь с Анютой наедине, сильно распалялся, и Анюта опасалась за себя. Она надеялась, что присутствие брата ограничит Белова в его порывах.
Вообще квартира Беловых не нравилась Анюте не только обилием ею никогда не виданных вещей и даже элементарным незнанием их применения, но и самой обстановкой и тем духом настороженного отношения к ней как самой обстановки, так и родителей Белова. В чуть ли не в светском отношении внутри семьи. И даже мужские имена настораживали и требовали особого обращения к их носителям. Белова —старшего звали Иван Васильевич, младшего – Василием Ивановичем. И как по секрету ей сказал Белов, своего сына, если таковой будет, он должен назвать Иваном. Было во всём этом нечто от «Войны и мира». Николай Андреевич, Андрей Николаевич, Николенька Болконские.
Белов-младший выделялся среди студентов. В его одежде не было ничего, что хоть отдалённо напоминало приметы фронтовика. Гимнастёрка, галифе, сапоги, полевая сумка или на худой конец офицерский или капитанский ремень – ничего этого в гардеробе Белова-младшего найти было просто не возможно. Скромный, но всегда новый костюм, отутюженные без блеска брюки, начищенные ботинки, галстук под цвет не только рубашки, но и носков. Будучи в гостях он просил щётку, чтобы удалить с одежды только ему заметную пылинку. По улице он ходил чрезвычайно аккуратно, не перепрыгивал через лужи, не сокращал путь через проходные дворы и скверики. Его было трудно представить на природе, посреди луга, в лесу или в тех местах, где не было тротуаров и многоэтажных домов. Эти качества претили Анюте, выросшей в маленьком городке на Волге, все улицы которого выходили в лес, или заканчивались полем.
– Ну, что? Не приехал?
– Это ты, Катёнок? Тоже сбежала с собрания? Достанется тебе завтра от Филатовой. Я-то отверчусь – брата жду.
– Ты на вокзал звонила? Поезд пришёл?
– Замечаю я, что не столько из-за меня ты хлопочешь.
– Открытие сделала! Можно подумать, – ты только сейчас об этом узнала. Я его не меньше твоего жду.
В комнате стало сереть от набежавшей тучи. Так сумерничая, они притихли, сидя на кровати…
– Ты о чём сейчас думаешь?
– Вспомнила, как мы с тобой, Катюха, к Калинину ходили…
После окончания школы они мечтали поступить в институт, но познакомились не на студенческой скамье, а в прифронтовом Подмосковье.
Проработав на номерном заводе до лета, им страстно захотелось учиться. Но куда бы не обращались, везде получали отказ. Надо было работать. Почти свыкнувшись с обстоятельствами, они как-то шли по проспекту Маркса. Проходя мимо массивных дверей с латунными пластинами, увидели табличку: Приёмная… Анюта, долго не думая, ухватилась за ручку и потянула её на себя, увлекая за собой Катерину. Дорогу им никто не преградил, у них никто не спросил, что им двум свистушкам, нужно? На другом конце ковровой дорожки, им навстречу, шёл мужчина средних лет в полувоенном мундире и с тёмными кругами род глазами.
– Товарищи, вы по какому вопросу?
– Мы хотим видеть Михаила Ивановича, – строго ответила Анюта и добавила, – товарища Калинина.
– Следуйте за мной.
И он пошёл, нисколько не заботясь о том, идут за ним или нет.
В комнате с лепным потолком, с массивной мебелью из тёмного дуба и с такими же плитами на стенах, с большой лампой под зелёным абажуром, мужчина стал разбирать бумаги в только ему известном порядке. Затем, полистав блокнот, он сказал:
– В пятницу в это же время будьте здесь. Товарищ Калинин вас примет.
Неожиданный успех окрылил подруг, они воспряли духом и стали ждать пятницу.
В назначенный день они задолго до срока сидели на стульях, выставленных в коридоре.
В кабинете сидел старичок с седыми волосами и больше похожий на профессора Полежаева в тот момент, когда он жевал нитку, готовя её для протягивания через игольное ушко. Один глаз всесоюзного старосты был прикрыт полностью, а другой щурился на вошедших.
– Что, милые, учиться хотите?
– Да, товарищ Калинин. Очень.
– Где работаете?
– На номерном заводе. Авиабомбы делаем.
– И много сделали?
– Мы не считали. Запрещено нам считать.
– Школу давно окончили?
– В июне 41-ого, – отдувалась за двоих Анюта. – Потом окопы копали, а теперь на заводе работаем. А учиться когда? Когда старухами будем?
– Во-первых, учится никогда не поздно. Но, понимаете, какое дело – война. Ваши отцы и братья воюют, а кто им оружие, снаряды делать будет? Вы комсомолки? Что я спрашиваю, по вашей настойчивости в достижении цели и без вопроса всё ясно. Но пока, дочки, надо подождать. Вот отгоним подальше немца, тогда и учиться будем. Уж вы постарайтесь, а Родина вас не забудет. Я вам обещаю.
Весной 44-ого их вызвали в райком и вручили направления в институт.
3
Второй час сидел Андрей в комнате у Слона. Они о многом переговорили, и Слон почти уговорил Андрея пойти к нему в напарники на хлебозавод.
– Ночь отработаешь, а весь день твой. В субботу пересменок. В полмесяца два свободных дня подряд. Работают одни бабы, среди которых мужик всегда местечко найдёт. Тепло, сытно. Ты когда-нибудь свежеиспеченный хлеб ел? Не пироги, а хлеб, только горячий.
Андрея, привыкшего всегда платить за всё приобретаемое, подобная направленность уговоров несколько коробила, и он ссылался на то, что ему сначала нужно увидеть сестру, а потом принимать решение.
Жилище Слона было полуподвальным. Середина окон приходилась вровень с землёй, а одно окно было вообще слепым и упиралось в ущелье домовых стен, пересечённое пожарной лестницей. В двух других торчали корни кустов палисадника, отгороженного от двора низкой, но строгой загородкой.
Круглый стол упирался ногами в середину комнаты. В межоконном проёме, над фанерной тумбочкой, зеркало в богатом окладе и со следами времени в виде мутных пятен и патины на крепёжных лапах. На противоположной стене, над диваном, облитым белым покрывалом, в овальной рамке портрет Сталина в мундире генералиссимуса с множеством орденов и с улыбкой, прикрытой усами. Бумажный абажур прикрывал единственный осветительный прибор. Обгоревший его предшественник валялся в углу, около дивана.
За дверью послышался разговор, и в комнату вкатилась утренняя знакомая, но уже без связки, с одним узлом, из которого выпирали жёлтые кошачьи уши.
– Заходи. Заходи, кума, – сопутствовал её появление Слон. – Как раз вовремя. Чайник закипел. Ты чего так накрутилась? Пока размотаешь, чай остынет.
– Не беда, – ещё вскипятим. Ой, господи! А ты откель здесь взялся?
– Знакомого встретила?
– В поезде вместе ехали. Помог мне до рынка доехать. Из-за него и в Москве осталась. Обещал придти, а он к тебе попал.
Размотав верхний платок, Лексевна засунула в узел руку и достала копилку в виде кошки, переливающая желтым и коричневым лаком.
– Вот тебе, Михаил, подарочек.
– Мне их уже ставить некуда и собирать в них нечего.
– Ничего, сначала будешь пуговицы складывать. Потом копеечки, а там и рублики попадаться начнут.
– Спасибо на добром слове. Давай размундиривайся побыстрее и к столу. Замёрзла, наверное, за день. Я тебе погорячее налью. Много сегодня наторговала?
– Да какая моя торговля? Так, по мелочи. То ли дело раньше. Всё пятьсот да тыща. А ныне – рупь да полтина.
– Небось, старыми деньгами печь топила.
– Типун тебе на язык! Какие в деревне деньги? Что получишь, то и отдашь. Клавдия скоро придёт? Дело к ней есть.
– Должна вот-вот подойти. Ты чего, Андрюха, опять собираться начал. Сейчас хозяйка придёт. Поужинаем вместе.
– Мне пора. Так я завтра пораньше зайду, как договорились.
– Ну, давай пять. Привет сестре. Решайся, – верная работа, – и он протянул руку для прощания. – Только теперь Андрей заметил, что рука Михаила была покалечена. – Да ты не пугайся. Чего только мужики на войне не оставили. А мне повезло. Так, небольшая контузия, даже пенсия не положена. Ну, прощай и не кашляй. Тебе в переулок и на трамвай, который до Яузских ворот идёт. До завтра. Буду ждать.
Конечная остановка трамвая была у проходной типографии. За окнами первого этажа – машины, сквозь которые тянулась бесконечная бумажная лента. Из подвального приямка доносилось шуршание, казалось, что вся типография была заполнена бумагой, которую множество рук беспрерывно мяли.
К общежитию Андрей подходил в уже сформировавшихся потёмках. Было то время суток, когда солнце уже зашло, а уличные фонари ещё не зажглись.
– Пропащая душа, – встретила Андрея тётя Поля. – Заждались, ваше благородие. Времени у тебя немного осталось. Чтобы в 9 часов вон бог, а вон порог. Не задерживайся. Скажи Нюрке, что для твоего приезда чайку хорошего припасла. Пусть ко мне спустится.
– Ладно, Полина Петровна, передам. Большое спасибо за заботу о сестре. Если бы не вы, давно бы в бабах была, а институты всякие и во сне перестала бы видеть.
Андрей прошёл мимо КПП и стал подниматься по тёмной лестнице, пролёты которой были освещены через этаж. Идя на свет, он увидел женскую фигуру, прижавшуюся к стене. Женщина поздоровалась, назвав его по имени-отчеству. «Мало ли я с кем в прошлом году здесь перезнакомился!» Но на всякий случай ответил на приветствие.
Коридор общежития гудел вечерним настроением. В бытовке шумели керогазы. Где-то перебирали струны гитары. Хлопали двери.
Добравшись до нужной двери, Андрей негромко постучал. Сзади кто-то шумно задышал и тихо с волнением произнёс:
– Проходите, Андрей Петрович. Анюта вас целый день ждёт. Проходите. Девочки в кино ушли, а мы с Анютой одни остались.
Андрей толкнул дверь…
– Андрюшка! Наконец-то. Ну, сколько можно ждать. Мы уже с Катей в милицию хотели звонить. Поезд пришёл, а тебя нет и нет. Поздоровайся с Катей. Ты её узнал?
– Да мы, вроде, на лестнице поздоровались. Так это вы на лестнице были.
Но самой Кати он так и не узнал. Это был другой человек. За год воображение само создало её образ нисколько не сообразуясь с оригиналом.
– Чем прикажешь тебя угощать, братишка? Имеется икра всех сортов и прочие представители моря и суши. Сейчас чайник поставлю. Не скучайте здесь.
– Во-первых, забытые тобой родители прислали со мной кое-какую провизию, а во-вторых, у Полины Петровны для тебя заготовлен особый чай.
Последнюю фразу Анюта услышала уже в коридоре. Его басовое «ай» затихло где-то в углу. Сразу стало тихо.
Катя попыталась обойти Андрея. Но его широкая фигура не вписывалась в обстановку студенческой кельи. Поняв, что от него хотят, он сдвинулся с места и подошёл к столу, выгрузив на него содержимое вещмешка.
В комнату вошла Анюта, пристально посмотрела на присутствующих, обратилась к брату:
– Ты где пропадал целый день? Мы из-за тебя на такой фильм не пошли. Девчонки обещали достать билеты на завтра, что практически невозможно, а ты даже не оценил нашей с Катей жертвы.
– Анюта, замолчи, – немного покраснев, прервала подругу Катя. – Никакой жертвы не было. У меня просто голова разболелась. И потом, смотреть как большая обезьяна прыгает с ветки на ветку и орёт весь фильм – удовольствие не из приятных.
– Ты ещё скажи, что в библиотеку ходила! Хватит притворяться, сударыня. А ты братишка, бери полотенце и марш мыть руки. Кран ещё помнишь, где находится. И чтобы одна нога там, а другая здесь.
Чай давно остыл; первоначальный порядок на столе нарушен. Они сидели молча. Анюта, развернув стул, забралась на него с ногами. Андрей, несколько отодвинувшись, сидел вполоборота. За вечер Катя не произнесла и пары слов. Она застыла в одной позе и боялась своим не только присутствием, а и любым признаком присутствия, напомнить о себе. Она боялась оказаться лишней и в любой момент готова была сорваться с места.
– Значит, ты собираешься булки печь. Перспектива не позавидуешь. А я-то думала, что пойдешь учиться. Вам, фронтовикам только захотеть, и даже МГУ не заказан.
– А ты не подумала, кто меня кормить будет. Да не дай господи, жениться приспичит. – Катя при этих словах откинула голову, как засыпающий в неудобной позе. – Что ты на это скажешь? Нет, надо идти работать. Учёба никуда не уйдёт. Видно, не скоро ещё такое время наступит, когда у каждого диплом спрашивать будут. Знаешь, сколько солдатиков не только без диплома, но и без аттестата воевало. Да ещё как воевали. Немцы у нас справку об образовании не спрашивали, и свои не показывали.
– Жильём до осени я тебе обеспечу. Есть у нас в группе один парень. У него квартира пустует. К нему мы тебя и отправлю. Я пойду, позвоню ему. Время по тети Полиным часам к регламенту подходит. Скоро по коридорам шмыгать начнёт. Посидите пока одни. Может, о чём договоритесь.
Хватаясь за чашки и ложки. Катя сорвалась с места и вышла в коридор.
– Не понятливый ты, Андрюха. Девка по тебе второй год сохнет, а ты жениться не хочешь. Чему вас только в армии учили? Кавалер называется!
– Ладно, тебе. Смотрю, тебя многому в институте научили. Этот что ли белобрысый на тумбочке кавалером твоим будет? К нему меня хочешь сплавить? В коренные москвички, смотри, не выбейся.
– Чем чёрт не шутит, когда… Но, видно, не судьба. Свекровь будущая на меня косо смотрит. Не для меня такого сокола воспитывала. Видишь, какой! Нос задрал, веки опустил. Смотрит на мир, и не смотрит. Понимает, что творит или не понимает.
Анюта, не сводя глаз с фотографии, направилась к двери. В коридоре раздался её звонкий голос:
– Сейчас, тётя Поля. Позвоню только, и сразу уйдёт.
– Говорю тебе: не положено. Правила читала? Подписывалась? Щас чтобы его ноги не было. Милиция придёт – она разбираться не станет. Брат он тебе или ещё кто… протокол составят. И все дела…
Шаркающие шаги удалились. За дверью стало тихо. Только будильники пытались перестучать друг друга, но они тишине не мешали.
4
В комнате с окнами, завешенными тёмно-синими гардинами, стоял полумрак. Почти до середины окна спускался весь в складках ламбрекен, ниже которого гардины были подхвачены витыми такого же цвета плетёными канатиками. Паркет, набранный ромбиками, казался составленным из кубиков, поставленных друг на друга, что входило в противоречие с перспективой. Стены, увешенные картинами, фотографиями и коврами, скрывали обои, но и те по качеству не уступали остальному антуражу.
«Неужели у одного человека, одной семьи, может быть столько вещей? А эта стенная галерея фотографий начала собираться ещё в прошлом веке.» Мысли Андрея ворочались медленно. Он недавно пришёл со смены и, проводив, Василия, залёг спать, но сон в такой непривычной обстановке никак не приходил. За годы военной жизни он привык к простому ложу, основой для которого была шинель, выполнявшая сразу несколько спальных функций. Только после войны в гарнизонной казарме он спал на кровати, которая была ничуть не мягче шинели.
Прошло уже больше месяца, как он поселился в квартире Беловых. За это время с Беловым-младшим они виделись не очень часто – утром да вечером, обходясь традиционными для таких случаев кивками и бормотанием чего-то не совсем разборчивого, задавая безответные вопросы. Несколько раз Андрей попадал на студенческие вечеринки, на которые его привлекала Анюта. На вечеринках бывала и Катя. Она стала более разговорчивой и раскованней с ним. Анюта придумывали поручения для них двоих. Но это настойчивое подталкивание сестры мешало Андрею сойтись ближе с Катей. Он привык выбирать и принимать решение сам. Торопливость сестры, желавшая мгновенных результатов, отталкивала Андрея, и приводила к обратному результату.
У Андрея выработалась своя манера приглядываться к женщинам и ухаживать за ними. Некоторая неразборчивость фронтовой жизни была сглажена непродолжительным постом в комендантской роте маленького немецкого городка. Обеим участникам комендантского надзора, военным и населению, было строжайше запрещено общение на бытовом уровне. Тем не менее, установленный режим провоцировал к его нарушению. В эти нарушения был вовлечён и Андрей. Мало того, он был в них замечен начальством и им же подвергнут наказанию. Вместо очередного продвижения по должности и по званию он был включён в список для отправки в Союз, а затем, несмотря, на молодые годы и перспективность, уволен в запас. Наказанию была подвергнута и его немецкая подруга, отсидевшая десять суток на комендантской гаубвахте.
Анюта всё настойчивее просила брата бросить булки и заняться чем-то более серьёзным, По её мнению ночная физическая работа не способствует развитию интеллекта и мешает наведению порядка в личной жизни. Но Андрею ночная работа была не в тягость. В его годы не жалуются на усталость, успевают везде и повсюду. Он подходил к вершине этого прекрасного периода жизни, и здравый смысл подсказывал ему, что пора делать из своих родителей дедушку и бабушку, о чём они частенько намекали в своих письмах. Всё в родительском доме подчинялось не ими заведённому порядку: мужчины должны работать, а женщины должны были рожать и воспитывать детей, встречать, провожать и кормить мужчин. Была проведена незримая граница в среде обязанностей мужчин и женщин, через которую переступать было недопустимо.
Старики были недовольны своими детьми, оставившими родной дом. Старикам не о ком было заботиться, некому было давать советы. И только в письмах, в этих остатках прежних крепких связей, они пытались как-то повлиять на судьбы оторвавшихся от них отпрысков.
Отец Андрея, Пётр Леонидович, хотя по возрасту и не был призван в армию, ходил на фронт в ополчении, но уже в январе 1942 г. вернулся в родной город, который к тому времени был освобождён. Мать Андрея, не желая оставаться под немцем, накануне сдачи города, ушла вместе с дальней роднёй. Две недели они бродили по окрестным лесам. Не попав в Москву, Наталья Ильинична вернулась к покинутому гнезду. Дом был разграблен начисто. Остался только громадный под потолок резной буфет, не вытащенный по причине его не выходящих ни в какие двери размеров. Буфет был неотъемлемой частью дома, подлежащий слому только вместе с ним.
Все комнаты были пусты, полы были застланы соломой, по запаху, стоявшему в комнатах, можно было предположить, что через дом прошла целая дивизия, оторвавшаяся от своего тыла и оставившая свой вонючий след в одной из комнат. В виду сильного мороза или по причине всё равно куда, лишь бы поскорее.
Часть домашнего скарба Наталья Ильинична обнаружила во дворе и на огороде. Кое-что принесли соседи, остававшиеся при немцах. Но это была только малая частица довоенного очага.
Когда Андрей после демобилизации навестил родителей, мать подолгу, с множеством подробностей, перечисляла все пропавшие вещи. Андрей, делая вид, что сочувствует матери, думал о том, что по сравнению с общей разрухой, потери одной семьи представляются пустяками, но ведь и из этих частных потерь разруха и состояла.
С особой дрожью в голосе мать вспоминала соседку справа, зайдя к которой после возвращения, она увидела свои стулья, покрывала на кровати и наволочки на горе подушек. С тех пор она старалась не смотреть в сторону бывших соседей и, выходя со двора, всегда поворачивала налево.
Вспоминая разговор с матерью и оглядывая комнату Василия Белова, Андрей представлял себе как бы отнеслись хозяева сей роскоши к тому обстоятельству, которое довелось пережить его матери. Старших Беловых Андрей не знал, но по некоторым Анютиным фразам выставил им невысокие отметки.
Сон никак не приходил, хотя в минувшую смену пришлось изрядно потрудиться. Опять испортился механизм поворота огромного чана, и тесто пришлось выгружать вручную. Видели бы покупатели румяных городских булок как и главное чем им пришлось орудовать. Покупатели, скорее всего, отказались бы от пристрастия к ночной выпечке, за которой по утрам выстраивалась длинная очередь любителей свежего хлеба. Скоро им поставят трофейное оборудование с разделкой теста и по формам и по весу и тогда руки человека дотронуться до хлеба только в магазине.
Встретили его на хлебозаводе весёлые девичьи глаза и солёные, не по возрасту, шутки. Коллектив цеха в основном состоял из подмосковных девчат, которые ринулись в голодную по рукам послевоенную Москву.
В смене особенно выделялась боевым видом Татьяна. В первый же день она, обойдя Андрея вокруг, заявила:
– Ну вот, что, этого парня за мной оставьте. Если кто обидит, будет иметь дело со мной.
И с тех пор обращалась к нему не иначе как «жених».
Со Слоном, Михаилом Субботиным, Андрей работал в одной смене. Слоном он был прозван за огромную выступающую холку шеи. От этого голова его сидела с некоторым уклоном вперёд, а глаза смотрели из подо лба. Слон после смены всегда зазывал Андрея в пивную. Но Андрей старался под благовидным предлогом отказаться от приглашения, хотя делать это ему было не с руки. Субботин проявил к нему почти родственное внимание, обещав похлопотать относительно постоянной прописки и жилья через свою жену, работающую секретарём в исполкоме.
Размышления Андрея, переключаясь с одного предмета на другой, терялись в уставшей от работы голове, окутываемой дурманом сна…
За постоянными мыслями об Андрее Катя не заметила, как подошла сессия. Чувство её, зародившееся заочно под влиянием разговоров с Анютой ещё на копке, было закреплено прошлогодней встречей. Анюта открывала перед подругой такие стороны брата, которыми он, может быть, и не обладал, но при наличии которых Андрей был обречён на любовь любой девушки.
Катя уверила себя, что видела Андрея на пристани их города, куда она пришла проводить тёткиного мужа, в семье которых она жила с молодых ногтей. Андрей был тот самый новобранец, на которого Катя обратила внимание. Проходя мимо Кати, он осторожно дотронулся до её плеча и сказал:
– А вы, девушка, кого провожаете? – и, не дождавшись ответа, прыгнул на уже отчалявший пароход. Протиснувшись на корму через толпу мобилизованных, он долго махал кому-то. Катя была уверена, что его жесты предназначались именно ей, и она, за миг до того, как пароход скрылся за излучиной, подняла руку и тоже несколько раз махнула ему. Но сколько она не спрашивала Анюту, та никак не могла, вспомнит точно дату проводов брата, тем самым полулегенда обрела статус факта и трактовалась как рок давно определённой сверху судьбы…
– Послушай, подруга, – голос Анюты вернул Катю к действительности. – Гляжу я на тебя и думаю, больно глубоко ты, мать, погружаешься. Смотри, дыхания не хватит. Плыви ближе к поверхности. Ребятами нужно самой управлять, а не шагать под их петушиные крики.






