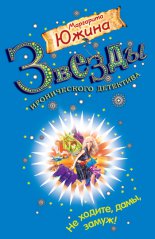История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия) Мицова Инга

– Бешеная! Бейте! – И те же самые зрители забивали собаку камнями.
Улицы были узкие, кривые, с подернутыми зеленью зловонными лужами. Лишь небольшая часть улиц была вымощена, другие тонули – летом в пыли, зимой в грязи.
Во время рамазана турки, которые составляли половину жителей Плевны, на ранней заре били в барабаны. Все просыпались. Вечером, когда зажигался фонарь на мечети около кафе «Чифте», по городу несся тонкий голос муллы, который выпевал праздничную молитву. Затем раздавался крик:
– Вард-а-а-а! Турското топче и ще гръмне!
И пушка, взятая на время в Городском управлении, стреляла, оповещая, что теперь можно приступить к еде.
Я слышу в себе глухой ропот моих прародителей со стороны Цаны, струится черная кровь «дели» (бешеного) Николы, родного брата моего прадеда, отца Цаны. Его жизнь приходится на начало и середину XIX века, тогда одно за другим вспыхивали восстания против турецкого порабощения. По преданию, у дели Николы был большой нож с двумя остриями. Однажды турок обматерил его, и дели Никола, пробравшись летней ночью на его двор, вырезал девять членов семьи обидчика. Сумели подкупить турецкого судью, и тот вынес приговор – всего 9 лет тюрьмы в Диарбекире, городе в юго-восточной части турецких владений в Малой Азии, цитадель которого служила местом заключения политических преступников, в том числе деятелей болгарского национально-освободительного движения.
В начале ХХ века в Плевне был театр и кинематограф (а может, и два), три духовых оркестра (и даже один струнный), много хоров. На улицах плясали по праздникам хоро (национальный болгарский танец) под звуки гайды. Был и городской сад. Из храмов – три православных церкви, мечеть и синагога. Летним утром стада коз и овец покидали окраины города, и мелодичный перезвон колокольчиков успокаивал, плывя по узким, тонущим в пыли улочкам.
После смерти Василия Мицова судьба семьи полностью зависела от Цаны. Вот тогда и проявился ее стойкий характер. Бабушка Цана, маленькая, проворная, красивая, очень гордая, и пряла, и ткала; говорили, что занималась и гаданием. И довольно успешно. Эта мистическая способность осталась и у папы, и частично у меня. По слухам, Цана также подпольно делала аборты. Может быть, и так: судя по фотографии, ее рука не дрожала и глаз был верен. Но денег хватало не всегда.
Часто Цана тихо говорила детям: «Накрывайте стол в саду, стучите ложками, стучите тарелками – пусть соседи думают, что у нас есть обед и тарелки полны». Что они голодали, знала только сестра Цаны, которая, скрывая под платком краюху хлеба (тайком от мужа!), иногда приносила им поесть. Память о постоянном голоде таится в глазах моего отца многие годы. В глазах, то злых и угрюмых, то довольных и веселых, всегда лежал этот неуверенный отблеск голодного детства.
По вечерам Цана, повязав голову черным платком, в черном вдовьем платье, пересекала двор по вымощенной дорожке, выходила за ворота на маленькую площадку, садилась на скамейку. За Цаной ковылял малыш – папа, с курчавой шапкой волос, с круглыми глазами, тонким ртом и опущенными вниз уголкам губ – точная копия самой Цаны. Папа ждал фонарщика, который с маленькой лестничкой в руке перебегал от фонаря к фонарю, быстро вскарабкивался наверх и поджигал газ. А молодежь, как в старину, собиралась у чешмы — источника – неподалеку от дома Мицовых. Оттуда несся смех, пение.
– Цана, – подходила соседка, – посмотри на кофе: муж уехал в Софию, собирался вернуться в пятницу, а сегодня уже воскресенье…
– Фотография есть?
– Есть.
Цана вставала, медленно шла в дом. Там, на кухне, она медленно, молча варила на слабом огне принесенное соседкой в кулечке кофе, не спеша ставила кофейные чашки на низенький столик, стоявший в углу, разливала из медного джазве по маленьким чашкам кофе, пузырящийся обильной пеной. Обе женщины, сидя на маленьких низеньких скамеечках, медленно пили кофе.
– Опрокинь чашку на блюдечко, – говорила Цана, – осторожно, правой рукой. – Нет, нет, на себя.
Уходя, женщина оставляла кусок хлеба.
В 12 часов дня раздавался крик:
– Поезд из Софии пришел!
С вокзала неслись велосипедисты с кипами газет, и папа (ему было лет шесть) в коротеньких штанишках подхватывал на ходу кипу, мчался на главную улицу и, картавя, кричал:
– Утренние газеты!
Старший брат Василий, тот, который на карточке смотрит в объектив печальным задумчивым взглядом, с четырнадцати лет стал работать в типографии. Он первый принес в дом газеты «Работнически вестник», «Новое время». Цана негодовала. Василий был связан с партией «тесных социалистов» (в будущем – партией болгарских большевиков). Василий-Чучулига (жаворонок), несмотря на свой возраст, был выбран секретарем союза печатников, посещал клуб рабочих «Пробуждение» и брал шестилетнего папу с собой. На праздниках папу ставили на деревянную скамейку, и он, картавя, декламировал:
- Режи, режи, ти бичкийо,
- Бягай, черна сиромашийо!
(Пили, пили, пила, // Убегай черная нужда! – И.М.).
Семнадцатилетнего Василия подстерегли за городом в ночь на Димитров день и убили.
«Муку по старшему брату, моему первому учителю по социализму, ношу в сердце по сей день», – писал восьмидесятилетний мой отец.
Проходят три военных тяжелых года. Европа дымится, везде вспыхивают восстания. В Германии свергают кайзера Вильгельма, в Берлине, в Баварии и других местах выбраны советы рабочих и солдатских депутатов. Австро-Венгерская империя распадается на Австрию, Чехословакию, Венгрию, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (будущую Югославию). Вот-вот мировой пожар революции зальет всю Европу… И вдруг новость! В Болгарии, в городе Радомире, солдаты тоже восстали, провозгласили республику, объявили о низвержении царя Фердинанда и сейчас направляются в Софию.
Иван Дамянов, Моис Нисимов, Андро Луканов и папа, четверо плевенских ребят из одной махалы, рано утром, с железными прутьями в руках, садятся в поезд. Они едут в Софию, чтобы присоединиться к «Владайскому» («Войнишкому») восстанию. О! С какой радостью они встали бы рядом с солдатами, круша противника! Но, проболтавшись день-два по Ючбунару (кварталу Софии), узнали, что артиллерия разогнала войска. Сказали им об этом офицеры из Плевны, которых они встретили на софийских улицах.
– Ступайте домой, ребятки, – сказали они, – тут плохо пахнет.
В сентябре 1918 года, усталые, голодные, ребята возвращаются домой. Только четверо из всего города? Кажется, да. Других они не упоминали.
А 3 октября Фердинанд отрекается от престола и передает власть сыну Борису.
«Не прошло много времени, как меня позвал Васька – Василий Каравасилев. Каравасилев был молодой, обаятельный, с матовой кожей, густой кудрявой шевелюрой, высоким лбом, широким массивным волевым подбородком. Он был убежденный коммунист, вернувшийся с фронта с сорванными, в знак протеста, погонами. Когда-то они были приятели с моим старшим братом, Василием.
– Здравко, – обратился он ко мне. – Ты можешь привести несколько верных ребят сюда в клуб? Надо поговорить.
– Могу, бай Василе».
15 декабря 1918 года те самые смельчаки, которые рвались участвовать в восстании, собрались в комнатке партийного клуба. Вечереет. Пять человек примостились у горящей «буржуйки». Среди них двадцатипятилетний Василий. Говорит с каждым в отдельности. Спрашивает, хотят ли работать организованно для свержения буржуазии. Рассказывает им про империалистическую войну, о революции в России, о традициях молодых социалистов в Плевне.
И вот здесь у меня впервые сжимается сердце. У маленькой печурки четверо замерзших ребят готовы пожертвовать жизнью за счастье неизвестных им людей.
– Сейчас, – голос Каравасилева сильный, торжественный, – мы основываем молодежное дружество при партии тесных социалистов. Предлагаю выбрать секретаря.
– Ты, конечно, бай Василий, – отвечают ребята с воодушевлением.
Папу выбирают секретарем контрольной комиссии.
А было ли у моего папы детство, в его обычном понимании, – товарищи, игры, развлечения? Конечно, кое-что ему перепало. Были походы на реку Тученицу, грязную речушку, вошедшую в историю после осады Плевны русскими войсками в 1879 году, и на реку Вит, в семи километрах от города, были прыжки с моста, бесконечные купания. Ловил змей, прижимая голову змеи раздвоенной на конце палкой, быстро обхватывал пальцами сзади за голову, смотрел, как змея, извиваясь, обвивает руку… А потом? Вероятно – забивал змею той же палкой.
Был друг, оставшийся близким и единственным на всю жизнь – Андро Луканов, сын Тодора Луканова, живший неподалеку, остроумный, веселый босоногий мальчишка, деливший с ним ломоть теплого хлеба, посыпанного солью и красным перцем…
Но вот уже впервые приходят в дом и делают обыск, арестовывают…
«В связи с борьбой за победу коммунистов на выборах в Плевенскую городскую общину в 1919 году я, 16-летний ученик 6-го класса (сейчас это 10-й), был арестован вместе с 16 взрослыми коммунистами и посажен в окружную тюрьму – за насильственный разгон собрания “широких” социалистов (разгон сопровождался избиениями и ножевыми ранениями)».
Двое жандармов входят во двор, проходят по узкой мощеной дорожке, поднимаются по ступенькам и без стука открывают дверь.
– Эй! – кричит один из них. – Дома кто есть?
Из комнаты молча выходит Цана. Маленькая, в черном платье, черные волосы покрыты платком. Ей 47 лет.
– Здравствуй, госпожа Цана, – говорит жандарм. – А твой сын?
Цана не успевает ответить, за спиной вырастает папа.
– Тут я.
– Ну-ка, пропусти, – говорит жандарм, отталкивая папу и проходя в комнату.
И когда двое жандармов проходят в комнату, папа молча протягивает руку, преграждая дорогу матери. Но Цана нагибается и под рукой сына входит следом, пересекает комнату и становится у окна, занавешенного плотной белой шторой, защищающей от жарких солнечных лучей.
В комнате стол, несколько плетеных стульев, полки с книгами, на полу разноцветная черга (домотканый ковер, изделие самой Цаны). Жандармы оглядывают комнату, один остается у двери, другой подходит к полкам.
– Мама, – обращается отец к Цане, – принеси-ка мне поесть.
– Смотри – ест, – говорит жандарм, стоящий у двери. – Ест, – повторяет он, – значит, невиновен.
Его напарник только мельком глядит на папу, он кидает одну за другой книги в мешок. Туда уже последовали «Разбойники» Шиллера и «Война и мир» Толстого – как нелегальная коммунистическая литература.
– А! Ты и такие книги читаешь! – вдруг обращается он к папе, держа «Капитал» Маркса. – Молодец. Разбогатеешь, прекратишь безобразничать. Ну а сейчас обувайся, пошли.
Цана медленно идет следом по каменной, выложенной когда-то мужем дорожке. Провожает, как дорогих гостей, до калитки, а потом смотрит вслед.
– Господи, помоги ему, – крестится Цана.
Это был первый арест. После второго папу исключили из гимназии с «волчьим билетом».
Думаю, что именно в то время папа набрасывается на чтение. В первую очередь за марксистскую литературу. Особенно он ценил труд Дмитрия Благоева «К марксизму».
Что еще читал? Не знаю. Умел говорить, умел думать, делать выводы и обобщать. Знаю, что вел кружок по марксизму среди плевенских комсомольцев, знаю, что позже, когда он бежал из Болгарии в Австрию и оказался в Граце, ему, самому молодому, сразу поручили доклады не только для ознакомления соратников с учением Маркса – Ленина, но и о перспективах развития революционного движения.
А в июне 1923 года, после восстания, как я уже писала, часть активных комсомольцев, в том числе и папу, было решено на подводной лодке по маршруту Варна – Севастополь отправить в Советский Союз. Но в Варне папу ждало потрясение. На улице он встречает Василия Каравасилева, о котором точно знает, что тот находится в Москве. Но… организатор комсомольского движения в Плевне шел ему навстречу. Потрясение было столь сильным, что, забыв про конспирацию, папа застыл на месте.
«Василий, красавец, высокий, плечистый, стоял передо мной. Сказал, что учится в Военной академии им. Фрунзе, знает про июньское восстание в Плевне, что приплыл по каналу Севастополь – Варна для использования опыта военных знаний. Из всего рассказанного в сознании остался единственный факт – в сентябре в Болгарии готовится антифашистское восстание, и уже ничто не было в состоянии оторвать меня от болгарского берега. Вопреки огромной радости, вопреки сокровенному желанию, вопреки тому, что был на краю осуществления своего горячего желания, осуществления своей мечты с детских лет – попасть в Россию и там учиться, мои товарищи уплыли, а я остался. Вернулся в Плевну нелегально. Пришел как-то ночью к маме. Обошел дом. Я знал, где мать спит. Постучал в окно. А она, будто только и ждала, сразу выскочила».
Я вижу кудрявого, черноволосого, высокого, худого, так похожего лицом на мать папу. Ему только исполнилось двадцать лет. Мать, верившую, что еще увидит сына, выскочившую в ночной рубашке… Они очень любили друг друга.
«Оружие июньского восстания было спрятано, надо было его подготовить. Дух был высоким, были готовы на бой, но в сентябре пароль в Плевну на восстание не был дан. Организованное сентябрьское восстание, которое охватило многие округа, города и села, было неудачное. Я нелегально по-прежнему работал в Плевенском округе. Время от времени заходил по ночам к матери. Меня все время разыскивали, я прятался. Но они чувствовали – я здесь, поблизости. И вот умирает участник нашего хора. Тенор. Хороший тенор был. Как пел! Умер от туберкулеза. Я написал некролог. Его расклеили по городу. И только сейчас люди узнали, что это был прекрасный человек и коммунист. Этот некролог, вероятно, и выдал меня. Через какое-то время я прихожу к матери, и она выносит мне письмо, посланное по почте. Все как полагается. Но подписано кровью. “Кровью мы подписываемся, что тебе не жить”. Ну, я и поехал в Софию. Было известно, что тех, кому присылали подобные письма, впоследствии убивали».
О том, что папа был приговорен к смерти, что получил письмо, подписанное кровью, я знала давно. Но никогда мне не приходило в голову подумать о моей бабушке. Что она-то пережила? И представляю я жаркий, не по-осеннему, день, бабушку Цану в опустевшем доме, в черном платье, голова повязана черным платком. Она сидит у окна, полотняная занавеска поднята, и ждет, ждет с утра до ночи. Она настороже. И в окно видит, как по ее двору идут двое жандармов. Она даже не встает со стула.
– Госпожа Цана, где твой сын? – кричит один жандарм, останавливаясь на пороге. Другого жандарма Цана не видит. О, она давно готова к этому вопросу, она пожимает плечами и встает со стула.
– Я его видела в последний раз одиннадцатого июня.
– И он больше не появлялся?
– Я его не видела.
Цана стоит в дверях со скрещенными руками на груди.
– А ну, пропусти, – говорит жандарм и отстраняет Цану.
Он быстро проходит в другую комнату, быстро обходит дом. Никого. Да он и не ожидал кого-то увидеть. Этот Здравко не прост.
– А вот некролог, – останавливается он около Цаны, – видела?
– Видела, конечно, он висит на каждой улице.
– А кто написал?
Цана пожимает плечами. Здравко учил: как можно меньше говорить. Жандарм злится:
– Мы знаем – написал твой сын.
Цана молчит.
– Быть того не может, чтоб он был в Плевне и не заходил к тебе. Говори.
– Укажите мне на того, кто видел Здравко после восстания. Я его не видела, – говорит Цана и чувствует, как дрожат ноги.
– Собирайся, пойдешь с нами в участок, – говорит другой жандарм, появляясь в дверях. – Там посидишь на цементном полу. Ничего, сынок, если только у него есть совесть, прибежит.
Цана, как была в черном платье, в черном платке, в налымах (сабо, деревянные башмаки без задников), выходит на улицу. Жарко. Соседки выглядывают из-за штор. Перед церковью Св. Николая Цана останавливается, поднимает голову, смотрит на купол, где блестит небольшой крест:
– Господи, сделай, чтобы Здравко не узнал. Чтобы не пришел.
Участок рядом. Цану вводят и без дальнейших вопросов толкают в подвал. Первое впечатление – отдохнет от жары. В камере пусто, она садится на пол, прислоняется к холодной стене, вытягивает ноги. Нет мыслей. Есть страх: Здравко может сам явиться. А ему всего-то двадцать… Цана ложится на цементный пол, сильно болит сердце. Проходит день. Второй…
Никогда за всю жизнь столько не лежала, столько не молчала. Цана не спит, в полудреме механически повторяет: «Господи, спаси сына, сделай, чтобы Здравко не узнал, не пришел, Господи, помоги… Может, он уехал? Нет. Не уехал бы, не попрощавшись… Убьют… Сначала будут бить… Может, он уже лежит где-нибудь в лесу… как тогда Василий… как Асен Халачев…»
– Господи, помоги! – кричит Цана.
– Чего кричишь? – в дверях жандарм.
Раз в день приносят еду. Она вглядывается в лица жандармов… Кажется, ничего… И вдруг на третий день утром:
– Эй, Цана, выходи, сынок прибежал!
Уже не «госпожа», она – арестант, мать преступника.
В комнате, куда выводят Цану, громкий смех. Здравко напряженным взглядом оглядывает мать – серое лицо, глаза черные, ввалившиеся.
– Сынок! – бросается Цана к сыну.
– Куда! Нельзя! – кричит жандарм.
Сын поднимает руки, и Цана видит наручники.
– Мама, не плачь. – Голос сына злой, раздраженный.
Цана пугается. Что-то она делает не так.
– Пошел! – кричит жандарм и толкает сына в спину.
В глазах сына беспокойство за нее – выдержит ли? Мать стоит в измятом черном платье, растрепанная, черный платок сполз на плечи, пристально смотрит в глаза сына.
– Свободна, – слышит она.
Из записок моего отца:
«А они забрали мою мать. Посадили в участок. “Пока не придет твой сын, будешь сидеть на цементном полу”. Вести разносятся. Да. Так я узнал, что мать в участке, и говорю: “Пойду, сдамся”. А мне говорят: “Убьют”. И все-таки пошел. Мать выпустили.
И она выскочила из участка и побежала к нашему дальнему родственнику, он был известный фашист. И этот родственник написал: “отпустить” на клочке бумаги. Когда меня отпускали, начальник участка сказал: “Знаю, что именно ты подожжешь Плевну с четырех сторон, но приказ есть приказ. И я сейчас тебя отпускаю. Но в ближайшее время арестую. Ты от меня не убежишь”.
…Еще раз я приехал попрощаться с матерью. Приехал ночью. А ночь была лу-у-у-нная. Тихо пробрался по двору, стукнул в окно. Она выскочила во двор. Мама, которая боялась остаться одна, которая хотела, чтобы самый маленький сын остался с ней и остался живым, чтобы я был с ней в последний час, шептала:
– Беги, сынок…»
Бедная моя бабушка Цана. Она в последний раз заглянула в глаза сына, положила голову ему на плечо. Она не плакала. Плакал папа.
«По решению ЦК БКП я должен был уехать в Югославию. В Софии я был неизвестен и смог получить паспорт и поехать в Австрию легально, с возможностью оттуда уехать в СССР или остаться в Австрии как студент. Второй раз мне предлагалась возможность поехать в Россию. Но в этот раз меня остановил мой сыновний долг – мама. Моя родная мама! Мысль, что я ее оставляю одну, бросаю, что, может быть, мы больше никогда не увидимся, связывала меня невидимыми нитями. Все же в Австрии я мог жить легально, учиться, и, возможно, мне бы удалось видеться хотя бы изредка с матерью. А в Советской России во всех случаях должен был лишиться легального паспорта, и когда и как могло осуществиться возвращение оттуда, никто не мог сказать…»
В папин родительский дом, показавшийся мне большим, я попала в январские школьные каникулы 1946 года. Зимним вечером в этом доме собрались гости – все хотели поздравить папу с возвращением в родной город. Почему-то было очень весело, мы с братом бегали по кругу, белые чистые стены, старинные черные, кованые ручки на тяжелых, низких дверях. И вдруг, с трудом повернув черную ручку, я увидела папу. В пустой комнате стояла одна железная старинная кровать, с коваными витыми спинками, кровать без матраса, без простыни. Папа лежал на широких железных переплетах, заложив руки за голову. Он даже не повернул голову в мою сторону.
Именно в окно этой комнаты давным-давно тихо постучал он, и его мама сразу открыла окно, будто только этого и ждала…
С этого дня начались скитания папы, его эмиграция сначала в Австрию (когда он иногда мог видеть мать), а после ее смерти в 1927 году – в СССР.
Как-то незадолго до смерти папа мне рассказывал о том, как чуть было не потонул, когда, не рассчитав сил, заплыл глубоко в море. Меня поразили его слова:
– Так ясно представил – силы кончатся, упаду на дно, рыбы увидят, что неподвижный, начнут кусать – и конец жизни, конец мировой революции!
Я была поражена: для него жизнь и осуществление мировой революции – а значит, построение социализма – были равноценны?
Молодость папы пришлась именно на то время. Да, тогда многие, очень многие верили, именно верили – в мировую революцию, в ее победу, в итог этой победы – построение социализма во всей Европе. Да, было время, когда дед моих сыновей и прадед моих внуков боролся за построение нового общества, которое создаст все условия для счастливой жизни.
Утверждение, что построить социализм можно и в одной, отдельно взятой стране, было высказано позже, уже в 1930-е годы, когда надежда на всемирную революцию угасла. А тогда, в начале двадцатых, еще жила идея перманентной мировой революции. Троцкий, страстный защитник этой идеи, призывал немедленно нанести удар по немецкой буржуазии: «Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, – утверждает он летом 1923 года, – то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка». Он требует не упускать удобного случая. А ситуация в Германии после Первой мировой войны была очень тяжелой.
И вот осенью 1923 года посылаются в Германию с секретной миссией четверо важных советских руководителей: Юрий Пятаков – заместитель председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, Иосиф Уншлихт – заместитель председателя ОГПУ, Карл Радек – деятель Коминтерна и Василий Шмидт – народный комиссар по вопросам труда. Каждый имел свой круг задач: Пятаков должен был осуществлять связь с Москвой, Радек – исполнять роль эмиссара Коминтерна в немецкой компартии, Уиншлихт должен был организовать «красные сотни», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем станут костяком германского отдела ОГПУ. В задачу Шмидта входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов – зародышей новой государственной власти. Революционные агитаторы – немцы и коммунисты, говорящие по-немецки, – были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие, агитационные листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначавшихся для оплаты обычных торговых операций. Готовились серьезно.
Тогда, в ноябре 1923 года, революция в Германии провалилась. Но Европа еще бурлила. Был расчет, что поднимутся рабочие из других стран. В октябре 1923 года, после разгрома в Болгарии сентябрьского восстания, австрийская пресса сообщает, что в Вену приехали Георгий Димитров и Василий Коларов. В Вене учреждается Заграничное бюро БКП, одобренное ИККИ – Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала – Исполкомом Коминтерна.
Именно в это время папа эмигрирует в Австрию.
Это было в конце 1923 года. Поезд замедлил ход и остановился на станции Ниш. Билет у папы был до Вены, но, по инструкции, он должен был сойти в Нише, чтобы представиться руководству болгарских политэмигрантов.
Папа принарядился, но именно этот парадный вид (черный костюм, белая рубашка, черные туфли) и выдавал в нем бедного провинциала. Он высунулся в окно. На перроне стояли Георгий Дамянов, Иван Кинов, Фердинанд Козовский – партийное руководство. И папа ринулся к выходу.
Лично ни с кем папа не был знаком – это были люди старше его, авторитетные, и знал папа их только по партийным конференциям. Хорошо одетые, представительные, спокойно и молча они смотрели на папу, похлопали по плечу, разглядели паспорт. Потом Дамянов сказал:
– Здравко, поезжай в Грац. С этим отличным дипломом запишешься студентом. Но сначала в Вену, к Бояну.
В поезд садились люди. Оглядывали подозрительно, потом забывали. В Белграде села в поезд невысокая худенькая девушка с интеллигентным лицом, со скрипкой в руках.
– Вы из Софии? – обратилась она к папе по-болгарски.
Папа хмуро взглянул, качнул головой и отвернулся к окну.
Ехали по Хорватии. Ровное поле кругом, река Сава широко разлилась по равнине, а за ней полыхал кровавый закат. Слева и справа – дома и церкви в готическом стиле. Папа настолько был поглощен зрелищем, что не заметил, как девушка вытащила из футляра скрипку и заиграла «Песню Сольвейг» Грига. Мягкая, исполненная грусти и нежности мелодия заполнила купе, и, сам того не замечая, не отрываясь от окна, папа тихонько стал подпевать.
– Вам знакома эта мелодия? – Девушка глядела удивленно на папу.
Папа вздрогнул и замолчал. Его бедняцкий, провинциальный вид, его хмурая застенчивость никак не могли навести на мысль, что он образован и в какой-то степени музыкален.
«Только потом, по прошествии многих лет, мне пришло на ум: не села ли скрипачка специально в вагон, не была ли она послана Заграничным бюро, чтобы вот так же ободрить меня, как потом делал я на протяжении нескольких лет? Откуда она могла знать, что я болгарин? Она прекрасно говорила по-немецки. Возможно, она хотела мне помочь прийти в себя, мучилась и, не зная, как облегчить мое состояние, заиграла. Может быть».
В Вене искал улицу Таборштрассе, где в доме под номером 2 на первом этаже находилась закусочная, а на втором располагался один из отделов Заграничного бюро ЦК. Открыл дверь – перед ним стоял спокойный, скромный, внимательный молодой человек лет тридцати, товарищ Боян, секретарь заграничного ЦК БКП.
«Как же я был рад, когда понял, что Боян – это Иван Генчев Караиванов, бывший заведующий литературно-художественным отделом при партийном журнале “Новое время”, редактором которого был Дмитрий Благоев. Еще будучи учеником, я много читал. Журнал “Новое время” прочитывал от корки до корки. Мне очень нравились хорошая художественная критика, под которой стояла подпись “Иван Генчев”. Он меня очень интересовал, и когда представилась возможность и я оказался в редакции, то познакомился с ним.
Он меня тоже узнал и тепло встретил.
– Ты легализуешься, – сказал он. – У нас хватает нелегализованных. С документами об окончании среднего образования запишешься студентом».
Постепенно папа входит в новую жизнь. Оживляет свои скудные познания в немецком, знакомится с городом, работает курьером ЦК. Что содержат пакеты, кто адресат – конечно, не знает, но часто пакеты были предназначены для внешнего отдела советского посольства. С трепетом переступал порог, будто пересекал советскую границу, говорил только – «от Бояна». «Этого было достаточно – чтобы потом целый день было легко на душе».
Сейчас, задумываясь, на какие средства папа существовал, вспоминая его слова «как жил первые полтора года – один Бог знает», я понимаю – единственным источником средств была та мелочь, которую ему выдавали на трамвай. Будто сквозь сон доносятся слова: «Всюду ходил пешком. Всю Вену исходил». С утра ему вручали почту, он спускался вниз, где была расположена забегаловка, там стоя выпивал чашку эрзац-кофе. Съедал бутерброд. И затем… принимался ходить по адресам. Постоянного местожительства папа в Вене не имел, спал там, куда посылали, обыкновенно в пригородных кварталах. Зато отлично изучил этот прекрасный город. И, конечно, старался посещать музеи в дни открытых дверей, библиотеки, а также учил, учил немецкий.
Вскоре его стали использовать и для другой деятельности: «Связывали меня с нашими людьми, приезжающими из Советского Союза и едущими в Болгарию. Эти люди шли в основном по военной организации партии. Я организовывал им встречи, оказывал помощь при легализации, знакомил с обстановкой в Болгарии. Однажды меня предупредили, что приехал Василий Каравасилев (о котором знал, что после Сентябрьского восстания опять вернулся в СССР продолжать образование в Военной академии в Москве) и хочет меня видеть. Не мог дождаться встречи. Василий, старый конспиратор, назначил мне встречу в венском кафе».
Спустя несколько недель, под вечер, в маленьком венском кафе, с диванами, на которых можно было видеть дам со спицами в руках, за маленьким столиком сидели двое мужчин, очень похожих друг на друга. Старший брат и младший – тот же высокий лоб, шапка курчавых волос, тонкие, будто нарисованные, брови, волевой подбородок, черные глаза… только у старшего была недавно отпущенная бородка для маскировки.
«Этому человеку верил, как себе. Мог говорить обо всем. Делиться волнениями, мыслями, соображениями. Василий был личностью большой величины – партийной, военной, интернациональной. В начале он задавал вопросы, хотел сориентироваться в обстановке в Болгарии, в Плевне. Для него это была очень ценная информация, перед его появлением в Болгарии. Я бы первый из Плевны, которого он встретил. Когда заговорили обо мне, показал ему письмо, подписанное кровью, сказал, что предполагаю, что написал его Ванко Мильчев, сын плевенского адвоката, цанковиста. С Ванко мы были ровесники – буйный, нахальный, он неоднократно заявлял, что имеет большое желание испить моей кровушки. Каравасилев сказал: “ничего странного”, и положил письмо в карман.
Пока Василий был в Вене, встречались несколько раз. Однажды его сопровождал молодой худенький человек в очках, с подчеркнуто интеллигентным лицом.
Белое доброжелательное, миловидное лицо излучало спокойствие и сдержанную одухотворенность, и даже на ум не могло прийти, что за этим видом скрывается опасный конспиратор.
– Меня зовут Иван Минков, – и усмехнулся дружески.
Опять пили кофе. Но на этот раз в шикарном большом кафе».
Спокойно, привычно сидели на мягком диване двое – Василий Каравасилев и Иван Минков. Папа сидел в кресле спиной к залу и был настороже. Неяркий свет из-под розовато-кремового абажура освещал лица. Все трое медленно пили кофе и тихо беседовали.
В основном говорил папа, описывая положение в Болгарии, и когда он, возбуждаясь, повышал голос, Иван Минков похлопывал его по руке.
Минкова интересовали многие вещи, но больше всего то, что связано с фашистской разведкой – поведение ее сотрудников днем и ночью. Отношение их к коммунистам, к земледельцам, к социалистам.
«И Карата, и Минков разговаривали в моем присутствии совершенно свободно. Понял, что и Минков отправляется в Болгарию в военный отдел ЦК БКП. И что учится в Москве в Академии имени Фрунзе.
Минков задавал вопросы, которые я вообще никогда не задавал себе. Теперь смотрел на собеседника совсем другими глазами. Внешний вид его был обманчив, не соответствовал его глубине. Минков говорил тихо, без жестикуляций, казалось, что мы собрались просто посидеть, побеседовать и выпить по чашке кофе».
– Маловероятно, что полиция располагает столь большим количеством детективов и агентов. Вероятнее всего – это добровольные сотрудники полиции. Государственный бюджет не может выдержать такой аппарат, – задумчиво подытожил Минков папин рассказ и, улыбнувшись, непринужденно направился к роялю, стоявшему в глубине зала.
Папа, замерев, смотрел на спокойно идущего мимо столиков Минкова. Оглянулся на Каравасилева, потом опять на Минкова. Иван Минков легко поднялся на сцену, поднял крышку рояля и тронул клавиши. Музыка, прекрасная, исполненная задумчивости и смирения, заполнила кафе.
Все затихли, кафе превратилось в концертный зал. Наступал вечер – время, когда жители Вены заполняют кафе и рестораны. В заведении было много народа, и папа испугался. Как Минков осмеливается привлекать внимание посторонних в кафе в центре Вены? Но Каравасилев только смотрел на папу, усмехался и молчал.
– Какой музыкант! – восклицали посетители, они бурно рукоплескали после каждого исполнения. Просили играть и играть еще. Но их воодушевление совсем папу не успокаивало.
– Кара, – сказал папа, – немцы что-то очень заинтересовались нашим человеком. Не привлечь бы внимание полиции.
– Слушай, слушай, отдохни душой, расслабься.
«Тогда мог ли знать, что Минков являлся автором мелодии к прекрасному стихотворению Ивана Вазова:
- Убитые, в иной вас полк послали,
- Нет отпуска, не слышан зов борьбы,
- Легли, по-братски руки сжали,
- Друг другу доброй ночи пожелали
- До той – второй – трубы…
Сейчас эти слова выбиты на памятнике Неизвестному солдату в Софии».
С фотографий смотрят на меня и Каравасилев, и Минков. Каравасилева по-прежнему можно спутать с папой. Только взгляд… Взгляд открытый, но немного печальный. Минков задумчиво смотрит в сторону. Его умное близорукое лицо, круглые очки, рассеянно-задумчивый вид внушают опасение за его судьбу. Возможно, он видит то, чего не видят другие; возможно, ему страшно; возможно, он предугадывает свой конец.
Каравасилев погиб спустя несколько месяцев. Погиб в Болгарии, так и не возвратившись в Москву. Иван Минков через год после этой встречи, тоже в Болгарии, покончил с собой в момент ареста.
«В это же время в Вене появился и другой сотрудник военного центра партии Трифон Георгиев Ямаков, бывший студент философского факультета в Софии. Я тоже в [19]22 году записался на этот факультет, но т. к. не мог посещать занятия, то часто в Плевне собирались беседовать с Ямаковым. Еще тогда Ямака имел пропуск в Общественную безопасность, где его считали своим человеком, тогда как в то время он работал в Военной организации партии и мог сообщать о самых злостных садистах. Ямака узнал, что я в Вене, и тоже захотел встретиться со мной. Эта встреча чуть было не перевернула мою жизнь. Ямака сказал, что работает в Софии, но под нелегальным именем, что партия усиленно готовится к новому восстанию, кадры вооружаются и связываются через пароль “Балкан”. Он был воодушевлен – без сомнения, на этот раз восстание будут успешным, возьмем власть, приехал в Вену с отчетом и за инструкциями. И во время рассказа вдруг обратился ко мне:
– А ты что тут делаешь? А ну, возвращайся обратно и берись за дело. Чтобы потом не сожалеть.
Мне этого хватило. Был готов сейчас же поехать. Но в Заграничном бюро решили не так – Ямак уехал в Болгарию, а меня направили в Грац, для создания Партийной Группы Содействия.
Боян (Иван Генчев) объяснил и задачи ПГС – постепенная массовая организация студентов-коммунистов, привлечение левонастроенных студентов, создание общедоступных легальных организаций – университетских кружков, столовых, кружков самодеятельности и т. д. Кроме того, ПГС должна была исполнять и другие задачи – организовывать явки, предоставлять курьеров для Болгарии и в другие страны, снабжать паспортами и т. д.
При отъезде из Вены Боян мне дал книгу на русском языке – “Лекции об основах ленинизма”, под редакций Товстухи, лекции, читанные Сталиным в апреле 1924 года, в Свердловском университете в Москве (будущая Высшая партийная школа).
Книга появилась в Австрии на русском языке, еще пахнущая типографской краской. Сначала я не понял, зачем мне ее дали, была только одна мысль – как быстро она дошла до нас.
– Познакомься с ней, она тебе будет полезна, – сказал Боян».
В конце мая папа отправился в Грац.
В жизни все загадочным образом связано, ничего не существует само по себе, события длятся, переплетаясь одно с другим, ничто не исчезает бесследно. Причудливо жизнь тасует судьбы. Я упоминала о Василии Шмидте, который был послан в Германию осенью 1923 года для подготовки восстания. А потом… В 1980-х годах я приехала к папе в Софию, мы сидели за столом, и в разговоре я упомянула про свою приятельницу Таню Товстуху. Папа подскочил на стуле:
– Товстуха! – закричал мой восьмидесятилетний отец. – Да ты знаешь, кем был Товстуха? Ты знаешь, что он редактировал все труды Сталина?
До этого я неожиданно познакомилась с сыном того самого Шмидта – Вадимом Васильевичем (жена и друзья его называли Димой) и женой Димы Татьяной Ивановной Товстухой – дочерью того самого Товстухи, фамилию которого прочел папа на книжке «Вопросы ленинизма» еще в 1924 году в Вене.
Жили они в «Доме на набережной» – бывшем правительственном доме на улице Серафимовича, у Каменного моста, в квартире, принадлежавшей Таниному отцу, Товстухе Ивану Павловичу. Бывая у них в доме, я с интересом рассматривала исторические фотографии. Вот заседание Совнаркома (советского правительства) в восемнадцатом году, – 19 человек, и среди них Шмидт. Вот известная моему поколению фотография – Сталин, Ленин и Калинин, а внизу, оказывается, на этой же фотографии был запечатлен Шмидт. Вот собственноручная записка Сталина, адресованная Ивану Товстухе… Я пристально вглядывалась в лица на фотографиях. Лицо Василия Владимировича Шмидта казалось невыразительным, довольно мрачным, некрасивым. Лицо Ивана Товстухи, наоборот, было красиво, но взгляд исподлобья был тяжелым. Мне удалось узнать, как сложилась их жизнь.
Жизнь Ивана Павловича, если не считать туберкулеза, которым он страдал с молодости и от которого преждевременно умер, складывалась, по внешним признакам, счастливо. Высокое положение, интересная работа, продолжение дела молодости – редактирование трудов Ленина, Сталина, любимая жена, дочь… И умер-то своей смертью, в кругу семьи, в подмосковных «Соснах», где провел из-за болезни последний год жизни. Захоронен в кремлевской стене по приказу Сталина.
Про Шмидта такого сказать нельзя. Шмидт Василий Владимирович (фамилия его отца чисто русская – Шерстобоев, Шмидт – это фамилия матери-лютеранки, церковный брак с которой из-за различия вероисповеданий не состоялся). Занимавший руководящие посты при зарождении Советского государства, он уже давно на заметке у Сталина. В конце 1920-х Сталин начинает борьбу с правой оппозицией. В ее рядах – Шмидт, в 1928–1930 годах – заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР А. И. Рыкова. В 1930-е годы карьера Шмидта постепенно угасает. Его отправляют на Дальний Восток, в Хабаровск, на малозначительную должность. Казалось бы, уцелеет в страшный террор? Но нет. В январе 1937-го – арест. Изъяты письма, документы, кавалерийская шашка, книги Бухарина, Каменева. В следственном деле Шмидта записано, что он обвиняется в том, что возглавлял правую оппозицию вместе с Бухариным, Рыковым, Томским. Первый приговор за правый уклон – 10 лет с поражением в правах и с конфискацией имущества. После годичного заключения, в том числе в одиночке Лефортовской тюрьмы, новое обвинение: «Намеревался продать Дальний Восток Японии», второй приговор. Суд длился так же быстро, как и первый: всего двадцать минут. Приговор – расстрел.
Такая уж судьба выпала на долю Шмидта. При царе переменил с десяток тюрем, в 1917 году выпущен, казалось, из последней – из «Крестов». Но нет. Спустя 20 лет – опять тюрьмы: Лефортово, Бутырки… Есть рассказ одного оставшегося в живых свидетеля о случайной встрече со Шмидтом в Бутырках летом 1938 года, за несколько недель, а может – дней до его расстрела.
«Василия Владимировича втолкнули в камеру, он успел рассказать, что до этого долго сидел в одиночке. Он ничего не знал о войне в Испании, лихорадочно расспрашивал о старых большевиках. Вскоре его буквально выдернули из камеры, видно – запихнули по ошибке».
И вижу я изможденного человека, дух которого остался несломленным, молодым. Не знаю, успел ли он получить ответы на вопросы о старых большевиках. Да и что можно было о них тогда сказать?
Реабилитирован Василий Владимирович Шмидт 30 июля 1957 года.
В 1954–1955 годах родственникам выдавались разного рода свидетельства о смерти репрессированных. Умер в Москве или еще где-то. Причина – то болезнь, то прочерк. Чаще всего – прочерк. А даты подбирались так, чтобы сгладить пик 1937–1938 годов. Диме в декабре 1955 года выдали свидетельство о смерти отца 21 августа 1940 года. С причиной – прочерк. Еще одна бумага из следственного дела Шмидта попалась Тане значительно позже, уже после смерти Димы: «Расстрелян 29 июля 1938 г.» И приписка: «Считал бы целесообразным сообщить родственникам, что Шмидт умер 21 августа 1940 г.»
Жена Василия Владимировича – Лидия Максимовна – была красавица. Сужу и по портрету, написанному Пастернаком-отцом, и по фотографии в «Правде» – девушка в красной косынке на первом коммунистическом субботнике (когда Владимир Ильич нес бревно). Она и в старости была красива. Училась в студии МХАТ, но на сцену не пустил муж: «Знаю, к чему приводят эти отношения, вижу на примере любвеобильного Луначарского». Супруги долго жили в Кремле, пока не съехали в Лебяжий переулок. Лидия Максимовна в 1930-х тоже была арестована, но от ссылки ее спас Калинин, в секретариате которого она работала, проявив неожиданное мужество… позже он не смог спасти свою собственную жену.
Вадим Васильевич (Дима) Шмидт был физиком, он – известный исследователь сверхпроводимости, доктор физико-математических наук, работал в Научно-исследовательском институте физики твердого тела АН СССР вместе с моим мужем. Он был профессором в Институте стали и сплавов, монография по материалам его лекций вышла сначала у нас, затем переиздана в Англии. Доброжелательный, принципиальный, свободный от комплексов, спокойно осознающий свое место на земле, лишенный снобизма – Дима был одним из лучших людей, встретившихся на моем пути. Невысокий, с курчавыми волосами, толстыми губами, похожий немного на мавра или на химеру с собора Парижской Богоматери, он знал поэзию и очень любил «Василия Теркина», читал всего наизусть, знал наизусть и всего Симонова, довоенного и военного времени, любил Светлова, Уткина. После смерти Димы Шмидта его ученики – физики-альпинисты впервые прошли в горах Тянь-Шаня по плато на высоте около пяти тысяч метров, неподалеку от пика Победы. В результате обследованное плато назвали в честь Вадима Васильевича Шмидта (это название официально зарегистрировано).
Таню я полюбила не сразу, но сразу почувствовал ее отличие от других. Высокая, худая, в очках, стриженная «под горшок», она говорила тихим голосом, будто гипнотизируя. От всего ее облика веяло чем-то несовременным, мне казалось, что она постоянно прислушивается к чему-то давно ушедшему и сверяет свою сегодняшнюю жизнь с той, неизвестной мне жизнью. У них с Димой две дочери, обе красавицы – Наташа и Таня.
Меня умиляли отношения в этой семье, вызывало зависть то, как они проводили отдых: семьей они исколесили Прибалтику на велосипедах; раз в две недели, и это было свято, они вчетвером собирались вокруг приемника и слушали передачу «Старые песни».
Полюбила я Таню после смерти Димы, в 1985 году. Мы проводили с ней много времени, она приезжала к нам в Черноголовку, где за Димой еще оставалась служебная квартира. Мы бродили по лесу, гуляли до поздней ночи вокруг озера.
– Это ты меня спасла, – говорила впоследствии Таня. – Ты выгуливала и выслушивала меня.
Таня рассказывала:
– У отца было много книг, доставшихся от черниговских народовольцев. Жандармский поручик, когда пришел с обыском, распределил их по трем категориям: преступного, тенденциозного и частного содержания. Лев Толстой – к первой категории, Карл Маркс – ко второй и третьей.
Я молчу, не хочу перебивать, но про себя ахаю: там, в Болгарии, когда к папе пришли с обыском, тоже первой книгой, брошенной в мешок, была «Война и мир», а «Капитал» Маркса остался на полке.
– Отца выслали в Сибирь, в Тутуру. Он бежал оттуда. Жил несколько лет во Франции. В Россию вернулся после революции. Случайно на улице встретил друга по тутурской ссылке – Станислава Пестковского, тот был заместителем наркома национальностей (т. е. Сталина) и пригласил отца работать к себе. Сталин в это время разъезжал по фронтам. Когда в 1923 году Сталин стал секретарем ЦК партии, отец работал одним из четырех его помощников. В 1928 году у отца был конфликт со Сталиным. Сохранилось письмо отца к Сталину – с просьбой освободить его от работы в ЦК, с резолюцией Сталина: «Ха-ха-ха! Подумаешь, какой петушок!»
Таня говорила медленно, постоянно к чему-то прислушиваясь.
– Последние годы отец был заместителем директора ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина). Отец, конечно, очень много знал. Он готовил к изданию труды Сталина, работали вместе. Многое не вошло в собрание сочинений. После смерти отца все бумаги Сталина были у нас изъяты. Мы тогда жили в основном в «Соснах», там отец и умер.
Помню паломничества к Кремлевской стене. Девятого августа мама звонила из «Сосен» коменданту Кремля, просила пропустить ее и других родственников. Договаривались на определенный час. Обычно несли хризантемы из местной оранжереи. Подходили к Мавзолею и вставали сбоку, слева от калитки в ограде. Ждали минут 20–40. Потом в сопровождении военного шли направо, к последним четырем нишам – одна из них отцовская. Потом процедура вкапывания цветов в землю. Приходил кто-то и делал это своими проверенными руками.
Как-то мы шли с Таней по ноябрьскому серому лесу. Казалось, деревья, как воздух, наполнены водяной пылью. Таня, немного угловатая, шла легко. Водяная пыль свисала каплями с веток. Прошло три месяца со дня смерти Димы.
– Вот, – сказала она, останавливаясь и вынимая фотографию мужа, – здесь он немножко замерзший. Вот такой он был, когда приезжал из Черноголовки. Сейчас достанет платок и высморкается. И еще – на фотографии он недоволен собой. Раньше мне казалось – у него на этой карточке очень веселый довольный вид, вот возьмет и подмигнет. А сейчас – нет.
Таня неподвижно глядела на меня большими зрачками из-за толстых стекол.
– Весной он мне сказал: «Как жизнь быстро прошла». За неделю до смерти, а может меньше, он мне сказал: «…Будем знать только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой». Первую строчку опустил. Это когда я принесла ему травки пить, и ему стало легче. Папа умер тоже девятого августа.
– Что?!
– Да-да, папа умер в один день с Димой, тоже девятого августа. Папа в 36-м, Дима в 85-м. На этой фотографии у него очень строгий вид. Раньше она у меня была в записной книжке, маленькая. Я всегда раскрывала ее, и она была со мной. Есть другие карточки, более мягкие, но там у него везде виноватое лицо. Вот такое лицо было, когда он попал в аварию. Он же разбил совершенно новую «Волгу». Он не спал тогда четверо суток, с матерью было плохо. Это случилось за несколько дней до смерти Лидии Максимовны. А потом мы все никак не могли захоронить урну с прахом Лидии Максимовны. И вот, когда я узнала про Димкин диагноз, я поехала в Донской монастырь, урна была внизу, в подвале, и я стала в подвале и просила ее не забирать Диму. Я стояла и просила ее не забирать его.
Сила духа Тани Товстухи очень ярко выразилась при прощании с Димой на его похоронах, и проявилась она в спокойствии. Силу духа Таня передала и своим дочерям. Они тоже не плакали.
После смерти мужа в память о нем Таня сменила свою прежнюю, девичью фамилию – теперь она Татьяна Ивановна Шмидт. На огромным валуне, привезенном из Эстонии, лежащим на могиле мужа, есть и доска с фамилией ее свекра – Василия Владимировича Шмидта, чье место захоронения неизвестно.
Ежегодно в день Диминой смерти, 9 августа, и в день его рождения, 7 февраля, Таня собирает у себя близких людей, знавших и любивших Диму.
Как бы ни оценивали сегодня наше прошлое, но для меня очевидно, что среди поколения тех, кто делал революцию, было очень много чистых людей, искренно веривших в возможность установления всеобщего счастья. Эта уверенность угасла быстро, но чистота помыслов отцов передалась детям. То истинное, что вдохновляло революционеров в начале прошлого века, во что они так истово верили, сохранилось и сегодня, отразилось, преломилось в детях Василия Шмидта и Ивана Товстухи.
Весной 1924 года папа уже в Граце, легализуется, записывается в университет, на факультет индустриальной химии. Но занятия кончились, денег нет. Возникает идея создать общую столовую для болгарских студентов, и папа начинает там работать.
Встает в 4 часа. Колет дрова, растапливает печь, носит воду. В 6 часов, когда приходит кухарка, уже все подготовлено – кипит вода, почищены овощи, нарезано мясо. В обед, засучив рукава, один, быстро, в три приема, моет собранные со столов 120 приборов. За ужином все повторяется вновь.
«За весь этот адский труд я получал порцию обеда и порцию ужина».