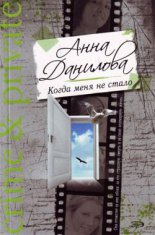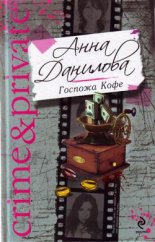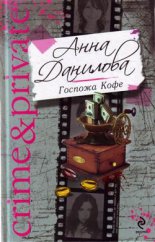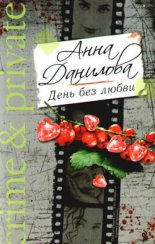Повелитель монгольского ветра (сборник) Воеводин Игорь

1 сентября 1937 года, Чаньчунь, Китай
– Как о вас прикажете доложить, сударь? – служанка-китаянка превосходно говорила по-французски.
– Орлов, историк из Шанхая, пытаюсь составить родословную баронов Унгерн фон Штернберг, а также пишу историю жизни Романа Федоровича.
Невысокий светловолосый человек, в котором, несмотря на цивильную штатскую пару серого английского сукна, вполне угадывался всадник и военный, протянул визитную карточку.
Оставшись один, он огляделся. Гостиная была выдержана вполне в европейском стиле, что было даже странно, ибо баронесса Елена Павловна, в девичестве принцесса Цзи, занимала видное положение при дворе императора Пу И.
– Здравствуйте, господин Орлов, – услышал он. – Чем могу вам служить?
Баронесса была еще молода и хороша собой, только вот гусиные лапки вековой печали начертили сеточки вокруг глаз, только нити снегов и стужи вплела жизнь в ее иссиня-черные волосы у висков.
Орлов щелкнул каблуками.
– Имел честь служить с вашим супругом в Азиатской дивизии, теперь вот пишу о нем книгу…
Служанка, безмолвно появившись, внесла чай и приборы. Фарфор был севрским, с позолотой и гербами рода Унгернов. И на заварном чайнике вилась готическая вязь девиза. Орлов присмотрелся.
«Звезда их не знает заката» – было написано по-немецки.
…Разговор затянулся. Елена Павловна долго рассказывала о восемнадцати поколениях Унгернов, погибших на войне. Глаза ее были сухи и бесстрастны.
Наконец Орлов принялся откланиваться. Она его не удерживала.
– Вы знаете, Елена Павловна, – уже в дверях произнес он, – я все-таки не верю, что барон мертв… Я слишком хорошо знал его. Такие люди не умирают. Да и монголы – вы ведь знаете? – монголы говорят, что регулярно видят его то тут, то там и что скоро Цагаан бурхан[59] придет судить и живых, и мертвых…
Елена Павловна подняла глаза и в упор взглянула на Орлова. Видимо, она колебалась, можно ли ему доверить нечто, и наконец решилась.
– Подойдите, поручик, – промолвила она и приглашающе повела рукой к стене, где висел портрет барона.
Орлов шагнул и обомлел. Повинуясь нажатию тайной пружины, большая фотография Унгерна в желтом халате, с генеральскими погонами и солдатским Георгием на груди, переснятая из советских газет, отъехала в сторону и, намотавшись на скрытый в желобе стержень, ушла под раму.
На ее месте появилась другая.
Барон, только бритый наголо и слегка постаревший, в халате, стоял на снимке, положив руку на плечо мальчика лет двенадцати – четырнадцати, и тоже в монгольском халате. Позади виднелся какой-то дацан, за ним – вершины гор под снежными шапками.
Изгрызенный солдатский Георгий висел на левой стороне халата барона.
И большой перстень с камнем, казавшимся черным, был надет на мизинец правой руки, лежавшей на плече сына.
Мальчик был похож на отца.
Тот же взгляд прозрачных, хотя и раскосых глаз, тот же упрямый подбородок, тот же высокий лоб.
– Его… Его недострелили? – спросил потрясенный Орлов.
– Дострелили, – ответила баронесса. – Но князь Бекханов тут же выкупил у палачей тело, а ламы, присланные Богдо-гэгеном, пока жизнь в нем еще теплилась, сумели сделать невозможное. Да вы же и сами сказали, такие не умирают…
Орлов открыл рот и хотел сказать еще что-то, но баронесса не дала ему слова, поймав на вдохе.
– Идите, – сказала она, и историк удалился.
…Часы пробили семь. Огонь пожирал дрова в камине, смола выкипала со стоном.
– Да. Бокал красного, пожалуйста, – ответила хозяйка на вопрос горничной, – и ради бога, больше никаких посетителей.
Девушка поклонилась и вышла. Баронесса сидела перед портретом в старинном высоком и неудобном кресле.
Она смотрела ему прямо в глаза.
Глаза ее были сухи.
15 мая 2006 года, Звенигородское шоссе, Подмосковье, Россия
…Длинный ряд автомобилей стоял у железнодорожного переезда. Тетка в оранжевой жилетке равнодушно наблюдала с крыльца, как парятся в машинах по обе стороны ветки ожидавшие. Желтые и красные флажки торчали у нее из-за пояса, натужно, надрывно звенел сигнал шлагбаума да посвистывал, покряхтывал маневровый, то пятясь к переезду, то, передумав, откатываясь вглубь, туда, где возилась на путях бригада ремонтников.
– Страна дураков, – сплюнул в окно машины сигаретку малый лет сорока, в шортах, в маечке, сидевший за рулем передней «девятки», и повернул погромче рукоятку радиолы.
Вдоль замерших машин двигалась женщина лет тридцати, вся в черном, в черном же платке, повязанном по-вдовьи, толкая перед собой инвалидную коляску.
В ней сидел мужчина.
Странным было то, что оба они были одеты во все черное, на ногах – высокие армейского образца берцы, на глазах черные очки, только у мужчины круглые, в синеву, как у слепого, у нее большие, зеркальные.
Из окон машин иногда подавали, и тогда женщина, поклонившись, внимательно всматривалась в лицо подавшего и сухо роняла:
– Спаси вас Господь.
Но чаще окна автомобилей оставались непроницаемыми, и странная, во все черное одетая пара нищих отражалась в их надраенных стеклах.
В машинах шла жизнь. В огромном «мерседесе» дядя лет шестидесяти пяти с депутатским значком на лацкане костюма с отливом снисходительно слушал щебетавшую у него на коленях активисточку из молодых.
– У региональных представительств должно быть больше прав! – куковала она.
– Но и обязанностей тоже, – хитро прищуривался дядя.
Активисточка потупилась.
– Наше дело – слушать старших, – проблеяла она.
В другом, серебристом «ауди», взасос целовались известный стилист и его юный ученик.
– Я с ума сойду, – томно вздохнул практикант.
В третьем, «БМВ» седьмой серии, вели деловой разговор молодые люди с ноутбуками и неуловимыми глазами, и только шелестели, как купюры, в салоне сухие слова: «нал», «безнал», «бабло».
В четвертом, роскошном джипе «лексус», сидел на заднем сиденье Сынуля. Из всех шести колонок автомобиля неслось:
- Черный бумер, черный бумер,
- Стоп-сигнальные огни!
- Черный бумер, черный бумер,
- Если можешь, догони!
– Убери эту хренотень! – поморщился Сынуля и протянул водителю диск. – На, поставь…
Магнитола заглотила пластинку, и салон машины наполнили мощные аккорды второй части заупокойной католической мессы, реквиема.
- Dies ime, dies illa
- Soluet saeclum in favilla
- Teste David cum Sibylla.
- Quantus fremor est futurus,
- Quando judex est venturus
- Cuneta stricte cliseussurus.
- (День гнева, тот день,
- В золе развеет земное,
- Свидетелями Давид с Сивиллой.
- Какой будет трепет,
- Когда придет судья,
- Который все строго рассудит.)
Хор пел, и даже впервые слышавшие латынь ощущали значительность слышанного.
– Удивительно, – обратился Сынуля к журналистке светской хроники, прыщавой и длинноногой, сидевшей рядом и глотавшей каждое его слово, как наживку, – удивительно, но в основе ритмики этого стихотворного текста лежат не различия в долготе слов, как в классической латинской поэзии, а ударение, уже утратившее в то время музыкальный характер. Каждый стих состоит из четырех стоп, в которых чередуются ударный и безударный слоги.
Та сглотнула, и рука Сынули продвинулась чуть выше по ее обнаженной ноге, к краю черной мини-юбки.
Водитель сидел недвижим, и затылок его был красен. Пучки волос отсвечивали на солнце из левого бугристого уха.
Пара в черном поравнялась с «лексусом».
– Открой, – лениво уронил Сынуля, и водитель нажал на кнопку. Стекло плавно двинулось вниз, и Сынуля, оперевшись левой рукой о ляжку собеседницы и заодно продвинувшись чуть выше, сунул в окно сотенную: – На.
Нищенка протянула руку, но не спроворила, и купюра, колыхаясь, как бабочка, полетела на асфальт.
– Простите, – чуть слышно сказала она и наклонилась поднять. Слепой на коляске, казалось, взглянул в глаза Сынуле.
– Не люблю я их, – принужденно хмыкнул тот и, откинувшись на сиденье, скомандовал: – Закрой.
Но его жег и жег черный взгляд слепых глаз за синими очками инвалида.
- Смерть и рождение оцепенеет,
- Когда восстанут творения,
- Чтобы дать ответ судящему, —
неслось из динамиков.
– Вы такой щедрый к этим… как их, – девица сморщила длинный носик, – к побирушкам…
– Да, и Моцарт это превосходно учел в своем произведении, – продолжал повествовать Сынуля.
«Будет, будет дадено», – победно билось у него в мозгу. «Уж я тебя, сукин кот, окручу, – звенело в мозжечке у девицы, – слуплю с тебя по полной программе…»
«Ух, засадить бы кому, – думалось водителю, – или на клык кому навалить… А чего он нашел в этой носатенькой? Ни сиськи, ни письки…»
- Что скажу тогда я, жалкий,
- К какому покровителю буду взывать,
- Когда и праведный будет едва
- Защищен от грозы? —
отражалось от кожаных стен.
Между тем нищенка, наклонившись, быстрым, как у змеи, движением сунула под дно автомобиля магнитный брикет и щелкнула тумблером.
Зажглась красным лампочка, и цифры на индикаторе побежали – 180… 179… 78…
Но она уронила очки.
Выпрямившись, она постаралась отвернуться, чтобы остаться неузнанной, но Сынуля был поглощен вниманием хроникерши.
Впрочем, в последних двух сантиметрах просвета закрывающегося окна мелькнуло знакомое лицо, зеленые распутные глаза, засев в мозгу занозой.
Он было приостановился, чтобы домыслить, узнать, докопаться, где он видел их, эти глаза, но тут хроникерша сама подалась вперед, напоровшись влажным лоном на пятерню.
– И что? – с придыханием спросила она.
- Правый судья возмездия,
- Даруй мне дар отпущения
- Перед лицом судного дня, —
слушал Сынок, задыхаясь.
64… 63… 62… тикали и тикали цифирки на счетчике, отсчитывая мгновения.
Нищая пара дошла до конца пробки. Здесь, слева от хвоста, в черном джипе сидели Ганс, Алок и Граф. Бек-хан снял очки.
- Я стенаю, как осужденный,
- Краска вины на моих ланитах,
- Пощади, Боже, молящего, —
неслось над колонной.
31… 30… 29… – тикал счетчик.
Внезапно Маргарита увидела девочку, маленькую девочку, выбежавшую с корзинкой и с венком ромашек в волосах из леса на обочину. Видимо, она обогнала родителей и первой оказалась на трассе.
В следующий миг, не раздумывая, Маргарита бросилась к ней.
Ноги были ватными, все потонуло в тишине, и только тикало и тикало ее сердце: 16… 15… 14…
- Отвергнув тех, кто проклят,
- Обреченных пронзающему пламени,
- Призови меня вместе с благословенными, —
машинально продолжал слушать Сынуля и вдруг вспомнил. Вспомнил, какими глазами смотрела избиваемая и насилуемая Рита.
– Ка… – он задохнулся, – каа…
– Что такое? – с деланым, наигранным участием спросила хроникерша и положила ему руку на чресла. – Вам помочь?
8… 7… 6… – отстукивала мина.
– Каа! – продолжал хрипеть Сынуля и тянулся, тянулся к окну. – Кааа!
- Плачевен тот день,
- В который восстанет из пепла…
Маргарита, добежав до девочки и схватив ее в охапку, кубарем скатилась в лес. В окне джипа мелькнул ее силуэт.
– Байартай! – внезапно появились буквы на экране дисплея. Что-то щелкнуло, и музыка оборвалась.
- Judicautis homo reus,
- Huie ergo parce, Deus!
- Человек, судимый за грехи.
- Пощади же его, Боже! —
договорили, допели за хор облака, лужи и деревья. В следующий миг огненный змей пробежал по колонне, отра зился в лужах его перпендикулярный шоссе рукав. Огненный крест горел на дороге. Колеса, железки и всякий сор сеялись окрест.
Маргарита, рухнув на ближайшей опушке, собой накрыла ребенка у ног превратившихся в соляные столпы родителей.
Пламя бушевало в очках Бек-хана и его людей, в полировке машины.
Сторожиха на крыльце, до которого не достало пламя, выронила приспособленный флажок и перекусила поднесенный к губам свисток.
Пара машин осталась неповрежденной среди общего хаоса и мрака.
«Baby in car»[60] значилось на заднем стекле одной из них, хотя там и сидели пожилая чета и такса.
– Доброе дело номер раз, – усмехнувшись, произнес Бекхан.
Он снял очки.
В его раскосых темных глазах стояли печаль и решимость. Молчали остальные.
Маргарита показалась из леса. Она не пострадала, лишь жаром опалило пламя концы ее растрепавшихся, выбившихся из-под сползшей при беге косынки рыжих волос.
– Dona eis requiem. Amen[61], – прошептали травы и возопили камни.
– Аминь. Аминь. Аминь, – повторили за ними журавли и гуси, сойки и грачи, синицы и жаворонки.
– Аминь, – прошелестели муравьи, прожужжали пчелы и осы, прокаркали вороны, проплакала выпь.
Бек-хан сел на водительское место и повернул ключ зажигания. На обочине остался стоять маленький столбик с фанеркой. На ней было написано красным: «Я здесь».
Голос крови, шепот воды
Кровь и морская вода практически идентичны.
(Медицинский факт)
Май 1942 года, Устье Лены, Якутия
Курт Эпфельбаум, ефрейтор кригсмарине, ловко подсек осетра. Спиннинг гнулся, леска звенела, и капельки воды, срывавшиеся с удилища, горели, как самоцветы. Рыба не хотела умирать и ходила кругами, но человек был сильнее. В последнем рывке, в смертной тоске, в заполняющем все и вся черном ужасе осетр подпрыгнул и яростно рванулся, мотнув головой, и человек поймал его в вовремя подставленный сачок.
– Гут! – удовлетворенно произнес Эпфельбаум и заурчал: – Паулине вар айн даме, айн даме, айн даме, айн цум пиканте даме, айн даме цум плезир!
– Цум-цум! – услышал он за своей спиной женский голос и почувствовал, как его прошиб ледяной пот – женщин здесь, в расположении секретной базы подводных лодок Третьего рейха, в Якутии, быть никак не могло. Затерянная в бесконечной поражающей, никем не исследованной пойме, среди десятков тысяч рукавов, ручьев, проток и проливов, укрытая и от человека, и от зверя в нехоженых, блеклых от лишая, вечных, помнящих восстание ангелов, шхерах, база служила пристанищем для хищных, рыскающих подо льдами, вечно голодных подлодок рейха на их бесконечном пути – в Японию, в Азию, к черту на рога, лишь бы подальше от пыльной, суетной, склизкой от крови земли. Моряк повернулся так, что башка чуть не слетела с шеи. В пяти метрах от него стояла девушка в штормовке поверх кухлянки, в солдатских штанах, с рюкзаком и трехлинейкой за плечами.
Курта резанули ее серо-голубые глаза – нет, не до смерти, не до увечья, лишь проступили на сердце капельки алого да вспух неглубокий надрез.
– Вы что, немец? – еще не понимая всего ужаса своего положения, спросила девушка. – Коммунист? Да?
– О, я, я, – ответил Курт и чуть передвинул запястье правой руки ближе к кинжалу, висевшему на ремне. – О, я, я.
– Антифашист? Рабочий? – настойчиво спрашивала девушка. – Из экспедиции? А что вы тут ищете, товарищ?
И тут она заметила две скрещенные руны «зиг» на петлицах. Глаза ее расширились, носик сморщился, и она захныкала, а потом заревела. Эсэсовский кинжал вспотел в ладони Эпфельбаума, и надпись «Моя честь – моя верность» навсегда отпечаталась на запястье. Но он был правильный солдат, Курт Эпфельбаум. Пролетев в прыжке эти пять метров, левой рукой схватив ее за шиворот, он занес правую руку с ножом и ударил девушку сверху вниз, по дуге, под ребра.
– Мама! – пискнула она, и дрогнула рука у ефрейтора, и отстранился с вечного венчального пути на свидание с кровью золингеновский клинок, лишь чуть царапнул кожу, прорвав кухлянку, и ослаб, и замер.
Что-то сместилось в атмосфере над поймой – в высоких белесых облаках, в невозможно синем небе. В восходящих струях чистого, сильного и свободного ветра, в ряби вод, сморщившихся, как простыня на брачном ложе, под поцелуями ветерка. В закуржавевшем в стынях мая ломком ягеле, в заледеневших колеях, в залубеневших следах, готовых растаять при первом взгляде обжигающего любовника-солнца. Высокий звук прошел над седыми шхерами, над зелеными омутами и светло-золотыми перекатами, над отвалами рыжей глины и затерялся на вершине Камня-скалы у раздела протока, над огромным, почерневшим от времен и непогод деревянным крестом, невесть кем и когда сложенным из огромных бревен, неведомо как втянутых на эту крутизну.
– Мама, – повторила девушка, – мамочка!
И повисла в так и не разжавшейся у ее ворота руке моряка.
Сентябрь 2006 года, Тикси, Якутия. Вечер
– Курить дай? – полувопросительно и с вызовом обратился ко мне рослый, стриженный наголо якут. Музыка в единственном поселковом кабаке «Севера» била по голове огромным ватным молотом, ухала утробно и рычала уже где-то в закоулках оглушенной, оболваненной души.
– Возьми, – кивнул я на пачку «Бэнсон энд Хейджесс», лежавшую на столе.
– Не, сам дай. – Якут смотрел не мигая.
– Рук нет?
Он поднес к моему лицу огромный кулак:
– Руки есть.
– Так в чем дело?
– Привычка с зоны, – откомментировал ситуацию оператор Белов, сидевший напротив, – Никогда не бери со стола, бери только из рук – мало ли…
– Что – мало?! – вскипел я. – Я же разрешил!
– А может, их до меня петух какой-нибудь трогал? – спокойно произнес якут, и я молча протянул ему сигареты.
Закон есть закон.
…Шалман гудел и звенел, якут кинул мертвый якорь у нашего столика, и я решил не считать, сколько бутылок паленой водки мы сегодня опрокинем. Просто из чувства самосохранения, чтобы, вспомнив утром, не умереть.
Нет, небеса не свились, как свиток, не осыпались звезды и не сгорела земля – непонятно мне и теперь, почему я заметил ее только сейчас, хотя она сидела в «Северах» и до нашего появления. Да и не было в ней ничего, чтобы поразить навылет, впрочем, поначалу я заметил только крупные ядра грудей под рыбацким свитером.
Было иное. К ней клеились – она отвечала. Ей наливали – она пила. Ее лапали – она спокойно отводила руки.
Но она не смешивалась с ними, как текут раздельно масло и вода. Она была с ними, но не была одна из них.
– Что, кореш, на Немку запал? – ощерился якут. – Смотри, паря, за ее и порезать могут.
Закусывали мы корюшкой – по локоть величиной, плакавшей прозрачным золотым жиром; ее можно было не жевать, а только глотать, глотать крупными ломтями, и она стекала в горло. Впрочем, вру. Конечно, вру – в горло стекала строганина из муксуна. Нарубленную длинными ломтями рыбу мы макали в соль и черный перец и отрезали кривыми ножами у губ. Дождавшись, пока она поднимется, я поспешил на крыльцо.
Тикси тонул в ледяной шуге, небеса лиловели у самых крыш пятиэтажек, и туман забивал глотку соленой ватой. О Тикси достаточно сказать только одно – там не растет ничего. Ни дерево, ни куст. И бурая глина сопок сливается с рыжьем ягеля, и вся земля имеет один цвет. Поэт бы сказал – багряный. А я говорю – рвотный.
– Пойдешь со мной? – спросил я ее в упор.
В Тикси выражаются просто, понятно и конкретно. В Тикси опасно быть неправильно понятым. Она смотрела на меня без улыбки.
Я зажимал двери плечами, и кто-то уже ломился в них изнутри и ревел.
– Пойду, – ответила она, и я перестал блокировать вход.
Какой-то кудлатый человек, вылетев из кабака, скатился по ступеням и, рухнув на четвереньки, зарычал в муках и пене. Я не стал смотреть, блевал он или хрипел.
Потом я дрался с ее пацаном – как водится, правильным, из тех, что круче только яйца, а выше только небо. Впрочем, спасибо ему за то, что не стал дешевить, – их было человек пятнадцать, и нас с Беловым бы просто размазали.
Мы уже выяснили, что сегодня она пойдет со мной, когда я услышал щелчок выкидухи.
Нож я снял перед дракой – все было по-честному, его держал Белов и по-любому не успел бы мне его перекинуть.
Похолодела спина и еще почему-то под левым соском.
– Двое в драку – третий в сраку, – отбив нож и головой отправив тщедушного пацана в угол, проговорил якут. – Базара такого, чтобы писать друг дружку, не было.
Утро.
В каютке буксира типа река – море «Капитан Лепехин» двоим было тесно. Оранжевые занавески, таблица азбуки Морзе на стене. Она служила здесь радисткой. Пора было идти.
– Хочешь, заберу тебя с собой? – спросил я, и она отрицательно покачала головой. Мне показалось, даже не подумав.
– Здесь лучше? – все не хотел я признать поражение.
– Да.
– Чем?
– Я вольная. Я море люблю.
О чем было говорить еще?
И что ей было оставить на память? И нужна она ей, эта память?
Сердце томилось горячим. Я физически чувствовал, как что-то перехлестывает через край и стекает по нему. Ну а в любви сердце остужают одним. Я снял с пояса свой армейский нож и положил его на столик.
Тяжело стукнули ножны по плексигласу. Она вскинула глаза и полоснула меня по сердцу их холодным и светлым стилетом.
Выждав минуту, повернулась спиной, где-то покопалась и встала ко мне лицом. На столике лежали два ножа.
Один – бывший мой. Второй – эсэсовский кинжал в вороненых ножнах. Красно-бело-черным сверкнула свастика на эфесе.
– Откуда у тебя? – спросил я.
– От бабушки.
– Что ж, будут два. Знаешь, как в Средней Азии – там носят отдельно: на человека и на барана…
И вышел вон.
27 августа 1942 года, Енисейский залив, порт Диксон, СССР
Тяжелый крейсер «Адмирал Шпеер» резал волны студеного океана, иногда также расступались перед ним и легкие льды, и бежала впереди них, спасаясь от линии разлома, полоса напряжения, и чуть дыбилась и бугрилась белая на свинцовом.
– Их либе дихь! – Глубокое контральто патефонной пластинки текло по палубе.
– Ах, Берлин, Берлин! – Капитан-подводник в ломаной фуражке повернулся к Курту Эпфельбауму. – Вы ведь берлинец? А я из Киля. Вот возьму и познакомлюсь в отпуске с этой Карлой Эйке! – И он со смехом кивнул в сторону кают-компании. – Заявлюсь к ней прямо в оперу и скажу: «Ваш голос, мадам, спасал нас посреди океана».
Курт Эпфельбаум умер легко. Первый же снаряд береговой артиллерии угодил «Адмиралу Шпееру» ниже ватерлинии, и осколок – один маленький и горячий рваный осколочек – клюнул ефрейтора в висок.
Он упал за борт.
Снизу из зелено-черного мрака всплывала оглушенная взрывом нельма. Рвался вверх, разевая усатую пасть, пытаясь глотнуть воздуха, тюлень.
Было тихо, Курт не слышал ни сирены, ни ответного залпа крейсера, ни шума винтов. Он медленно опускался вниз, спиной, широко расставив руки, и вязкая красная ленточка вилась у головы, как растрепанный венок, и растворялась без следа.
Корабль прошел, и только мелкие колотые льды на поверхности застили небо ефрейтору.
– Их либе дихь! – пел кто-то внутри солдата глубоким и чистым голосом. – Их либе, их либе, их либе дихь!
Курт попытался вздохнуть, и у него не получилось.
Россия. Лета. Лорелея
Тыбог и тыдрянь
Сгустки газа – плотные у головки кометы, у основания, и все распылявшиеся и распылявшиеся ближе к концу, неслись уже тысячу лет из созвездия Ориона. Это космическое семяизвержение расплескивало, разбрызгивало, изливало великими фонтанами жизнь, и бездна оплодотворялась, и пространства тучнели, и вселенные во чревах своих вынашивали что-то новое
Головки комет имели размеры в миллиард километров – совсем крохотные, почти незаметные на расстоянии сколько-нибудь значительном, не пустяковом, – светились голубым и зеленым. Зато хвосты тянулись на пять световых лет каждый, и их молочно-белесоватое свечение накрывало звезды и укутывало, туманило планеты.
А поезд Москва – Брюссель все стучал колесами по Белоруссии, и ночная муть все льнула и ластилась к освещенным окнам вагона. Холодные капельки то ли тумана, то ли все никак не прольющегося дождя вымывали тропинки в пыли и стекали вбок стекла. Я прижимался лбом к ним с внутренней стороны и все думал: зачем же я все-таки еду в Париж этой промозглой, волглой и слякотной весной? Да еще на Пасху.
…Нет на свете ничего скучней и омерзительней французского стриптиза! Меж двух площадей-грудей, пожухлых, помнящих и лучшие времена, – Бланш и Пигаль – втиснут проспект. По обе стороны его – кабаки, вертепы и массажные салоны. Ну, еще бани. В каждом кабачке – пара зевак, полутемно, и хочется втереть в харю зазывале, обещавшему тебе у входа неземные блаженства и иорданские струи, а фалернское, мараскин и фронтиньяк – амфорами, молочными бидонами, целыми цистернами. Подавали же виски по двадцать баксов доза да еще норовили развести на шампанское по сотне. Унылые, усталые девки в теплых куртках заходили с улицы и тащились за сцену – по одной в пятнадцать минут. Там долго вошкались, шуршали – отнюдь не призывно – шелка, щелкали застежки. Потом выходили и, даже не жеманясь, а по-деловому, будто у себя в ванных, сноровисто раздевались – в первом танце до трусов, во втором до лобков, выстриженных на какой-то общий манер, и потом долго возились, одеваясь, за занавеской. И шли в следующий притон. В темном зале пялилась на сцену лишь пожилая японская чета да какой-то подгулявший датчанин все ревел призывно – гулял по весне. Его крутили сверх всяких правил, девки шарили по карманам, официант едва успевал с выпивкой. Это был уже пятый шалман, где я пытался сбежать от ночи, но она все караулила меня у дверей, обкладывала со всех сторон на сиявшем проспекте и ухмылялась своей волчьей улыбкой: ну, ничего, не сегодня, так послезавтра.
Я поймал молящий взгляд датчанина – ему явно что-то мешали в питье, остатками разума он понимал, что влип, но сил сопротивляться не было.
Под ложечкой засосало и стало холодно – в предчувствии драки. Или, наконец-то, избавления от пустоты?
– Хей-я, Сверья, хей-хей-хей! – громко повторив хоккейную кричалку, я со своим стаканом сел за его стол.
Три девки воззрились зло, перестав утюгами гладить его штаны и карманы, и сильно занервничал бармен у стойки.
– Свен? – изумленно спросил меня датчанин. Ты швед?
– Русский, – ответил я по-шведски. – Слушай сюда, времени терять нельзя. Сейчас смахни с себя вот эту шмару, – я глазами показал на брюнетку, – и влепи ей по морде, я заору и вытащу тебя на улицу.
– Но я женщин не бью! – продолжал корчить идиота тот. Видать, ему и вправду чего-то подлили.
– Тогда я пошел, – пожал плечами я и встал.
Из-за занавески показались пара негров с явным боксерским прошлым и решительно направились к нам. В следующую секунду девка полетела с визгом на пол, остальные окаменели, а я, матерясь уже по-русски, схватил сидельца и поволок к выходу.
– Ну, – шепнул я. – Давай, зема!
Мы, кровными братьями обнявшись, сходу вломились головами в широкую грудь вышибалы и выкатились на улицу. Тот сел и начал акулой хватать воздух, черные драбанты загрузнели на пороге. Я заозирался в поисках такси, но нас спас притормозивший рядом автобус с какой-то немецкой футбольной командой. Мы ринулись к ним, мой новый друг заорал что-то по-немецки, те сгруппировались вокруг, помрачнели, слушая, затем построились свиньей и двинулись на штурм кабака.
– Выпейте, ребята, – протянул нам фляжку водила. Мы сидели во чреве двухэтажного хромированного кита. Из кабака доносились гром и звон. – Наши скоро не утихомирятся…
Бог Один висел вниз головой на дереве мира Иггдрассиль уже трое суток, а всего висеть ему было девять, и Север[62] забыл про время. Боги и асы в молчании стояли кругом глухой поляны, и тлели угли, и взъерошивал пепел сухой и колкий ветер. Печать тяжелой усталости легла на медальный профиль Тора, полуусмешка – отражение нездешних дум, неместных чаяний – блуждала по тонким губам Локи, и тише старались шептаться вековые дубы, и полегли поклоном травы, и свитками мудрости и никому не нужных знаний скрутилась листва. В отдалении беззаботные, не умеющие и часа посидеть, не шаля, резвились наяды и валькирии, и гонялся за ними Пан, и, настигнув, уносил очередную одалиску в чащобу, и терял там решимость, и силу, и грозный вид, и становился робким мальчиком, и, затаив дыхание, закрыв глаза, вымаливал поцелуй.
А они, хохоча, убегали, и он пускался вослед, и цеплялась своими вулканами за стволы Луна, и неодобрительно морщились шаманы и знахари у ног богов и шикали на неугомонных. Один застонал, и очередная руна была дарована миру, и скатилась по стволу, и пала в траве и отрясенной листве.
Никем не замеченный, не узнанный, не званный, затаив дыхание, закусив губу, я подался вперед. И в самое сердце мне острием своей стрелы нацелилась боевая руна Тир.
Я отступил в кусты. Я подался назад. Развились кудри, расплелась борода, и хватали меня за ноги корневища, и застили мне глаза кроны, и размазалась по подбородку капелька крови из прикушенной губы.
Значит, рано, и удел мой – короткий меч и горький вязкий напиток боя, после которого не чувствуешь ни страха, ни боли. И награда мне – усталость, и кресты шрамов, как узоры орденов, которые вышьет осень по бронзе кожи, и серебро одиночества, как ленты медалей, которые вплетет в волосы бесконечная ночь, и выпьет, высушит росу юности безжалостный день. И далекий вечер подарит тоску – кому нужны твои подвиги, Геракл, на пляс Пигаль и Бланш, и на бульваре Распай, и в Булонском этом лесу?
И только щурились шаманы, и бормотали ведьмы, и мары[63] отводили глаза[64] и пришептывали бесноватые. О боги, боги мои! И при Луне мне нет покоя…