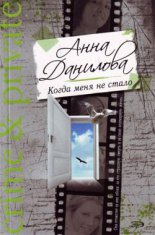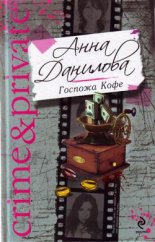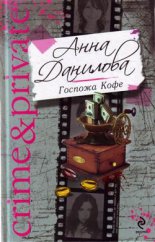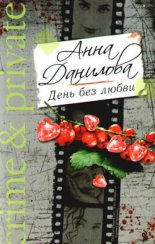Повелитель монгольского ветра (сборник) Воеводин Игорь

Читать бесплатно другие книги:
Чудом оставшаяся после взрыва машины вдова погибшего адвоката Изабелла пытается вычислить таинственн...
Мир молодой пианистки Маши Руфиновой всегда ограничивался родительским домом. Даже в училище ее вози...
Однажды Егор Красин – менеджер фирмы, счастливый муж и отец двоих детей – находит в собственной маши...
Красота и внутренняя сила Ирены одинаково действовали на мужчин и женщин: на нее хотелось походить, ...
Да здравствует путешествие! Маша Пузырева, ее брат Никитка и приятель Сергей Горностаев наконец-то р...
Однажды Никита в обычном московском дворе увидел самых настоящих… зебру, крокодила и фламинго! Мальч...