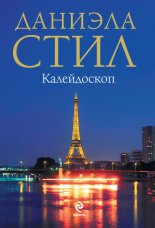Сквозная линия Улицкая Людмила
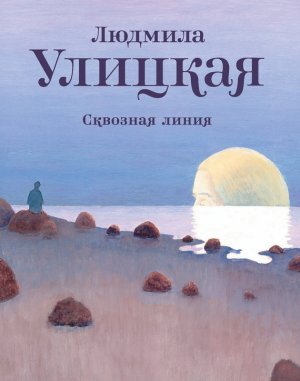
Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло».
Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:
– Иван Семенович! Вам покушать прислали, вставайте!
Пахнет у них ужасно.
С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками…
Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ХА-ХА-ХА…». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру тридцать.
Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:
– Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали…
– Город к празднику почистили… – объяснил ей отец.
Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.
Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два – к нам, три – к Цветковым… восемь – к Кошкиным.
– Вероятно, это общий, – пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.
Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.
Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.
Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже темный, глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых волос, и все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.
– Погорельцы мы! Все-все погорело… как есть… – сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.
– Ой, да вы заходите, заходите, – пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.
Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.
– Я сейчас, сейчас, – заторопилась вдруг мама. – Да вы сядьте, – и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между Цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.
Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.
Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.
А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, – бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.
И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом.
Сосед Цветков высунулся в коридор.
– Погорельцы вот, – сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.
Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.
– Вот, покушайте пока, – попросила мама тетку, и тетка приняла миску, – Ой, да так неудобно, – всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый сине-красным ковром Цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.
– Дай тебе Бог здоровья, – сказала женщина и принялась за суп.
А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.
Зубов у нее не было.
«Видно, и зубы сгорели, – подумала я. И еще: – Она тоже не любит перловый суп».
А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:
– Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу…
А женщина доела суп, поставила миску на пол… встала, распахнула плащ… глаз я не могла отвести от ее странных тихих движений.
Наконец мама выволокла узел в коридор:
– Вот. Собрала… Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, – предложила мама.
Но женщина отклонила предложение:
– Детки меня ждут… Мне бы деньжонок сколько-нибудь… – А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. – Спасибо, век вашу доброту не забуду, – поблагодарила женшина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.
Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:
– А штаны сразу могла бы надеть, правда?
Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.
– Штаны холодные, – сообразила я наконец, – а ковер теплый.
Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.
– Может, погуляешь сама под окошечком? – извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.
Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды – кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лестницу… Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.
– Ой, что же это… – пролепетала моя маленькая мамочка.
– Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковер теплый… – все пыталась я объяснить маме положение вещей.
– Да какой ковер? – наконец услышала меня мама.
– Тот, что на сундуке лежал… Она его на себя надела, – объяснила я несмышленой маме.
И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:
– Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьет!..
Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные, с птичьими носами бюретки, толстые темные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом… Готовила мама тоже преотлично. И соуса, и пироги, и кремы… Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила. Но в тот день был как раз перловый…
С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еше две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами.
И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая:
– Что? Что? С Ниной?
Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой.
Я было двинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой:
– Сиди здесь.
И я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора.
Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку.
А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила ее на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое, казалось, что у нее не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила:
– Мы сейчас валерьянки… валерьяночки… Надежда Ивановна…
– А если «скорую», так ведь увезут… – не меняя неподвижного лица, говорила соседка. И совсем невпопад: – А я думаю, спит-то как спокойно…
– Сейчас, сейчас… Позвоним… все сделаем, Надежда Ивановна, – торопливо говорила мама, громко капая в рюмку.
А соседка в коридоре кричала в телефон:
– Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду… Пусть заявку пишет, от меня не дождетесь!
Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме:
– Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику…
Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке.
– И ты поешь со мной, Марина Борисовна, – попросила Надежда Ивановна, и мама протерла еше одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку.
Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что ее зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и слезы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого, неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы.
– Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, – сказала Надежда Ивановна. – И чего ты в него ложишь?
Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой:
– Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.
…Давно никого нет. Нины. Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.