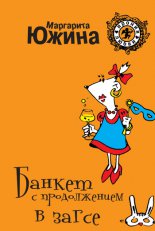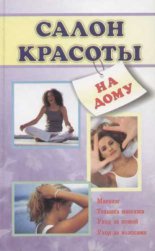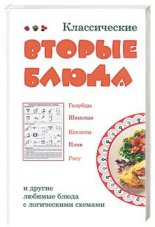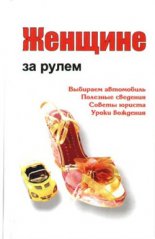Фаворит императрицы Соротокина Нина
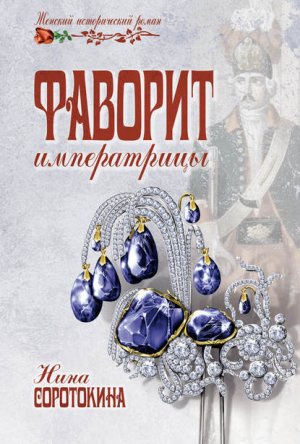
Читать бесплатно другие книги:
Что делать, если супруг разлюбил, но при этом остается твоим начальником? Как себя вести, если его н...
Если солдат не идет на войну, значит, война идет к солдату. Бывший десантник Влад Самохин хотел зав...
Книга, которую вы держите в руках, в своем роде уникальна. Это издание, написанное в форме путеводи...
Стильной женщину делают признаки постоянного ухода – чистая кожа, ровно окрашенные волосы, мягкие ру...
Еще издавна считалось самым почетным занятием учить, лечить и кормить. Во Франции в прошлом веке рем...
В предлагаемой книге женщины-автомобилистки найдут много полезной и разнообразной информации, котора...