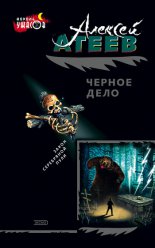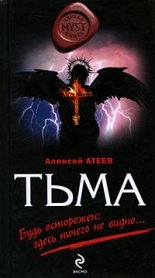Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отделения Елисеева Ольга
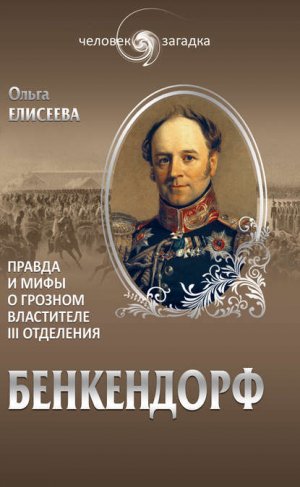
Письмо было помечено 22 марта, при этом корреспондент промедлил с ответом, поскольку эпистола самого адресата "ошибкою было адресовано во Псков". Темнит?
Александр Христофорович сразу почувствовал, как напряглись невидимые струны. А через месяц Пушкин запросился приехать. Запросился из Москвы, где, по донесениям агента А.А. Волкова, "занимался карточной игрой", променяв "Музу на Муху".
Деньги у поэта пока были. Вяземский писал еще в октябре прошлого года А.И. Тургеневу: "Пушкин напечатал 2-ю часть Онегина… и книгопродавцы уже предлагают ему 5000, а он просит семь". Однако Первопрестольная на этот раз была к нему холоднее. И пусть провинциальные приятели, как чиновник одесского градоначальства В. И. Туманский, тоже стихотворец, взывали к Пушкину: "Тебе на Руси предназначено играть ролю Вольтера… Твои связи, народность твоей славы, твоя голова, твое поселение в Москве — средоточии России, — все дает тебе лестную возможность действовать на умы… С высоты твоего положения должен ты все наблюдать, за всеми надсматривать".
Но пока "надсматривали" за Пушкиным. Да и Москва "огадела". Поэтому 24 апреля Пушкин попросился в Питер.
Ответ был получен очень скоро — 3 мая. Император разрешил приехать, но "высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано".
Звучало как предостережение. Засим последовало еще два месяца покоя. Но 29 июня помечены новые показания по делу "Шенье". Теперь уже Пушкина прямо спрашивали о пропущенных строках. Пришлось перечислять, чему они были посвящены: взятию Бастилии, клятве в зале для игры в мяч, перенесению философов в Пантеон, "победе революционных идей", "провозглашению равенства", "уничтожению царей".
Грех не заинтересоваться.
Отвечая на вопросы, поэт сердился: "Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженном тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков".
Александр Христофорович помнил эти выстрелы. Какой позор! "Лучшая в мире пехота"! Отказывается присягать государю! А Пушкин бросал презрительно и резко: "После моих последних объяснений мне уже ничего не остается прибавить в объяснение истины".
Еще через месяц поэт препроводил новые сочинения: "Ангел", "Стансы", третью главу "Евгения Онегина" и "Графа Нулина". При этом он снова вышел из рамок дозволенного: "Если Вы соблаговолите снабдить меня свидетельством для цензуры, то, вследствие Вашего снисходительного позволения, осмеливаюсь просить Вас о доставлении всех сих бумаг издателю моих сочинений надворному советнику Петру Александровичу Плетневу".
Разве шеф жандармов рассыльный? Мальчик? "Чтоб служила мне рыбка золотая/ И была б у меня на посылках". Этих строк Александр Христофорович не знал, потому что они еще не были написаны. Но при чтении письма должен был почувствовать себя золотой рыбкой.
На стол перед Бенкендорфом легли исключенные цензурой строки, оформленные как особый текст. Пока одни призывы к кровавому возмущению. Как поставить эту рукопись, восхваляющую французскую революцию, на одну доску со "Стансами"?
- В надежде славы и добра
- Гляжу вперед я без боязни:
- Начало славных дел Петр
- Мрачили мятежи и казни.
Правда, выходило неприличное похлопывание императора по плечу. Напутствие:
- Семейным сходством будь же горд;
- Во всем будь пращуру подобен:
- Как он неутомим и тверд,
- И памятью, как он не злобен.
Это о заговорщиках? Если бы мятеж случился при Петре Великом, "пятью виселицами дело бы не ограничилось".
Бенкендорф видел, как Алексей Орлов после следствия приходил к государю просить помилования для брата Михаила. Встал на колени и не поднимался, пока император не дал слово. А что бы сделал Петр I? Заставил бы Алексиса в доказательство преданности лично рубить головы виновным? Может, и брату?
Во время коронационных торжеств цесаревич Константин подошел к Алексею Федоровичу и сказал ему: "Жаль, что твоего брата не повесили!" Играл? Оскорбительное лицедейство. А ведь, как говорили, "в Константине Петр Великий и не умирал".
Александр Христофорович еще не знал, как накинутся на Пушкина за "Стансы" друзья. Как будут посмеиваться. Обвинять в "ласкательстве". Катенин — "товарищ милый, но лукавый" — в одном из писем отметит: "О стансах С[аши] П[ушкина] скажу Вам, что они, как многие вещи, в нем плутовские". В прошлом веке литературоведы схватились за эту фразу: чтобы смягчить-де дело "Шенье", Пушкин написал похвальное слово царю. А "Друзьям", а "Герой"… Дело не в похвале. Отношения поэта и императора были сложными, обмолвки и намеки рассыпаны по многим произведениям.
Но верно и другое. "Стансы" поэт подал на высочайшее рассмотрение. А уезжая из Москвы, вручил Александрине Муравьевой "Послание в Сибирь", о чем шеф жандармов не подозревая.
- Во глубине сибирских руд
- Храните гордое терпенье,
- Не пропадет ваш скорбный труд
- И дум высокое стремленье…
- Оковы тяжкие падут,
- Темницы рухнут — и свобода
- Вас примет радостно у входа,
- И братья меч вам отдадут.
Из ссылки молодой поэт Александр Одоевский откликнулся: "К мечам рванулись наши руки,/ И лишь оковы обрели". Это был тот самый Одоевский, который накануне 14-го в восторге повторял: "Умрем, ах как славно мы умрем!" А во время следствия писал покаянные письма — единственное, что из всего этого читал Александр Христофорович.
"Чем больше думаешь об этих злодеяниях, тем больше желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России". Для этого Одоевский сначала рассказал все, что знал о главных фигурантах дела — "Пестеле и сообщниках". А потом стал провоцировать новые дознания: "Допустите меня сегодня в комитет, ваше высокопревосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива… Я жду с нетерпением минуты явиться перед вами… Я наведу на корень, это мне приятно". Может, просто скучно в камере? "Если когда будет свободная минута, то прикажите мне опять явиться… даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать".
Теперь эти люди в "каторжных норах" "гордятся… судьбой" и "смеются над царями"…
Но что же выходило у Пушкина: "В надежде славы и добра" "храните гордое терпенье"? В каком случае поэт был искренен? И в первом, и во втором, и еще в десяти неизвестных нам случаях. Он просто был искренен. В каждый отдельный момент своей жизни. Любил друзей. Полюбил государя… Когда писал, так и думал.
Пройдут годы, и Бенкендорф заметит: "Пушкин соединял в себе два единых существа". Только два?
В мире, где писал поэт, можно было славить самодержца и радоваться падению Бастилии. И под этим понимать истинную свободу. Внешние ограничения не имели к ней никакого отношения.
Но они были. Например, что чиновники могли усмотреть из строк, прославляющих первый порыв французской революции:
- Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
- Я слышал братский их обет,
- Великодушную присягу
- И самовластию бестрепетный ответ…
- Разоблачился ветхий трон;
- Оковы падали. Закон,
- На вольность опершись, провозгласил равенство,
- И мы воскликнули: Блаженство!
Далее наступила эпоха якобинского террора, и оказалось, что блаженство попрано.
- О горю! о безумный сон!
- Где вольность и закон? Над нами
- Единый властвует топор.
- Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
- Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Эти строчки при большом желании можно было принять за намек на недавние события. Однако важен был не намек, а общее настроение. В оде "Вольность" тоже описывалось убийство Павла I — событие ужасное, но отдаленное на два с половиной десятилетия. Однако ее находили у заговорщиков. Значит, она была близка им по духу.
Новая "ода" заканчивалась надеждой на торжество свободы.
- Но ты, священная свобода,
- Богиня чистая — нет, не виновна ты…
- Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
- Завешен пеленой кровавой;
- Но ты придешь опять со мщением и славой, —
- И вновь твои враги падут.
На место последней строки легло бы: "И братья меч вам отдадут". Здесь есть над чем задуматься.
Сенаторы задумались, хотя и не знали "Послания в Сибирь". Дело решилось в августе. Они признали сочинение "соблазнительным к распространению в неблагонамеренных людях того духа, который правительство обнаружило во всем его пространстве". По их мнению, "сочинителя Пушкина… надлежало бы подвергнуть ответу перед судом". Но через высочайшую волю не перешагнуть. Посему, "избавя Пушкина от суда и следствия, обязать его подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать".
Мнение спорное. Стихи были опубликованы в октябре 1825 г. вовсе не "без рассмотрения и пропуска цензуры". Речь могла идти только о распространении непропущенных строк, которые при печати отмечались отточиями. Однако полный вариант элегии стал известен по спискам, раньше сокращенного цензурой, поскольку, как писал поэт уже в ноябре: "Я и не думал делать из него тайну".
Последний его отзыв, как и июньский, весьма раздражен. Нечто вроде: зачем дергать его глупостями… недоразумение и только. Но именно после этого недоразумения за поэтом был восстановлен надзор. Говоря о Пушкине, исследователи часто доказывают, с одной стороны, его близость декабризму и сохранение прежних идеалов, с другой — необоснованность и оскорбительность правительственного недоверия. Но либо, либо…
13 августа Государственный совет "положил иметь за сочинителем Пушкиным секретный надзор", о чем не считалось "приличным" упоминал "в высочайшем повелении" по данному делу. Тем не менее сами чиновники должны были знать и уведомили друг друга секретными письмами.
Дело решилось не столько благополучно, сколько никак. Надзор велся и до этого. Зато Пушкин остался в Петербурге. Написанный 13 июля 1827 г. — в годовщину казни — "Арион" убеждал в сознательности действий поэта:
- Погиб и кормщик, и пловец! —
- Лишь я, таинственный певец.
- На берег выброшен грозою,
- Я гимны прежние пою…
22 августа Бенкендорф вернул Пушкину "Ангела", "Стансы", главу "Онегина" и "Графа Нулина" с милостивейшим разрешением печатать. Только в последнем поэта просили из соображения приличий заменить две строчки, где горничной не стоило "с барином шалить", а проникшему ночью в спальню барыни графу Нулину касаться одеяла. То же пуританское правило было применено к "Сценам из Фауста", где две строки про "модную болезнь" просто выпали.
Подавались также "Песни о Стеньке Разине", которые завернули, потому что "при всем их поэтическом достоинстве" Разин — злодей, его память, как и Пугачева, проклинает Церковь.
Пушкин еще ни словом не заикался о Пугачеве. Но, видимо, "уголовное" направление мыслей поэта прочитывалось на расстоянии.
Эхо сенатского разбирательства еще витало над стихами поэта. Опять дули на воду. 7 сентября возглавлявший Департамент народного просвещения старик адмирал А.С. Шишков — дедушка российского печатного слова — лично запросил у Бенкендорфа разрешение публиковать третью главу "Онегина" и россыпь стихов, принесенную Плетневым. Не помогло и продемонстрированное письмо шефа жандармов к Пушкину с высочайшим разрешением, и личное отношение Фон Фока. Бдительный адмирал обратил внимание на то, что рукопись "Онегина" не скреплена по листам. А значит, надпись на первой странице карандашом "позволено" не может быть принята всерьез.
"Не угодно ли будет вам, милостивый государь мой, приказать, кому следует, дабы в канцелярии вашей манускрипт сего сочинения скреплен был по листам", — писал Шишков. Смысл просьбы был ясен. Мало ли какой лист можно вставить в середину. А потом виноваты будут в Департаменте.
Поэтому Бенкендорф, видимо, в душе очень ехидничая, но не позволяя себе и тени усмешки, написал в ответ: "Возвращаю при сем скрепленную надлежащим образом в III отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии 3 главу романа Евгения Онегина, препровожденную ко мне при почтеннейшем отношении вашего превосходительства… № 5067". После чего не поленился повторить старику, какие именно стихи и с какими купюрами пропущены.
Кажется, теперь всем все было ясно.
Следовало отвлечься на текущие дела по жандармерии. Между тем в 1827 г. Александра Христофоровича посетила редкая удача. Назовем ее Музой в голубом мундире. Эту милую даму он ждал десять лет. Под проверку III отделения попала Ярославская губерния. Там вскрылось мошенничество, доселе неведомое в остальной империи. Жандармский полковник Н.П. Шубинский донес Бенкендорфу о существовании целой сети по торговле рекрутами: казенные крестьяне покупали у помещиков людей, чтобы сдавать их за себя, когда приходила очередность отправиться в армию.
Для этого хозяин выписывал на имя крепостного документ об освобождении, который не давался мужику на руки. Потом "вольного хлебопашца" вписывали в семью государственного и, когда приходил срок, составляли прошение, согласно которому тот добровольно отправлялся служить за другого человека.
Без деятельной помощи чиновников такая пирамида не могла бы существовать, прежде всего потому, что сами крестьяне в массе были неграмотными и не могли оформить надлежащие бумаги. Кроме того, торговлю рекрутами следовало покрывать на каждом этапе от фальшивой вольной до причисления к чужой семье и прошения об уходе в армию. Механизм хорошо работал несколько лет, о нем была осведомлена полиция, но ничего не предпринимала.
Наладить подобную схему мог только человек с недюжинными способностями "махинатора". Им оказался старый знакомый Бенкендорфа губернатор Михаил Иванович Бравин. С их первой встречи прошло десять лет. Тогда Бравин тоже придумал для обогащения любопытную схему: заставлял казенных крестьян затевать тяжбы из-за земли с местными помещиками, а затем брал с последних деньги за разрешение дел в их пользу.
Кроме того, Бравин взвинтил поборы с государственных крестьян, а те пожаловались на самоуправство в Сенат. Характерно, что жалобщики просили ни в коем случае не доверять расследование местным властям: "Мы теперь стали хуже нищих… Кто только к нам в селение не завернет, тот что хочет с нас и берет, а жаловаться негде; один другому потакает, и нигде у них суда и правды не найдешь".
В это время дивизия Бенкендорфа передислоцировалась под Воронеж. Долго на одном месте контингенту стоять нельзя — ни одна губерния не выдержит — объедят и оберут до нитки. Поэтому армия в мирное время совершает круговорот по империи. Что, конечно, хорошо сказывается на росте населения.
Но такой нищеты, как на Воронежских землях, Бенкендорф не видел давно. Селения выглядели так, будто здесь уже прошли войска, причем неприятельские. Причиной чему служил губернатор Бравин, на которого совокупно били челом все сословия: от веревочников до тех, кому эти веревки намыливали.
В город вступали утром, около девяти. С песнями, с литаврами, с развернутыми знаменами. Обыватели встречали их вяло, без взрыва патриотических чувств. Без цветов, что по зимнему времени понятно. И без сорванных с голов шапок, что ни в какие ворота не лезет. Даже барышни в каких-то, не приведи Бог, блеклых платьях!
Офицеров ждал праздничный обед в губернаторском доме. А солдат — на квартирах, отведенных под постой. Уже на следующий день служивые рассказывали, что обыватели хоть и угощали, но все как-то косились то на печь, то на буфет — кабы не съели последнее.
Бравин с первой минуты вызвал отвращение неуклюжими манерами медведя на шаре: вроде и крутится, и лапкой машет, а клыки едва прячет, ворчит, порыкивает…
То, что Бравин вздумал драть с казенных мужиков, как с собственных, — полбеды. Ни один помещик свою скотинку до разорения не допустит. Но губернатор удвоил поборы: и казна сыта, и ему прибыток. Только вот мужички что-то стали дохнуть. Ударились в бега. Их жалоба и была главной. Она обожгла царю руки. Еще год-два такого произвола, и целая губерния не сможет платить налоги. Бери, да знай меру! Оставляй копейку на разживу. Раз Бравин этого не понимал, значит, он не только жаден, но и глуп.
От крестьян удалось узнать, что земский исправник Харкевич гонял на свое поле баб по двести в самую горячую пору — хлеб сажать. Что брал взятки в размере годового жалованья по две тысячи рублей. Собирал с мужиков "христославное" на Рождество и Пасху. Кормили крестьяне его письмоводителей, секретарей и прочую живность ветчиной, поросятами, яйцами, коровьим маслом, "чтобы за год не скушать с барынями и детишками". Требовал от девок ягод на варенье и сушение.
Именно тогда Бенкендорф написал Воронцову, что "гражданских чиновников… не деморализуешь ни артиллерией, ни пехотой", он "изобличил целую кучу мерзавцев", но пойдет ли дело дальше? Действительно, разбирательство тянулось два года, Государственный совет нашел Бравина правым, и вскоре, благодаря столичным покровителям, тот стал губернатором на новом месте. А Александру Христофоровичу пришлось ждать времени, когда он сам сможет вытирать руки мнением Государственного совета.
Теперь время приспело. Глава III отделения испытывал к Бравину личную неприязнь. В своих воспоминаниях Бенкендорф либо говорил о человеке хорошо, либо не говорил вовсе. С Бравиным редчайший случай — о нем Александр Христофорович отозвался плохо: "Наглый, продажный, допускающий произвол человек, который оскорблял дворян, притеснял купцов и разорял крестьян". "Как только он узнал, что мне предписано изучить его поведение, он сначала попытался внушить мне уважение, а затем прибег к низостям". То есть попробовал дать взятку.
Но, паче чаяния, ревизор денег не взял. Да еще и осмеял семью губернатора: "Его жена и две дочки оказывали мне всевозможные знаки внимания, первая любила своего маленького спаниеля так же, как и мужа, две другие были неприятными особами. Не было большой заслуги в том, чтобы противостоять соблазну".
Явился и доноситель: "Мне посчастливилось запугать и привлечь на свою сторону одного из друзей губернатора, статского советника из числа чиновников, наиболее причастных к воровству. Чтобы получить прощение, он развернул передо мною широкую картину злоупотреблений… Он показал мне плутов и рассказал об их хитростях… более чем достаточно".
В 1817 г. столичные покровители вывели Бравина из-под удара. В 1827 г. Александр Христофорович собирался не позволить этого сделать. Паче чаяния, виновный, имея звание сенатора, отбивал удары еще около трех лет. Только в 1830 г. его карьера наконец закончилась.
Если описание дела Бравина похоже на "Ревизор" Н.В. Гоголя, то другое набравшее в 1827 г. обороты расследование тянуло к "Дубровскому" Пушкина.
У Троекурова имелся реальный прототип. Богатый рязанский и тульский помещик генерал Лев Дмитриевич Измайлов, родившийся в 1764 г. и куролесивший на своих землях четыре царствования подряд. Выйдя в отставку, он не без подкупа стал рязанским предводителем дворянства, благодаря чему завязал самые тесные отношения со всей местной администрацией. Покровительство высших по чину и страх низших долго позволяли ему оставаться безнаказанным.
Его бесшабашная удаль, широкое барство и крутой нрав вызывали смешанное чувство трепета и восхищения. Одаривая и карая, Измайлов не делал различия между собственными холопами, местными чиновниками, соседями-дворянами, купцами — на всех простиралась его власть. Однажды он пожаловал исправнику тройку с экипажем и тут же заставил самого выпрячь лошадей и на себе под свист арапника отволочь карету в сарай. Мелкого стряпчего могли высечь на конюшне и посадить на хлеб и воду в подвал. Одного соседа-помещика по его приказу привязали к крылу ветряной мельницы. Другого вымазали дегтем, обваляли в пуху и с барабанным боем водили по деревне. Иной раз под горячую руку Измайлов травил гостей волками и медведями. Напоив мертвецки пятнадцать небогатых соседей, он приказал посадить их в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам по медведю, и спустить с горы в реку.
Редко встречая сопротивление, самодур, как и пушкинский Троекуров, высоко ставил людей, умевших постоять за себя. Однажды высеченный им чиновник позвал генерала крестить первенца, а после купели велел своим крепостным выпороть крестного отца. Смелость чиновника так потрясла Измайлова, что он, вернувшись домой, сразу отписал крестнику деревню в подарок.
В самом начале царствования Александра I, в 1802-м, император отдал негласное распоряжение тульскому губернатору "разведать справедливость слухов о распутной жизни Л.Д. Измайлова", но тем дело и кончилось. Во время войны с Наполеоном отставной генерал, потратив миллион рублей, сформировал рязанское ополчение, возглавил его, сражался с французами и даже участвовал в Заграничном походе. Его кипучая натура жаждала событий и крайностей. Повздорив с военным генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Воронежской губерний А.Д. Балашовым (прежде министром полиции), Измайлов в 1818 г. согнал за одну ночь на земли врага сотни крепостных, которые вырубили у того весь строевой лес и сплавили его по реке в измайловские вотчины. В это время Балашов был членом Государственного совета и весьма влиятельным лицом, однако возбужденное им дело тянулось восемь лет.
В 1826 г. "дворовые женки" подали на Измайлова жалобу в Сенат, а для верности и новому государю. Знаменательно, что сенатский экземпляр не сохранился, а вот послание Николаю Павловичу осталось для истории. "Мы не осмеливаемся донести вашему величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих и теперь не менее сорока человек находятся, после претерпенного ими телесного наказания, в тяжких земляных работах, и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час… Он жениться дворовым людям не позволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство их силою… Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак".
Сразу вспоминаются строки Грибоедова про "Нестора", то есть учителя, наставника "негодяев знатных":
- …Толпою окруженный слуг;
- Усердствуя, они в часы вина и драки
- И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
- На них он выменял борзые три собаки!!!
Незадолго до получения жалобы "дворовых женок", в марте 1826 года, молодой император издал запрет помещикам применять "железные вещи" для наказания крепостных. Имелись в виду кандалы, цепи, рогатки, надевавшиеся на шею. Николай I приказал произвести проверку доноса и предать Измайлова суду. Но следствие затянулось на два года и, если бы не настойчивость высочайшей инстанции, никогда не было бы доведено до конца. Из губернского правления, покрывавшего Льва Дмитриевича уже не первый десяток лет, был прислан советник Трофимов, который доложил, что обнаруженные им в подвале рогатки якобы покрыты ржавчиной, значит, уже давно не употребляются.
Однако легковерием новый император не отличался. Одновременно с советником губернского правления на месте инкогнито побывал жандармский полковник Шамин, нашедший рогатки и цепи в полном порядке на шее и на руках несчастных. Он же узнал, что Измайлов "дал взаймы" Трофимову 15 тысяч рублей. Тульский губернатор Трейбут получил высочайшее повеление произвести расследование. Однако сопротивление местного аппарата было таково, что Измайлов, даже преданный суду, оказался оправдан, а его дворовые биты кнутом и заключены в острог.
Переупрямить самодержца не удалось. Он приказал заново произвести суд, теперь уже в Рязани. Рязанский губернский суд снова оправдал генерала и добавил к уже сидевшим в тюрьме еще несколько человек. Сопротивление чиновников по делу Измайлова поражает глухим упорством. Речь шла о прямом неповиновении государю. Видимо, местные власти надеялись, что дела отвлекут высочайшее внимание и расследование удастся замотать, как уже случалось не раз.
Однако этого не произошло. В феврале 1828-го по именному повелению имения Измайлова были переданы в опеку. На него самого наложен штраф и взысканы судебные издержки в тройном размере. Дворовых самодура выпустили из тюрьмы, а над местными чиновниками учинили суд. Кому-то, благодаря столичному покровительству, удалось выкрутиться. Кто-то, памятуя о старых заслугах времен войны, отделался строгим выговором. Но в целом был произведен "превеликий шум".
Пушкин очень интересовался делом Измайлова, тем более что оно живо обсуждалось в свете: в салоне княгини З.А. Болконской, у князя П.А. Вяземского, в доме бывшего министра И.И. Дмитриева и губернского прокурора С.П. Жихерева (некогда члена литературного общества "Арзамас"), где автор "Дубровского" часто бывал. Но услышать о подробностях измайловской истории Пушкин мог и напрямую от Бенкендорфа.
Александр Христофорович изуверов не любил, ибо ему пришлось с ними столкнуться. В том же 1817 г. по приказу императора Александра I он расследовал дело помещика Воронежской губернии Г. А. Синявина, который в имении Конь-Колодезь убил двоих дворовых.
Большинство хозяев худо-бедно ладили с крестьянами. Без особой любви, конечно, но и до бунта дело не доходило. Все по обычаю. Но встречались те, кто был способен довести холопов до красного петуха. За мятежной деревней могли подтянуться крестьяне из спокойных с виду сел. Ненависть тлела под спудом, и нельзя было позволить ей вырваться наружу.
Крестьяне жаловались на жестокие наказания, которые и повлекли за собой гибель несчастных. "Они рассказали нам самые ужасные вещи о господине Синявине и особенно о его жене", — писал Бенкендорф. Виновный "имел большое состояние, принадлежал к одной из лучших фамилий России… он был дядей моего друга графа Михаила Воронцова и родственником большого количества моих близких знакомых. Он явился ко мне с многочисленными рекомендательными письмами… Я был вынужден ему ответить, что, несмотря на горячее желание доказать его невиновность, мой долг обязывает меня быть строгим судьей".
Были опрошены местные жители, соседи-помещики, сельский священник. Наконец, вскрыта могила. Обнаружилось, что убитых закопали со связанными руками, без отпевания. Отнекиваться не имело смысла. Помещик перестал отпираться: "Император забрал все его состояние под опеку и передал его в руки правосудия".
Чтобы не выглядеть в глазах друга предателем, Бенкендорф приказал снять копии со всех документов следствия и, сопроводив их личным письмом, отправил в Париж, где Воронцов в тот момент командовал Оккупационным корпусом. Мол, суди, брат Михайла, если можешь.
Паче чаяния, не поссорились. Однако страшно было даже думать: мать Воронцова — родная сестра этого изувера. И Михаил, который руку на слуг не поднимал, солдатам говорил вы, имеет ту же кровь…
Закончив следствие, Бенкендорф едва не на коленях просил императора Александра I, чтобы "это поручение оказалось последним в данном роде". В тот момент генерал не мог и представить, что с подобными мероприятиями окажется связана вся вторая половина его жизни. Что задуманный им как внутренние войска Корпус жандармов будет, кроме прочего, заниматься фальшивомонетчиками, подложными паспортами, поддержанием супружеских нравов и даже особыми лавками "для джентльменов". А увенчается вся эта полезная деятельность Пушкиным.
Для самого поэта 1827 г. был рубежным. Он словно ожидал, что правительство вот-вот опомнится и казнит его. Рисовал в рукописях перекладины с пятью телами. Писал на полях: "И я бы мог". Даже в любовных посвящениях: "Вы ж вздохнете обо мне,/ Если буду я повешен?"
В неоконченной зарисовке "Какая ночь! Мороз трескучий…" вспоминал времена Ивана Грозного, описывал молодого опричника — "кромешника", — который скакал к возлюбленной, но задержался на площади под виселицей.
- А площадь в сумраке ночном
- Стоит, полна вчерашней казни,
- Мучений свежий след кругом…
- …Недавно кровь со всех сторон
- Струею тощей стег багрила…
- Во мгле между столпов
- На перекладине дубовой Качался труп…
Одно обращение опричника в коню дорогого стоило:
- Не мы ли здесь вчера скакали,
- Не мы ли яростно топтали,
- Усердной местию горя,
- Лихих изменников царя?
Хорошо, что Александр Христофорович ничего подобного не читал. Потому что в роковой день и скакал, и топтал, и с чистой совестью именовал изменниками.
Но Пушкин постепенно прозревал и другую, неблизкую его друзьям правду: в прибранные "боярские конюшни" ходил черт.
- Всем красны боярские конюшни:
- Чистотой, прислугой и конями;
- Всем довольны добрые кони:
- Кормом, стойлами и надзором…
- Лишь одним конюшни непригожи —
- Домовой повадился в конюшни.
- По ночам ходит он в конюшни,
- Чистит, холит коней боярских,
- Заплетает гриву им в косички,
- Туго хвост завязывает в узел…
Кони-то боярские всем довольны. Люди-то царские жаловаться не привыкли. А вот повадился нечистый, и смирные лошади как будто взбесились: "С морды каплет кровавая пена".
Кому уподоблял себя Пушкин: молодому конюху, который ездит по ночам к "красной девке"? Или несчастному "вороному", которого почему-то невзлюбил бес? Вечером конь "стоит исправен и смирен". А утром "не тих, весь в мыле, жаром пышет".
- Стихи кончаются обращением:
- Ах ты, старый конюх, неразумный,
- Разгадал ли, старый, загадку?
С кем говорил поэт? Не с хозяином конюшен. А с тем, кто ближе к лошадям и может узнать правду. Это уподобление Бенкендорфа "конюху" запомним наперед. А пока зададимся вопросом: помощи ли просил "вороной", или автор просто смеялся над служакой? Пока неясно. Потому что и Пушкин еще не решил. Знал только, что бес может заездить.
Глава 4
"КАЗАЛОСЬ МНЕ ТЕПЕРЬ СЛУЖИТЬ МОГУ…"
Прошлый год миновался — грех жаловаться. Новый начинался более чем тревожно. Радовали известия с Кавказского фронта, Паскевич делал свое дело, и мир с персами был уже не за горами. Но вот в Европе… как всегда, поддерживали турок. Требования России соблюдать прежние договоры и перестать резать греков сочли справедливыми. Ополчились на султана и даже совместными усилиями нанесли ему 8 октября 1827 г. сокрушительное поражение при Наварине. Кто же знал, что союзники не пойдут дальше? Станут ссылаться на "европейское равновесие", которое будет нарушено, если Россия защитит свою торговлю на Черном море?
"Наш флот совместно с английскими и французскими кораблями разбил турецкую эскадру… — вспоминал Александр Христофорович. — Как объяснить, что это ожесточенное сражение… не нарушило доброго согласия между этими двумя дворами и Константинопольским Диваном?" А вот "отношения между Портой и Петербургом еще более обострились… Наконец, разрыв стал неизбежен".
К концу зимы из Петербурга вышла гвардия. "Публика без воодушевления отнеслась к новому разрыву… Слишком часто в прошлом этот давний недруг России и православной веры был покорен нашими армиями, он стал слишком слаб для того, чтобы внушать страх или ненависть. Все приготовились к новым успехам и рассматривали человеческие потери и финансовые затраты этой войны как неизбежное зло. которого требует честь и интересы нашей торговли".
25 апреля русские войска тремя колоннами перешли границу на реке Прут. Государь покинул Петербург в последние дни месяца. Бенкендорф, совершавший инспекцию в Витебской губернии, присоединился к нему по дороге. "С этого момента я начал многочисленные путешествия, очень часто располагаясь рядом с ним", — писал генерал.
Да, они изъездили в одной коляске половину империи и почти всю Европу. Александр Христофорович — единственная охрана, которую терпел император. А еще "Вы родились в рубашке" — слова Николая I, то есть выходите сухим из воды. С детства вписаны в августейшую семью. Действуете на бурного самодержца умиротворяюще. Обладаете завидной выдержкой, опытом, воспитанием, уживчивостью. Всех достоинств не перечесть. Словом, за два прошедших года император успел привыкнуть, что отбрасывает именно эту тень.
Но прежде чем отправиться в путешествие — такое желанное и такое почетное, — следовало привести в порядок дела в столице. И среди этой круговерти опять всплыл Пушкин. Буквально накануне похода. В апреле, когда последние распоряжения горели в руках.
С некоторых пор шефу жандармов казалось, что Пушкин поселился у него в гостиной. Но дело обстояло хуже: поэт обосновался у Александра Христофоровича в голове. Это надо же себя так поставить, чтобы он, генерал-адъютант и кавалер, глава высшей полиции, отвечал на письма коллежского секретаря. Стыд!
Да живи они хоть в Пруссии — тоже, кстати, военная, субардинационная, беспрекословная монархия, — и Бенкендорф бы не стал терпеть, показал, что подобные отношения неуместны. Оскорбительны для него, заслуженного, ранами и орденами отмеченного человека, к тому же в летах. Сорок семь — не двадцать. Министерское кресло должно бы, кажется, оградить его от подобного бесчестья.
Но слово государя — закон, и он будет-таки отвечать на письма, возиться, вникать в склоки издателей по поводу "похищенной авторской собственности", кому-то, не пойми зачем, отданных стихов и невесть где тиснутых безгонорарно. И это накануне похода, когда дел невпроворот. Одна главная квартира, которой он, Бенкендорф, начальник… Одна охрана государя, за которую опять же с него спросят…
А тут: "Милостивый государь Александр Христофорович… Препровождаю при сем записку о деле моем с г. Ольдекопом…" Последний был виноват в том, что издал "Кавказского пленника" вместе с немецким переводом.
Какое шефу жандармов дело до Ольдекопа?
Главы "Онегина" проходили через его руки в царские и обратно с высочайшим одобрением. Извольте читать. Скучно! Автор болтлив мочи нет. По любому поводу страницы на полторы уходит в сторону. Хорошо, что рецепта брусничной воды в стихах не додумался приложить. Однако барышню жаль, истинно жаль. Добрая, доверчивая, таких в провинции много. А этот хлыщ… и вот что важно: нигде не служит, никому ничем не обязан и, как следствие, в тягость самому себе.
"Ярем он барщины старинной оброком легким заменил…" Это смотря в какой губернии. Если при большом тракте, где мужики могут сами торговать хлебом, то, конечно, "раб судьбу благословил". А если в недрах срединных губерний, куда и почтовые голуби через раз долетают, то за такое благодеяние могут и красного петуха пустить.
Был в прошлом царствовании Николай Тургенев, осужден по совокупности показаний, сам в Англии, чуть Михаила Воронцова в дело не запутал. Образованный малый. Любил порассуждать, "как государство богатеет", для покойного императора писал трактат по экономике, давал советы правительству. Словом, русский Адам Смит. Однако поехал в имение отца под Симбирском, посадил мужиков на оброк. Через год те оголодали и перестали слать деньги. В чем дело? Рожь продать не могут. Батюшка был у них и покупщик, и вербовщик. В город возил, с купцами спорил, никогда крестьян не выдавал. Так что Онегин не благодетель своим людям, а лентяй. Лишь бы отмахнуться.
Но девицу жаль.
В доме у Бенкендорфа образовалась целая дамская ложа, которую он дразнил "Татьяна к добродетели". Достойнейшая из смертных и самоуправнейшая из жен, Елизавета Андреевна. Три старшие дочки — младшим рано. Езжавшие к ним дамы.
Особенно всех всполошило "Письмо Татьяны". Но, заметьте, не сам факт признания. К этому со времен Руссо привыкли. А то, как нагло кавалер отказал влюбленной девушке. Ему-то, спрашивается, что было делать?
Александр Христофорович слушал вполуха. Никогда не встревал. Себе дороже. Но был и в его жизни случай. В 1816 г. мадемуазель Софья Петровна Толстая, московская барышня 16 лет, пылко влюбилась и хотела выйти за него замуж. "В этом браке меня устраивало все, кроме разницы в годах, — признавался Александр Христофорович, — мне скоро должно было исполниться тридцать, а ей было всего 16 лет; я вскоре должен был покинуть блестящие удовольствия высшего света" а она только входила в него".
А.Х. Бенкендорф с супругой. Литография XIX в.
- Пришлось отговаривать:
- Учитесь властвовать собою;
- Не всякий вас, как я, поймет;
- К беде неопытность ведет.
Каково-то было Александру Христофоровичу читать откровения "бедной Тани"? Конечно, "мило поступил с печальной Таней наш приятель", явив чувство жалости и сострадания к ее "младенческим мечтам". Но вот как, оказывается, произошедшее выглядело глазами самой девушки:
- Что в сердце вашем я нашла?
- Какой ответ? одну суровость.
- Не правда ль? Вам была не новость
- Смиренной девочки любовь?
- И нынче — боже! — стынет кровь,
- Как только вспомню взгляд холодный
- И эту проповедь… Но вас
- Я не виню: в тот страшный час
- Вы поступили благородно.
Хорошо, что жена ничего этого не знала. С годами его восхищение перед ней прошло, сознание правильно сделанного выбора осталось. Когда-то Елизавета Андреевна была редкой красавицей. В родах и хлопотах многое растеряла. Но с тех пор, как их жизнь потекла, будто молочная рука в кисельных берегах, супруга точно застыла на теплом мелководье, и оно, плескаясь, смывало с ее чела морщинку за морщинкой. Погасли темные круги у глаз, кожа наполнилась новым матовым сиянием. Рисовавшая чету английская художница Элизабет Ригби обронила, что мадам Бенкендорф "в самом расцвете своей пленительности". Наверное, права?
Теперь Елизавета Андреевна читала "Онегина" одновременно с государем, а иногда раньше, и выносила свои вердикты.
Бенкендорф мог понять его величество: русская словесность бедна. Вот государь и возделывает сад, из которого плодов не дождаться. Говорит, что в один прекрасный день русский язык процветет, аки крин. Очень может быть. Но пока не видно.
Шестая глава была подана императору вместе с одой, почему-то адресованной друзьям:
- Нет, я не льстец, когда царю
- Хвалу свободную слагаю:
- Я смело чувства выражаю,
- Языком сердца говорю.
- Его я просто полюбил:
- Он бодро, честно правит нами;
- Россию вдруг он оживил
- Войной, надеждами, трудами.
- О нет! Хоть юность в нем кипит,
- Но не жесток в нем дух державный;
- Тому, кого карает явно,
- Он втайне милости творит…
Снова "плутовство"? Поэт Н.М. Языков — тот, который "Нелюдимо наше море,/ День и ночь шумит оно…" — прочитав список, отозвался крайне нелестно: "Стихи Пушкина "К друзьям" — просто дрянь. Этакими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь, и доказательством тонкого вкуса в ныне царствующем государе есть то, что он не позволил их напечатать".
Но это ведь не ода. А самооправдание. Что у вас, сударь, за друзья, если доброе слово о высочайшей особе набивает им оскомину? Уж не "друзья ли 14 декабря", как именует их сам Николай I? Или те, кто держался с ними одних правил, но на площадь не вышел и затаился в тени?
Но государь был тронут. Пушкину велел передать искреннее благоволение и… строго-настрого запретил печатать. Смутился.
Так-то: лесть ли, любовь ли, но незачем трепать высочайшее имя по страницам журналов.
Так чего накануне похода жаждал Пушкин? В марте горел желанием ехать на театр военных действий. 18 апреля повторил просьбу, хотя и так ясно: если молчат, значит, либо заняты, либо не угодно. Но поэты намеков не понимает: "Вновь осмеливаюсь Вам докучать… судьба моя в ваших руках". Не в его, а в государевых. Есть разница. "Ваша неизменная снисходительность ободряет мою нескромность".
Когда это он ободрял нескромность? Не было. 20 апреля писал: "…его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность вашу быть полезным в службе", но "он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих". Кажется, прямее некуда. В конце концов, в России не дворянское ополчение, а регулярные войска. Не могут помещики, даже если им хочется, по звуку трубы повскакивать с мест и отправиться в поход. Всему следует учиться.
Теперь явилась новая идея — в Париж. Балованное дитя! Государево балованное дитя!
"Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже". Это уже от 21 апреля.
Только к лету, когда над рябью дел махнуло белым бумажным крылом разбирательство по "Гаврилиаде", Александр Христофорович запоздало догадался, зачем Пушкину вдруг занадобилось в Париж. Поэт бы там и остался. Никакие грозные окрики архиереев, никакие государственные инстанции до него бы не дотянулись.
А накануне отъезда в армию идея с Парижем показалась Бенкендорфу очередной пушкинской блажью. Ах, если бы он только мог как следует разобраться в бумагах на своем столе! На многое взглянул бы по-иному. Но когда тут успеть, если утром на доклад, потом в присутствие. И хотя от дворца до Малой Морской рукой подать, но в его чинах не ходят пешком.
В недрах нового здания дружно гудело. Присутствие начальства всегда вызывало у служащих искренний и суетливый интерес к делам. В последние дни перед походом возможность часок-другой поработать спокойно — большая роскошь. В кабинете, на столе, запиравшемся полукруглой, как бок бочонка, наборной крышкой, ворохом лежали бумаги. Все как вчера оставил. Даже пыль не скопилась.
Бенкендорфу доложили две вести. Во-первых, Пушкин, получив милостивый отказ государя, заболел. Пришлось послать в трактир Демута знакомого поэту чиновника А. А. Ивановского с разъяснениями и увещеваниями. Не проситесь-де, милостивый государь, в строй. А просите прикомандирования к одной из походных канцелярий. К Нессельроде, Дибичу или самому Бенкендорфу. Впрочем, тут же все друзья в голос закричали: "Пушкину предлагали служить в канцелярии III отделения!" Пожар!
Во-вторых, пришло письмо от великого князя Константина Павловича, помеченное 27 апреля. Ах, надо бы чиновникам извещать его в другом порядке…
От старшего брата государя глава III отделения вечно ждал подвоха. Если вы, сидя в Следственном комитете, своими руками зарывали улики на членов августейшей семьи, то не будете чаять с этой стороны добра.
"Генерал! Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой?"
Свет клином сошелся на сочинителях!
"…они уже так заявили себя и так нравственно испорчены…"
Кто бы говорил!
"…что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров".
Это было уже второе письмо цесаревича по поводу Пушкина и Вяземского. Первое, от 14-го, выглядело раздумчивым: "Поверьте мне, любезный генерал, что ввиду их прежнего поведения…" Новое больше походило на окрик. А Бенкендорф начальственных криков не любил. Сам никогда не повышал голоса.
Заметим, что великий князь писал не августейшему брату, а его подчиненному. И хотя Александру Христофоровичу, вменялось в обязанность поддерживать контакты с Варшавой и ставить Константина в курс петербургских дел, но принимать эти знаки внимания всерьез цесаревич не имел права. Таковы правила игры. В отношении его соблюдали формальное уважение, как в отношении человека уступившего престол. Но командовать подчиненными царственного брата великий князь не мог.
Не мог. Однако попытался. Проверял степень своего влияния. И степень уступчивости Бенкендорфа. Хотя тот с самого начала был человеком Николая Павловича, перейдя к нему от вдовствующей императрицы Марии Федоровны как бы по наследству. Минуя второго из царевичей.
Накануне войны, когда император рассчитывал в случае надобности обратиться к брату за поддержкой его польских войск, Константина следовало не обижать. Шеф жандармов, конечно, донес на высочайшее имя о его письмах и получил приказание — не раздражать.
Так, неожиданно, Пушкин и Вяземский стали заложниками непростой ситуации, сложившейся в августейшей семье. За что цесаревич не любил князя Петра Андреевича? Намекал на близость к тайным обществам, которая Пушкиным и его другом глубоко спрятана, но не отринута: "Они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы хоть в чем-нибудь положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства".
Нечто похожее о Вяземском доносил и Булгарин: ""Московский телеграф" есть издание оппозиционное и своей оппозиционности не скрывающее. В нем беспрестанно помещаются статьи, запрещенные цензурой, и выдержки из иностранных книг, в России не допущенных. После разгрома возмущения 14 декабря это, быть может, один из последних очагов скрытого недовольства… Чему причиной не столько редактор Полевой, сколько его меценат и покровитель князь Вяземский".
Соединив оба мнения воедино, шеф жандармов пришел к выводу, что недаром столь разные люди, как великий князь Константин Павлович и удачливый писака Фаддей Венедиктович, поносят князя Выземского. Скоро и ему предстоит столкнуться лично… Не хотелось бы.
Сам Вяземский не вызывал у шефа жандармов симпатии. Уволен еще Александром I. Не служит. Обижен. Когда-то переводил на русский язык конституцию, дарованную Польше покойным Ангелом. Полагал, что его текст будет основой для отечественной "Уставной грамоты". Либерал.
Конечно, князь не состоял в тайных обществах и даже не одобрял выхода на площадь. В чем, кстати, следователи, да и сам император, долго сомневались. Однако разгром мятежа и казнь виновных Вяземский пережил тяжело. Не хотел ехать в Москву на коронацию. Писал жене и друзьям откровенные письма. Которые всегда перехватывались. И именно с расчетом на перехват Петр Андреевич высказывался хлестко, надеясь обратить на себя внимание правительства: вдруг заметят и позовут советоваться.
Не позвали. Сочли тон недопустимым. "Небольшое число заговорщиков ничего не доказывает, — писал князь из Ревеля Жуковскому — Единомышленников у них много. А перед нами 10 или 15 лет общего страха после случившегося. И вот им на смену валит целое поколение. Это должно постигнуть и затвердить правительство. Из-под земли, где сейчас невидимо, но ощутимо зреет молодое племя, оно пробьется во всеоружии мнений и недовольства. В головах у людей, насильно сдерживаемых, утесняемых на каждом шагу, мучимых надзором, будут роиться ужасные злодейства, безрассудные замыслы. А разве наше положение не противоестественно? Разве не согнуты мы в крюк?"
Мало ли таких точно слов слышали стены Следственного комитета? "Откройте широкое поприще для ума, и ему не будет нужды бросаться в заговоры, — продолжал князь. — Без свободного кровообращения делаются с человеком судороги. Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках?"
Может, Василий Андреевич и ознакомил государя с письмом. Однако император отчего-то именно Вяземского очень не любил. И сказал при просмотре списка заговорщиков: "Отсутствие его имени в деле доказывает только, что он умнее и осторожнее других".
Накануне казни заговорщиков записная книжка Вяземского безмолвно принимала признания: "На днях грянет гром. Хороша прелюдия для коронационных торжеств! Во вкусе древних, которые начинали праздник жертвами и пролитием крови ближнего!"
Супруга княгиня Вера Федоровна звала мужа домой, в Москву, но тот отнекивался: "Для меня Россия будет опоганена, окровавлена. В ней душно, нестерпимо. Сколько жертв и какая железная рука пала на них! Я не ожидал решимости от правительства, надеялся на проблеск цивилизации. Теперь не смогу жить на лобном месте!"
Вот такой человек вместе с Пушкиным просился в армию. Слыл его ближайшим другом. Как не приписывать им общие мысли? Да и сами эти мысли разве не разумны? Разделил бы, если бы не знал, что за ними реки крови, поля трупов.
Легенда делает имя. А Пушкин жил тихо, имел примерное поведение, хватил новую цензуру за послабление авторам и… заметно сдувался, несмотря на то что писать стал лучше, самостоятельнее, не под Байрона. Всякий это чувствовал, но… нет остроты, скандала, вызова. Поэт пробовал, как встарь, езжать к проституткам, кутить с молодыми гусарами, мальчиками 17 лет. Но и мальчики нынче не те. Каждого слова стерегутся. Орут в полголоса. Пьют без расслабления души и мыслей. Без сердечного единения, как бывало с теми, с другими, которых нынче нет.
А потому и пить "огадило".
Вдруг война. Явилось чудо, какого не ждали. Вот он, случай напомнить о себе. И не стихами — делом. Избочениться, наскандалить, чтобы во всех гостиных ахали и пересказывали друг другу с краснотой щек, с дамским хихиканьем и восхищенной завистью. Тогда и тиражи пойдут. Вот "Гуан" по 11 рублей за строку. А будет по 22, это точно!
Отказано.
Жуковский оправдывал государя, говорил, что тот намерен поэта беречь.
Те тоже берегли!
И вот Пушкин ни в рудниках на цепи, ни в армии на лихом коне, а значит — нигде. Между небом и землей. Нет ему приюта.
Вяземский тем временем ныл влиятельным при дворе лицам, тому же Жуковскому, как полезно поэту будет оказаться среди картечи. Опальному Александру Тургеневу писал: "Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напитает воображение существенностью. До сей поры главная поэзия его заключалась в нем самом. Онегин хорош Пушкиным, но, как создание, оно слабо".
Для Бенкендорфа хуже всего было то, что, говоря с поэтом, приходилось держать в голове и его неприятного друга. Помнить, что было сказано Вяземскому Что обещано. В чем отказано.
П.Л. Вяземский. Рисунок А. С. Пушкина
Этот человек имел на Пушкина огромное влияние и все время попадался Александру Христофоровичу под руку.
Шеф жандармов знал, что старая знать никогда не простит таким, как он — выскочкам, — своего оттеснения от трона. Сам немец, жена казачка. Коромыслом перешибет. Ее предков у них на дворе секли, ибо предки суть беглые, на вольные земли, подальше от барина. Пушкин вот не понимал, почему ему, неслужившему, необученному человеку, не место в армии. Он 400-летний дворянин. Так извольте.
Настоящая, коренная знать умела показать свое превосходство даже государю. Старые роды, гордые. И где они теперь? На вторых, на десятых ролях. Кому принуждены кланяться? Всякой мелочи, которую надуло из-за границы в петровское окно с косой рамой?
"Аристокрация чин[овная] не заменит аристокрации родовой", — слова Пушкина. Древние фамилии, владевшие некогда собственными княжествами, чувствовали себя униженными, когда их ставили в равное положением с теми, кто приобрел знатность и богатство службой.
Пушкин негодовал: "Настоящая аристократия наша с трудом может назвать своего деда. Древние роды их восходят от Петра и Елизаветы. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза всегда требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Монморанси, первого христианского барона".
В Одессе Пушкин с жаром говорил приятелю М.В. Юзефовичу: "Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных". Однако монархи старались не вспоминать, что когда-то "водились Пушкины с царями". Поскольку это ставило самих царей на одну доску с еще вчера сильными властными семействами.
Однажды Пушкин сказал великому князю Михаилу Павловичу: "Мы, которые такие же родовитые дворяне, как император и вы…" Бояре поставили Романовых царями, но, коль скоро "такие же родовитые", могут отказаться от 1612 г. и избрать республику. Этой нелепицей были полны головы знатных заговорщиков 14 декабря. Ведь и "диктатором" они назначили князя Трубецкого — самого родовитого, куда древнее правящей династии. Когда-то один из Трубецких руководил ополчением и тоже баллотировался в цари.
Поэтому возникший накануне похода 1828 г. вопрос, возьмут ли куда-нибудь Пушкиных и Вяземских, имел политическое звучание.
Любил ли князь Петр Андреевич Вяземский Пушкина? Сей вопрос являлся у него самого поминутно. Он никогда не завидовал, как Бестужев-Марлинский, не изображал независимости, как Грибоедов, не считал, что его затмевают, как Батюшков, не ставил себя на одну доску, как Катенин. Ведь те, и хуля, оглядывались на Пушкина.
Он же, Вяземский, дружил.
Опекал, направлял, хлопотал. Вяземский знал главное: его друг талантлив. Как сильно? Этому границ не ведал никто. А потому надо прощать, терпеть, утешать. Подавать руку помощи. Но иной раз и его снисходительность подвергалась испытаниям. Как, например, удержать в голове все пушкинские привязанности? Завел дружескую переписку с начальником III отделения и уверяет, будто Бенкендорф обещал взять его на войну в своем штате, для чего выхлопочет чин камергера. Чистой воды выдумка! Сам наплел и сам поверил. Теперь заболел с горя, услышав отказ государя.
Петр Андреевич лично посетил шефа жандармов, чтобы изъяснить недопустимость подобных игр с Пушкиным — ведь он, как дитя, все принимает за чистую монету. Заодно Вяземский хотел напомнить о себе: сколько можно находиться без чина? Пусть дадут хоть придворный! Для сего князь готовился записаться волонтером в армию. Показать храбрость, заслужить поощрение, а там — дорога будет открыта.
Но Бенкендорф не принял посетителя. Шел с женой в театр, спускался по лестнице. Бросил несколько фраз и только. Позднее аудиенция все-таки состоялась. Обещал передать просьбу государю. Он ли виноват, что отказано?
Но если бы его воля… Все, неприятие себя князь прочитал в глазах шефа жандармов. Так бывает, глянешь на человека и сразу знаешь: не твой. Вяземский поддерживал клевету на Воронцова. Дурно отзывался о высшем политическом надзоре. Ведет себя как отпрыск царя Давида. Считает, что по рождению перед ним должны распахиваться все двери. Хочет давать советы, а служить нет. Ибо вся их служба в советах. Между тем годность — основа империи.
21 апреля от Бенкендорфа князю Петру Андреевичу пришло письмо: император "не может определить Вас в действующую против турок армию по той причине, что отнюдь все места в оной уже заняты".
Такой отказ взбесил Вяземского. И от кого? Он вообще не обязан разговаривать с Бенкендорфом! Настала война, а на войне только и "весело быть русским". Петр Андреевич хотел прямо обратиться к царю. Россия строилась его предками в неменьшей степени, чем предками государя. И его право защищать страну не меньше, чем царская обязанность. Он сказал бы все это лично государю, если бы между коренными русскими и их царем не встали… "Во мне не признают коренных свойств и говорят: сиди себе с Богом да перекрестись, какой ты русский — у нас русские Александр Христофорович Бенкендорф, Иван Иванович Дибич, Черт Иванович Нессельроде и проч. И проч.".
Давно ли сам Пушкин писал, что на такие "готические" фамилии, как Дибич и Толь, "ни один русский стих не встанет"?
Вяземский отстаивал вековое право чудить перед турками, гарцевать в латах и грозить Константинополю. Давал понять начальнику III отделения, что тот перед ним хуже, чем никто, — пес без имени. И ему дело до царя, никак не до псаря. А его, природного князя, свели на псарню, где, как бы ни был вежлив наемный холоп, обустроивший всю царскую свору на немецкий лад, Рюриковичу без надобности. Ибо его стезя — поверх служилых голов. Прямо на красную дорожку, к златому крыльцу. "Мой путь прямой: на царя, на Россию", — писал он.
Именно в эти дни была закончена последняя строфа "Русского бога":
- Бог бродяжных иноземцев
- К нам зашедших на порог,
- Бог" особенности немцев,
- Вот он, вот он, русский бог.
Но были и другие строфы. Болезненные для русского сердца. "Русский бог", набело переписанный и отосланный другу Александру Тургеневу, сразу ставил с ног на голову все, сказанное об отечестве: "Бог всего, что есть некстати…"
- Бог метелей, бог ухабов,
- Бог мучительных дорог,
- Станций — тараканьих штабов,
- Вот он, вот он русский бог…
- Бог грудей и жоп отвислых,
- Бог лаптей и пухлых ног.
- Горьких лиц и сливок кислых,
- Вот он, вот он, русский бог.
Словом, "я с головы до ног презираю свое отечество", но хочу в нем первенствовать. Кислых сливок Александр Христофорович не пробовал? Или, служа курьером, по родным ухабам не ездил?
Но где ему, "бродяжному иноземцу", понять, что такое любовь-ненависть к своей стране? Трагическая разорванность, когда голова в Европе, а тело и иногда сердце — в России?
Или доказывать, будто он русский? Он немец. Русский немец. Дьявольская разница. Когда впервые это понял? Еще в детстве. Родителей выслали из Петербурга, где оба служили в свите великого князя Павла Петровича. Отец долго не мог найти службу. Наконец, пристроился в Баварии, в Байройте. Сына отдали в городскую школу. Дети всегда бьют новичков. Приехал из России, говорит на немецком не по-здешнему. Стали дразнить "русским". Он сколотил кампанию из таких же бедолаг и задал обидчикам трепку. А в мемуарах писал, что "заставил уважать имя своей нации".
Своей нации. Когда вам один раз с кровавыми соплями объяснят, что вы русский, вы этого уже не забудете.
Так что поаккуратнее с "бродяжными иноземцами".
Бенкендорфу Вяземский так не простил. Уже в 1865 г., когда Александра Христофоровича почти два десятилетия не было в живых, написал эпиграмму: "Был генерал он всероссийский,/ Но был ли русским? Не скажу".
"Русским" во вкусе князя Петра Андреевича, конечно, не был. А стоило?
После победы над Наполеоном сестре Долли[6] писать из Лондона: "Какое счастье быть русским!" Тогда, в овеянной их славой Европе, все так считали. А попробуй-ка в отступлении…
После Аустерлица и Тильзитского мира Бенкендорф в 1807 г. был направлен в составе русского посольства в Париж. Их заставили смотреть, как возвращалась во французскую столицу гвардия победителей и несла с собой опущенные знамена побежденных. "Прошло уже тридцать лет, а я не могу забыть того тягостного чувства", — позднее написал Александр Христофорович.
В юношеском стихотворении Пушкина "Наполеон на Эльбе" есть картина, когда народы "робко" вступают под власть диктатора, "знамена чести преклоня". Оказывается, чувства, охватывавшие наших героев, могли быть и сходными.
Но Вяземский испытывал другие. "Эх да, матушка Россия! — писал Александру Тургеневу — Попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее". При этом князь был убежден в своем бессмертии для потомков: "Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда пантеона жандармам".
Никогда не говори "никогда". Тем более в нашем отечестве.
24 апреля, когда ждать было уже нечего, Пушкин и Вяземский отправились гулять в Петропавловку. День был ветреный. Досада трепала обоих.
Ругали правительство за то, что их не берут на войну. Еще больше Бенкендорфа с его холодно-вежливой манерой отказов. Оба были оскорблены выше всякой меры. Душа навыворот.
Слезы из глаз. И то и другое горькое говорили о вечном. О Петре. О "наших", которые здесь… которых здесь…
Остатки ледяного крошева все еще бились о стены. По гребню шел крестный ход. Оба хвастались друг перед другом атеизмом, и оба, не сговариваясь, пристроились сзади, шли с опущенными головами, крестились.
С Финского в полнеба двигалась туча. Синяя, низкая, тяжелая. Град ударил внезапно, когда из-за реки еще лупило солнце. Стучал по камням, по лицам, по золотым окладам икон, по шелку хоругвей.
Увидели страшное место. Отстали от хода, спустились в ров, где из земли еще торчали остатки деревянных столбов, два года назад поддерживавших виселицу. Вяземский достал перочинный нож и стал отколупывать от пеньков щепки. По пяти для каждого. На память.
Заговорщиков не оправдывали. Однако и правительству надо же иметь хоть начатки совести. Накануне князь Петр завершил стихи, под каждой строчкой которых мог бы подписаться и друг:
- Казалось мне: теперь служить могу,
- На здравый смысл, на честь настало время
- И без стыда несть можно службы бремя,
- Не гнув спины, ни совести в дугу.
- И с дуру стал просить я службы. — Дали?
- Да! Черта с два!
Летом Вяземский, вняв уговорам Жуковского и Пушкина, решил объясниться, не с Бенкендорфом — этого в упор не замечал, — а с государем. Написал императору "Исповедь", где осветил причины своего расхождения с правительством Александра I и объяснил, чем именно он будет полезен новому государю: "Мог бы я по совести принять место доверенное, где… было бы более пищи для деятельности умственной, чем для чисто административной или судебной… Желал бы просто быть лицом советовательным и указательным, одним словом, быть при человеке истинно государственном — род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать".
Вопрос об ответственности даже не вставал. "Исповедь" замечательна иерархией, которую выстроил обиженный Рюрикович. Он разговаривал с императором даже не на равных, а как более знатный дворянин с менее знатным. Удивительно ли, что в условиях войны и постоянных переездов Николай I не отвечал целый год? Не захотел он говорить в подобном тоне и позже. Дело Вяземского не сдвигалось с мертвой точки, пока тот не обратился с формальной просьбой.
Оценим мрачноватый юмор государя: "термометр" был послан не в III отделение, которое занималось как раз обзорами общественного мнения и на которое намекал князь словами: "Ощущать и сообщать", а в Министерство финансов. Последним руководил Е.Ф. Канкрин — опять немец, доктор права, генерал, граф, отъявленный трудоголик, всего добивавшийся сам и обеспечивший серебряное содержание рубля. Егор Францевич, конечно, полюбил беседовать с Вяземским, но работой его не обременял, понимая, что князей не впрягают в воз с государственными бумагами.
- Обчелся я — знать не пришла пора,
- Дать ход уму и мыслям ненаемным.
- Вот так, отнюдь нам, братцы, людям темным
- Нельзя судить о правилах двора.
Внесенное в текст "отнюдь" из письма Бенкендорфа показывало, на кого негодует Вяземский. Тем временем Пушкин тоже рвался и рвал душу. К Языкову писал:
- Оставить был совсем готов
- Неволю Невских берегов…
- …Схватили за полу меня,
- И на Неве, хоть нет охоты,
- Прикованным остался я.
Петербург, прежде такой желанный по сравнению со "спесивой" Москвой, теперь являл "дух неволи, стройный вид". А Языков жил в Германии, избавленный от "сиятельного чванства". Нетрудно догадаться чьего.
Полно, да было ли чванство? И с чьей стороны?