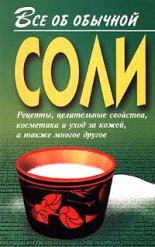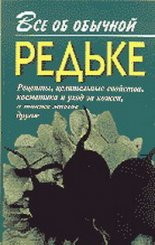Эта гиблая жизнь Коллектив авторов
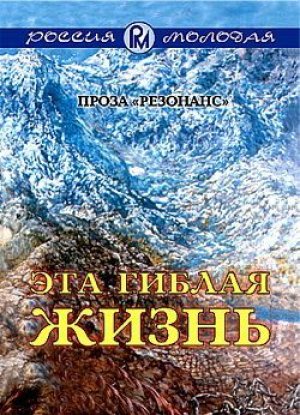
Русская проза
Откроем карты сразу?… Все равно ведь придется объясняться: такая уж книга, такой сборник.
Прежде всего – о его названии. «Эта гиблая жизнь»… Как это так: жизнь – бесценный, щедрый дар, несущий всем нам свет и счастье, и вдруг – гиблая, гибельная? А вот так, и по очень простой для многих (счет – на миллионы!), ныне живущих в России. Гляньте окрест, оглянитесь! Что вы увидите? Разваленная, разворованная страна – в руинах, в бездорожье, бестолочи и бесхозяйственности. Все – в забросе… Причем, в каком-то ликующем, напористо-наглом, утверждающем нам ежедневно, ежечасно – другой жизни более уж не будет, не видать вам ее, и потому привыкайте к этой, оскорбляющей и унижающей человеческое достоинство, гордость, честь, право на нужную, любимую работу, когда выбирать уж не приходится, бери, что дают, что случай подкинет и не косороться, не брезгуй – до того ли!.. Ведь не живешь – выживаешь, не благодаря, а вопреки.
Коли «не вписался», не стал олигархом, «новым русским», шикующим за счет наворованного, награбленного, когда после бандитской и наглой, беспрецедентной приватизации – заводы, фабрики – за бесценок, океанские суда – за один доллар! – воцарился стараниями демократов-перестройщиков новый «порядок» и уголовно-бандитский беспредел, то смирись, терпи и «не возникай»! Для новых хозяев жизни в нынешней России, открывших валютные счета «за бугром», отправивших своих детей учиться в зарубежные университеты и колледжи, ты – никто, грязь под ногами, и чем быстрее ты и тебе подобные, «не вписавшиеся», перемрете – тем лучше для них! Все вы отныне – балласт, вас списали, вас забыли, как Фирса в «Вишневом саде», и рубят, рубят последнее в России – только треск идет!
Об этом – сборник, потому так и называется, и название это криком кричит… Оно – как стон, как проклятие всем тем, кто установил и насадил в России «новый порядок», как плевок кровью им в лицо, – пусть утрутся, пусть знают, что все мы, оставленные за порогом устроенной ими, гибельной для нас жизни, знаем ей цену и не желаем с ней смиряться, быть холопами и рабами при новых господах…
Существенно: в сборнике этом, несмотря на его направленность, на само содержание и пафос, нет и намека на пресловутую «чернуху», которая нынче правит бал: что на страницах многих выходящих сегодня книг, что на телевидении (уж на нем-то особенно!). Ведь чернуха – это ликующе-сладострастное смакование язв и пороков, их нагнетание, когда в авторской позиции лишь одно: вот сейчас уж напугаю, так напугаю – всех переплюну, всех забью, буду самой «крутой»!
Нет, в сборнике «Эта гиблая жизнь» – совсем иное… Здесь – боль и сострадание, та авторская любовь к «маленькому человеку», несчастному, погибающему сыну порушенной земли нашей, которой всегда упрямо была жива русская литература, начиная с Радищева, Гоголя, Пушкина, Некрасова, Достоевского и Толстого…
Это – подлинно русская проза, открытая, жесткая и точная, справедливая и в своем нравственном посыле, и в нескудеющей, негаснущей любви к трудовому люду России, и в гневном, отрицающем, ниспровергающем презрении ко всем тем, кто рушит уклад нашей страны, добивает и доламывает в ней, кажется, уж последнее…
И видится, мерцает в прозе этой, как раскаленный, рдяный уголь, как несгорающая купина, свет упрямой, стойкой надежды на иную долю, иную жизнь, которой все мы, трудовые люди России, достойны… Это ведь мы, а вовсе не новые в ней «хозяева», держим на своих плечах, своим трудом ее жизнь. Держим, несмотря ни на что… Так было всегда, и точно так же будет и впредь – ведь воры, бандиты могут лишь грабить, пускать в распыл все то, что было не ими нажито и построено. Они – тати в нощи, и не вечно же будет лежать над просторами России глухая, гибельная ночь их шабаша! Будет, будет еще третий крик петуха, прозвучит над русской землей, и затеплится над ней розовая, нежная полоса рассвета, все разгорающаяся, все набирающая силу… Авторы сборника верят в это, и потому в нем – не только боль и гнев. В нем еще – и надежда…
Игорь Штокман
Постникова Екатерина
Постникова Екатерина Валерьевна родилась в 1976 г. в Москве, в семье военного. Позже сама служила сначала в Вооруженных Силах, потом во внутренних войсках МВД РФ.
Основные публикации 2000 г. – журнал «Юность» №№ 7–8, 9; 2001 г. – журнал «Юность» №№ 10–11; 2002 г. – журнал «Юность» №№ 7–8, журнал «Смена» № 7, журнал «Химия и жизнь» № 6, газета «Московский железнодорожник» № 46, 2003 г. – журнал «Если» № 3, журнал «Смена» № 4, журнал «Техника – молодежи» № 5.
Кроме того, несколько рассказов опубликовано в военных изданиях, начиная с 1998 года.
Премия имени Валентина Катаева за лучшую публикацию журнала «Юность» по итогам 2001 года. Победа в конкурсе «Альтернативная реальность», проведенном журналом «Если» в 2003 году.
Чистое небо той зимы (рассказ)
Бабушка Соня впервые пожаловалась на боль в сентябре, буквально через несколько дней после начала занятий в школе. Все лето она была бодрой, бегала по магазинам и гостям, солила огурцы, обзванивала подруг и тащила их на озеро устраивать пикник под открытым небом, в общем – жила. Затеяла даже ремонт в своей комнате, но так и не нашла сил. У нее уже что-то болело, но не сильно, вполне терпимо. Можно было сказать себе: «Милая, а чего ты хочешь в семьдесят лет?» и философски вздохнуть. Но ко всему добавилась слабость, и бабушка стала больше сидеть, чем ходить, а по утрам взбадривала себя все большим количеством кофе, однако – тщетно.
– Ты что? – рано утром, в моросящий дождь, внучка тронула ее, задремавшую за завтраком, и заставила очнуться.
– Я?!. А, ничего. Не выспалась.
– Не ври, бабуль.
Бабушка Соня покусала нижнюю губу. В последние дни она начала худеть, и первым почему-то осунулось лицо.
– У тебя что-то болит? – внучка внимательно посмотрела ей в глаза. – Я же вижу. Ты нездорова.
– Я просто старая, а что у стариков не болит? Внучка фыркнула.
– Ладно. Вот здесь, – бабушка положила руку на живот. – Но это же не такая боль, чтобы…
– Ты у врача была?
– Зачем?
Несколько секунд они глядели друг на друга, потом внучка досадливо поморщилась:
– Ну, тебя что, насильно в поликлинику тащить, да? Взрослая женщина, старая, как ты говоришь, а ведешь себя…
– Не пойду, – капризно возразила бабушка. – Сама сказала: я – женщина. А болит что-то по женской части. Возьмут, вырежут все – и что от меня останется?
– Почему сразу вырежут? – подняла брови внучка и вдруг побледнела. – Бабушка, да ты что такое думаешь, ты спятила…
– Ты в школу идешь? – бабушка посмотрела на круглые старинные часы.
– Нет.
– Выгонят.
– Да по фигу.
Весь коридор второго этажа поликлиники запрудила огромная очередь, и бабушка сразу скисла:
– Нет, я стоять не буду.
– Жди здесь! – внучка рванула бегом, на ходу застегивая куртку, слетела вниз через две ступеньки и пулей долетела до ближайшего гастронома.
В стране еще держался старый добрый социализм, кое-что пока продавалось, не ввели талоны и не начали писать на ладонях номера шариковой ручкой. Магазин был полупуст, за кондитерским прилавком, пестреющим карамельками в стеклянных сотах, зевала толстая крашеная блондинка.
– Верочка! – искренне обрадовалась она. – Как Софья Михайловна?
– Тетя Лена, – девочка пыталась отдышаться. – У вас конфеты хорошие есть? Бабушке нужно. Для врача.
– Что, заболела? – продавщица нахмурилась.
– Не знаю еще. В поликлинике очередь, а она стоять не хочет…
– Ой, поликлиники эти… – лицо блондинки выразило сразу несколько эмоций. – А конфеты есть. Сейчас будут.
Обратно Вера неслась с коробкой под мышкой, и конфеты гремели внутри при каждом шаге.
– Я поражаюсь твоей наглости… – пробормотала бабушка Соня, когда внучка, не обращая внимания на протестующие вопли очереди, втиснулась в кабинет, пробыла там секунду и высунулась, протягивая руку: «Входи!».
Докторша оказалась насмерть простуженной, но улыбчивой, и начала вежливо расспрашивать о самочувствии. Уточнила, где болит, прощупала бабушкин живот. Вера стояла, деликатно отвернувшись, и ясно представляла себе мысли обеих женщин.
Бабушка: «Господи, как же она работает в таком состоянии? У нее из носа течет, как из крана… И пальцы холодные».
Докторша: «Надо же, старуха, а как одета! И белье дорогое. Надушилась вся… Денег, небось, куры не клюют».
Бабушка: «Не знаешь, что у меня – так и скажи, и нечего умное лицо делать».
Докторша: «Чему у нее там болеть? В семьдесят лет?… Или аппендицит?…»
Бабушка: «Ну да, ну да, еще вот тут помни, и тут… Лучше бы ты меня к гинекологу направила и не мучилась».
– Знаете что, дорогая? – донесся до девочки голос докторши. – Я вам выпишу направление в районную больницу, к профессору Якушкиной. Прямо сейчас и поезжайте, она до семи принимает. Заодно и биопсию сделаете, и все анализы сразу…
– Якушкина – это гинеколог? – спросила бабушка, застегивая молнию на юбке и поправляя свитер.
– Это… ну, не совсем… – врачиха странно замялась, и до Веры вдруг дошло, что бабушкины-то мысли она угадала верно, а вот насчет доктора все сложнее…
До больницы они добрались за час и несказанно удивились пустым коридорам консультативного отделения. В еще больший шок их поверг буфет с кофе и пирожками, а уж совсем доконал трехсотлитровый аквариум с рыбками, стоящий в вестибюле на сварном железном треножнике.
Профессор Якушкина С. К., онколог (у Веры затряслись руки), обнаружилась за высокой белой дверью с золоченой табличкой. Девочку сразу выгнали, а бабушка застряла минут на сорок.
«Может, это и хорошо, – Вера бродила туда – обратно по широкому звонкому коридору. – Раз так долго смотрят, значит, сомневаются. Правильно. Надо как следует проверить. Наверное, у нее все-таки не рак… Господи, пусть у нее будет не рак!».
Открылась дверь, и вышла бабушка в сопровождении немолодой густо накрашенной медсестры. Секунду они пошептались, потом бабушка позвала каким-то серым, изменившимся голосом:
– Зайчик!
Девочка подбежала и схватила ее за руку:
– Ну как?…
У Софьи Михайловны тревожно бегали глаза:
– Слушай, меня кладут сейчас… На обследование. У меня опухоль. Говорят, что миома. Это не страшно, это доброкачественное…
Вера начала всхлипывать.
– Подожди, не расстраивайся… Я же говорю, это не страшно. Может быть, сделают операцию. Я же не умру от этого, чего ты!..
Внучка кивнула и вдруг с ужасом уставилась на ее уши: в них не хватало золотых сережек с изумрудами. Сережек, с которыми бабушка никогда не расставалась.
– Бабуля, ты…
Та сильнее сжала ее ладонь и зашептала на ухо:
– Я тебя попрошу, съезди сейчас домой, привези мне мою пижаму, халат… только не шелковый, а фланелевый, он в шкафу на нижней полке. Ну, мыло, шампунь, все такое… ладно? Еды не вези, тут хорошая больница, кормят хорошо… – Бабушка оглянулась на равнодушную медсестру и вдруг начала стягивать с рук кольца. – Вот, возьми, отвези все домой. Положи в мою шкатулку. И никому не рассказывай, почему я здесь! Никому! Моим подругам тоже не говори, скажи, что я… что у меня желудок. Да, скажешь, что у бабушки просто болит желудок.
В электричке Вера тихо плакала, сжимая в кулаке три бабушкиных золотых кольца, брошку и цепочку с медальоном в виде розы. От драгоценностей пахло духами, этим запахом пропитались и руки, и карман куртки, и девочка все время машинально подносила кулак к носу. Сладкий аромат лаванды вызывал новые слезы.
Они редко жили с бабушкой вместе. Веру воспитывал отец, но случалось, что какая-то сила выдергивала его из дома в совершенно запредельные дали, куда заказана дорога детям, и девочка послушно собирала вещи и ехала в маленький подмосковный городок, в коммуналку с высокими потолками, в большую светлую комнату, полную зеркал и безделушек. Бабушка жила одна и всегда принимала ее радостно. Впрочем, было в этой радости что-то горькое, какая-то вина, которую Софья Михайловна всеми силами пыталась загладить.
Сейчас отца похитило чудовище по имени РВСН и уволокло аж на Новую Землю. Вера порасспросила ребят в классе и узнала, что это – «ракетные войска стратегического назначения». Он уехал полтора месяца назад, оставив денег, и прислал уже два длинных трогательных письма, начинающихся словами: «Привет, мой маленький сибирский кот!». Созвониться не получалось, и Вера, подумав, решила не посылать ему телеграмму. Бабушка же просила никому не говорить. И вообще, зачем дергать папу. Ему там и так, по его выражению, тухло.
Дома было чисто, пусто, пахло блинами. Бабушкины соседи обитали на даче, и в огромной квартире слышалось слабое эхо. Почтовый ящик подарил третье отцовское письмо.
«Здравствуй, мой дорогой, самый огромный в мире сибирский котяра!
Представляешь, сижу я ночью в казарме, записываю умные мысли в свой блокнот (потом дам почитать) и вдруг слышу странные звуки. Как будто кто-то косточкой подавился. Пошел посмотреть, а это дневальный стоит на посту и смеется до истерики. Рот сам себе зажал и корчится. Меня увидел, по стойке «смирно» вытянулся, а сказать ничего не может, только показывает куда-то.
Я глянул, куда он показывает, и что ты думаешь? По казарме с деловым видом бродит большая птица, вроде гагары, толстая такая, как курица, и в тапочки бойцам заглядывает. А в клюве у нее чей-то носок. И гуляет, как на бульваре, вразвалочку.
Я на дневального смотрю, сам уже смеюсь, а он вдруг мне добавил радости:
– Товарищ майор, прикажете выгнать этого пингвина или пусть пока побудет?
Вот тут меня, котик, и развезло. Сел на табуретку и встать не могу, ржу, как лошадь. Слово «пингвин» почему-то рассмешило. Наверное, это уже от нервов и одиночества. Я скучаю по тебе…»
Вера читала письмо в электричке по дороге в больницу, пристроив листки на туго набитой кожаной сумке. Она везла бабушке, кроме халата и пижамы, ее пудру, духи, сиреневые меховые тапочки, зеркало, щипцы для завивки, крем для лица. В семьдесят лет женщина остается женщиной, а бабушка – в особенности. Да никто и не дает ей семидесяти, самое большее – шестьдесят.
Палата оказалась одиночной и довольно уютной. Серьги с изумрудами сделали свое дело: кто-то принес настольную лампу, маленький черно-белый телевизор, графин с водой, мягкий стул, столик, электрический чайник. Пока Вера разгружала сумку, бабушка, сидя на кровати, все говорила и говорила что-то нервным дрожащим голосом, потом замолчала и вдруг сказала задумчиво:
– Главное, зайчик, не паниковать. А я паникую. Не надо.
И началось. Каждый день после школы девочка садилась в электричку и ехала в больницу, и каждый день выяснялось, что операции пока не будет. Давно сделали анализы, рентгеновские снимки, провели консилиум, исписали кучу бумаги, но дело не двигалось.
Кончился сентябрь, зарядили дожди, дороги развезло в кашу. Бабушка сильно похудела, и пижама болталась на ней, как на вешалке. Вере казалось даже, что она стала меньше ростом, настолько высохло ее тело. Духи, забытые, стояли на подоконнике, потом исчезли, и бабушка равнодушно сказала, что отдала их медсестре: «Пусть пользуется, она молодая…» Телевизор работал постоянно, до ночи, пока на экране не начинала противно свистеть частотная настройка, и Софья Михайловна смущенно призналась, что он отвлекает ее от «всяких мыслей».
А в начале октября она вдруг обняла внучку и попросила:
– Заяц, сделай одолжение, привези мой медальончик. Вера улыбнулась было, но вдруг зашмыгала носом:
– Бабушка, ты хочешь его отдать!
– Не отдать. Подарить. У меня, видишь ли, рак, что бы они там ни болтали про доброкачественную опухоль. Мне нужна, очень нужна операция!..
– Суки! – заплакала девочка. – Они специально тебя не режут, они…
– Тихо! – бабушка намертво зажала ей рот. – Ты сделаешь? Привезешь? Зачем мне медальон на том свете, верно? Я еще на этом пожить хочу. Пусть даже без всякого золота.
Медальон она привезла и отдала бабушке, в последний раз открыв его и глянув насвою младенческую фотографию. А на следующий день ее встретила на пороге отделения доктор Бородина, лечащий врач бабушки, и ласково обняла за плечи:
– Здравствуй, моя хорошая. К Софье Михайловне сейчас нельзя, она спит после операции. Ты лучше завтра приезжай. Или даже дня через два, когда она совсем отойдет от наркоза.
– Но все хорошо? – исподлобья спросила Вера.
– Да! Да, мой маленький, конечно, хорошо! Что ты так на меня смотришь?… Операцию сделали, опухоли больше нет. Теперь ждем выздоровления. И ты бабушку не волнуй, не рассказывай ей плохого.
Как ни странно, ни назавтра, ни через два дня бабушка от наркоза не отошла. Мутными слезящимися глазами смотрела она с голубой больничной подушки и слабо дышала, будто боялась своим дыханием кого-то растревожить. Вера сидела с ней, но так и не была уверена, что ее видят и узнают. Бабушка была где-то далеко. Ей кололи сильное обезболивающее и приносили горы таблеток. Ставили бесконечные капельницы. Постоянно мерили температуру. А Веру выгоняли уже через полчаса.
Был вторник, когда Бородина окликнула ее на лестнице:
– Лапочка моя!..
– Почему бабушка такая? – девочка смотрела волчонком, ни на секунду не забывая о медальоне. – Что вы с ней делаете?
– А как ты хотела? – удивилась докторша. – Операция очень серьезная и тяжелая. Она еще месяц даже вставать не сможет, а ты через неделю хочешь, чтобы она прыгала.
Вера засомневалась. А действительно, ведь тяжелая операция. И бабушке как-никак семьдесят лет.
– Но ты можешь облегчить ее состояние, – сказала Бородина. – Есть хорошее немецкое лекарство, ускоряющее заживление операционных ран. Как называется, ты все равно не запомнишь, но оно просто чудеса делает. Если поколоть его твоей бабушке, она за две недели на ноги встанет.
Вера вскинулась:
– А можно?!
– Можно. Я постараюсь достать. Но учти, оно дорогое.
– Сколько?… Бородина понизила голос:
– Сто двадцать рублей за десять ампул.
– Хорошо!.. Но у меня сейчас нет… – девочка мысленно посчитала содержимое своего кошелька. – А вы не можете сегодня достать, а деньги я завтра привезу?
– Да… я пока заплачу из своих, – Бородина тронула ее волосы. – Только ты меня не обманывай, у меня ведь тоже есть дочка, а зарплата небольшая. Сама понимаешь.
– Вы что! – испугалась Вера, в которой горячая благодарность смешивалась с легкой обидой. – Сроду никого не обманывала, кроме учителей, но их можно, у них работа такая…
Сто двадцать рублей она взяла из неполных восьмисот, оставленных отцом на полгода, и рано утром уже бежала по лестнице в онкологическое отделение, прижимая к бьющемуся сердцу жесткие бумажки.
За две недели бабушка на ноги не встала, и Бородина вздохнула:
– Надо еще поколоть. Все-таки возраст, все плохо заживает… Вера без возражений снова залезла в шкаф и отсчитала еще сто двадцать рублей. Потом бабушке понадобилась особая сыворотка, повышающая иммунитет, потом – специальное питание, а в начале декабря Бородина снова предложила поколоть немецкое лекарство. На всякий случай.
Уже лежал плотный снег, установился мороз, и Вера мерзла в толстой кроличьей шубке и двух свитерах, не понимая, почему мерзнет, и не желая признаваться самой себе, что причина этому – голод.
Деньги кончились.
Бабушка очень следила за собой и всегда закупала коробками дорогое туалетное мыло, кремы, шампуни, салфетки, белье, чтобы не ходить в магазин за каждой мелочью, но вот продуктами она не запасалась, предпочитая все свежее, желательно с рынка. Ничего, кроме двух килограммов сахара и пары банок кильки в томате, дома не осталось.
Несколько дней Вера питалась белым хлебом, посыпая тонкие кусочки сахарным песком и запивая чаем. Мысли текли одна тревожнее другой, особенно когда принесли квитанцию за телефон и подошел срок платить за квартиру. К тому же, вдруг позвонила Бородина.
Это было вечером, когда по телевизору заканчивался интересный фильм.
– Лапонька, – голос докторши напоминал посыпанный сахаром хлеб, только не белый, а черный, совсем зачерствевший. – Ты прости, что от уроков тебя отвлекаю…
– Я не делаю уроков, – мрачно отозвалась Вера.
– Что ж ты так?… Ну ладно, я звоню потому, что бабушке твоей хуже стало, сердце шалит, сегодня вот кардиограмму делали, а там такие пики…
Девочка молчала.
– Ты слушаешь? – спросила Бородина. – Я тут подумала, надо бы ей укольчики поделать, а то и до инфаркта так недалеко…
– У меня нет больше денег, – сдавленным голосом сказала девочка.
– Как же нам быть?… – на том конце провода словно возник холодный ветерок и сдул слой сахара с куска черного хлеба. – Неужели ты для родной бабушки десятку не найдешь? Я могу, разумеется, ей колоть то же, что и всем, но и выздоравливать она будет, как все…
Жуткое видение вонючей общей палаты на восемь коек, неизвестно каких лекарств, злых нянечек и застоявшегося воздуха больничной безнадеги заставило Веру сжаться с трубкой в руке.
– Я придумаю… – пискнула она. – Что-нибудь. Обязательно… Сколько надо денег?
– Всего-то восемьдесят рублей, – сахар вернулся, но у него был мерзкий привкус.
Распрощавшись с докторшей, она больше часа рыдала в подушку, потом высморкалась и набрала номер подруги:
– Надь, привет, – говорить было трудно. – Ты все еще куртку кожаную хочешь?…
В день рождения, преодолев железную хватку РВСН, дозвонился отец и заорал сквозь треск веселым голосом:
– Привет моему коту, огромному, взрослому и пушистому!..
– Привет, папочка! – Вера старалась не шмыгать носом. Только что она плакала, вернувшись от бабушки, и еще не успокоилась, даже выпив половину флакона валерьянки.
– Поздравляю кота с четырнадцатилетием! Желаю стать совсем большим, самым умным и самым красивым!.. Как ты?
– Я хорошо, я нормально! – бодро закричала Вера. – А как ты?
– Лучше всех, если не считать того, что я по тебе скучаю! Но меня утешает мысль, что осталось всего два месяца! Даже меньше! И я приеду!
– Честно-честно?
– Да! И мы вместе двинем в Мурманск жрать рыбу и набираться целительного фосфора! Кстати, я тебе перевод прислал, уже должен дойти. У нас тут с магазинами напряженка, поэтому купи сама себе что-нибудь!
– Спасибо! – у Веры чуть отлегло от сердца. Бородина сказала, нужно еще сто восемьдесят пять рублей, и все.
Отец прислал двести.
Она считалась девочкой из хорошей, богатой семьи. Наверное, из-за дорогих шмоток, которые покупал ей отец, золотых сережек, кожаной школьной сумки, японского плеера. Бабушку ее знал весь городок, уважали, здоровались. Покойному деду, Герою Советского Союза, даже бюст поставили у заводской проходной. Мужики из местной воинской части спрашивали, как поживает папа. Мать знали тоже, но по молчаливому соглашению не упоминали при Вере.
Мать как-то выбивалась из стройного ряда положительных персонажей. За спиной у девочки соседки шушукались: бедная, при живой матери – сирота, у бабки живет, ладно – отец, он военный, перекати-поле, а мать – вон она, то с одним, то с другим, и вообще странная какая-то…
Веру это все не волновало. Пару раз она даже видела свою мать на улице и осталась равнодушна: тетка как тетка, немолодая и не слишком красивая, непонятно, что папа в ней нашел.
Она любила отца, любила бабушку, любила свою жизнь, какой она была до всей этой истории с больницей. Читала, рисовала, самолетики клеила, метила в будущем в стюардессы, училась так себе, друзей и подруг было море. Но друзья друзьями, а вдруг оказалось, что ни одной живой душе не может она признаться, что дома нечего есть, плата за квартиру опять просрочена, а бабушка все не поправляется…
На почте, куда она пришла устраиваться на работу, ей сказали: нет мест, летом приходи, в каникулы, когда все будут в отпусках. Магазин тоже отказал, а в близкой Москве было полно своих подростков, мечтающих заработать на обновку или мороженое.
Она пыталась. Убирала за деньги чужие квартиры, ходила в магазин, сидела с капризными детьми, ездила на какую-то овощебазу обрезать капустные листья, перебирать картошку в хранилище. Платили копейки. Хватило на квартплату и телефон (вдруг позвонит отец?), на хлеб, на чайную заварку, на яблоки бабушке. От постоянного голода начал болеть живот, и Вера купила новокаин и пила его прямо из ампул, чтобы утихомирить боль и жжение. Врач сказал: язва. Выписал дорогое лекарство. И посоветовал не злоупотреблять жареной картошкой. При этих словах Вера заплакала.
Близился Новый год, больницу украсили гирляндами, и девочка, сидя в бабушкиной палате, все время слышала магнитофонную музыку из ординаторской.
– Ты похудела, – сказала бабушка. Швы у нее гноились и не заживали, несмотря на чудо-сыворотку.
– Да так. Давно пора было.
– Небось, одним кофе питаешься.
– Да ты что, я ем, как лошадь, – Вера засмеялась.
– Может, ты курить начала? Или влюбилась?
Курить Вера и вправду начала, чтобы не так хотеть есть, а вот влюбляться ее совсем не тянуло.
…Иногда, после целого дня поисков работы, она заходила в маленькую бутербродную в центре Москвы, грелась там, пила горьковатый крепкий чай, жевала пропитанный маслом хлеб, а жареную колбасу с бутербродов уносила домой и варила из нее суп. После чая с хлебом у нее наступало что-то вроде опьянения, и мир начинал казаться добрым и светлым.
Погода на улице стояла сказочная, мороз и солнце, синие тени на снегу, яркие блики в окнах и чистое, ясное, пронзительно-голубое небо. Температура доходила до минус двадцати пяти и прохожие шли закутанные, краснощекие, бодрые от холода. А Вера безжалостно мерзла в своей теплой шубе и через пять минут после выхода на улицу не чувствовала ни рук, ни ног. Все немело, даже язык.
Она думала об отце в тот день, когда было особенно холодно и особенно нечего есть. С утра она попила несладкого чая, отвезла бабушке всего два яблока (на большее не хватило денег) и зайцем, тревожно высматривая контролеров, приехала в Москву. Фабричная окраина, на которую ее занесло, была пустынна, вокруг тянулись склады и бетонные заборы, величественно возвышались заиндевелые кирпичные трубы, и над всем этим странным пейзажем, в другое время обязательно затронувшим бы ее воображение, сияло резкое зимнее солнце.
Проехала и остановилась чуть впереди белая легковушка, оттуда вытряхнулась семья: мужчина, женщина и маленькая, лет пяти, девочка. Все тепло одетые, с коробками и свертками, смеющиеся без остановки. Вера разглядела среди заборов приземистое двухэтажное здание с вывеской «Общежитие» и елочкой у входа. Семья шла туда. Из здания долетали веселые голоса, музыка, запах чего-то жареного, и девочка ускорила шаги, чтобы не чувствовать этого запаха, вызывающего в желудке тупую боль.
Она думала об отце. Можно наскрести где-то денег и дать ему телеграмму: «Папа, я голодаю, помоги! Бабушка в больнице, мне пришлось отдать врачам все деньги, я продала лучшие свои вещи, денег больше нет». Но что сделает папа? Он, конечно, возьмет все в свои руки, пришлет перевод, потом сорвется и прилетит сам, устроив в своем РВСН страшный скандал. Но можно ли так делать? Папа – чувствительный, нервный, «психованный», как бабушка говорит. Дергать его – жестоко. Надо еще потерпеть. И вообще ничего ему не рассказывать. Никогда.
Новый запах заставил ее напрячься: пахло вареной капустой. Кто-то варил щи, настоящие, с мясом. Совсем недалеко, буквально вот за этой дверью…
Она сама не поняла, как толкнула заветную дверь и очутилась в просторном, облицованном белым кафелем, влажно-жарком помещении с запотевшими окнами. Толстые румяные женщины в белых колпаках, похожие на врачей, хохотали, переговаривались, вытирали рукавами халатов мокрые лбы, помешивали что-то в огромных котлах. Мощные вытяжки глотали горячий пар, гудели, пощелкивали.
– Тебе кого, Снегурочка? – радостно спросила одна из поварих, увидев Веру в белой шубке и белой же шапочке. – Маму?… Тама-ар!.. Не твоя пришла?
Вера смотрела на нее, как на богиню. Показалась Тамара, тоже круглая, румяная, с добрым лицом в морщинках и ямочках:
– Нет, не моя. Ты кто, ласточка?
И тут Вера, внезапно задохнувшись от острой зависти к неведомой дочке этой Тамары, сморщилась от слез и выдавила:
– Я кушать хочу.
И произошло настоящее предновогоднее чудо. Заботливые руки сняли с нее шубку, стянули две пары варежек, сунули взамен большую алюминиевую ложку и четвертинку черного хлеба, пододвинули к мокрому металлическому столу табуретку:
– Садись, садись!.. Слабенькая какая. У тебя что случилось? Мама где?
Перед ней очутилась полная миска дымящихся щей, и Вера набросилась на эти щи, давясь и обжигая язык, а тетки стояли кругом и сокрушенно бормотали:
– Господи ты, Боже… А ведь не бродяжка, чистенькая девочка, и одета хорошо… Кушай, кушай, деточка. Второго, жалко, нет, второе работягам не положено… Вот, с собой еще хлеба возьмешь. Да не торопись ты, никто ж не отнимает…
В глазах у них застыла жалость, но Вере даже не было стыдно, что чужие женщины жалеют ее. Ей хотелось только есть, и голод никак не уходил. Налили вторую миску, заварили чай и бросили туда шесть кусков сахара из порванной коробки. Добрая Тамара отыскала в сумке надломанную плитку шоколада и положила рядом с чаем.
Вера жадно ела и отвечала на их вопросы. Да, есть квартира. То есть, комната. Есть папа и бабушка, но у бабушки рак, и она в больнице. Врачи забрали все. И могут потребовать еще. А папа в РВСН, и он нервный, его нельзя беспокоить…
Выпустили ее только через полтора часа, когда убедились, что больше в нее ничего не влезет, даже крохотный кусочек. Она вышла на мороз, чувствуя, как горит лицо и тает за щекой твердый сахарный кубик. Ей было хорошо. Под мышкой в пакетике она держала две буханки серого хлеба и банку тушенки, и сокровища эти казались такими тяжелыми…
Стыдно ей стало лишь дома, когда прошла эйфория от еды.
Второй прилив стыда она ощутила через неделю, когда в магазине самообслуживания, прячась за прилавком-холодильником с рыбными деликатесами, торопливо проглотила ворованную булочку с изюмом, мягкую и сладкую, сразу вызвавшую боль и слезы.
Потом стыд прошел, главным стало другое: где достать еду. Неважно – как. Можно и украсть. Главное – где.
Она не помнила, как встретила Новый год. Кажется, по телевизору били куранты и шел «Голубой огонек», а на столе лежала бережно сохраненная плитка шоколада, которую подарила Тамара. Потом – провал. И жесткий ворс ковра где-то возле щеки.
«Пожалуйста, – мысленно сказала Вера, обращаясь то ли к Богу, то ли к Деду Морозу, – пожалуйста, пусть все станет, как раньше! Пусть бабушка поправится! Пусть папа вернется в Москву! Пусть будет много еды!»
Первого января в восемь часов утра раздался длинный звонок в дверь. Вера, заспанная, ослабевшая настолько, что каждый шаг вызывал головокружение, дошла до прихожей и вдруг почувствовала, как сильнее забилось сердце. Так звонила только бабушка.
Это и была она, бледная, совсем постаревшая, в осенней куртке, с жестким лицом и зажатой под мышкой сумкой с вещами.
– Выписали?! – ахнула Вера.
Софья Михайловна молча вошла, поставила сумку на пол и вдруг заорала, заставив внучку отшатнуться:
– Ты почему мне не сказала, паршивка этакая?!. Почему я от чужих людей все узнаю, а?!. Нет, ты мне скажи, какого черта?!.
Запал у нее кончился, и она замолчала. Потом протянула руки и прижала внучку к себе:
– Это правда? Насчет денег?… Я Бородиной этой мозги-то выбью, горшок ночной возьму и выбью!.. Ты представь, является ко мне совершенно посторонняя баба, я даже имени не знаю, и заявляет, что так, мол, и так, ваша внучка голодная по улицам ходит, кушать просит, а врачи все деньги у нее отняли…
«Кто-то из поварих?» – мелькнуло у Веры.
– Ну, ты представь! – бабушка все не могла успокоиться. Отпустив девочку, она начала мерить шагами прихожую. – Я иду к Бородиной, а она на меня – большие глаза, мол, ничего не знаю, денег никаких не требовала, а внучка ваша, небось, их на шмотки и на мороженое потратила…
– На мороженое?!. – Вера замерла, чувствуя, как глаза наполняются слезами.
– Тихо, тихо!.. – бабушка торопливо подскочила к ней и стала обнимать и гладить по голове. – Все, все… Я уже дома. Сейчас сберкасса откроется, получим мы с тобой мою пенсию за все это время и пойдем затовариваться. Торт купим с кремом. Хочешь торт?
– Я хочу все! – захныкала девочка.
…Полтора часа спустя она сидела за ломящимся от еды столом и торопливо хватала куски с тарелок, а бабушка смотрела на нее, смаргивая слезы и пододвигая все новые тарелки. Софья Михайловна уже успела принять душ, накраситься и причесаться, и была совсем прежней, разве что глаза не светились, как раньше.
– Верунчик, а я ведь сбежала.
– Да ты что! – Вера с ужасом посмотрела на нее, продолжая вгрызаться в кусок докторской колбасы.
– Да! – чуть хвастливо отозвалась бабушка. – Химиотерапия закончилась, а ту ерунду, какую они мне кололи, можно и в виде таблеток попить. Что я, дура совсем? Не понимаю? Справочников медицинских не читала?… Что ты так смотришь? Может, я еще замуж выйду. У меня, правда, тут, – она похлопала себя по животу, – одни кишки остались, остального нету, но я же рожать не собираюсь!..
Вера вдруг поняла, что все происходящее – очень смешно, и начала хохотать, давясь колбасой, хлебом, конфетами и горячим кофе. Она смеялась все сильнее и сильнее, пока не хлынули слезы, а потом еще сильнее.
– Над бабушкой старенькой смеешься? – Софья Михайловна забавно собрала губы в бутончик. – Бабушка глупенькая, да? А тебе лишь бы поржать? – она не выдержала и тоже прыснула. – Но это было все! Как я по коридору на цыпочках, на цыпочках – и вдруг как рванула!..
Но Вера уже не смеялась. Она просто плакала, глядя на бабушку смеющимися глазами.
Аттракцион (рассказ)
Ей отдали дедушкин домик на берегу моря и попросили больше никогда не появляться в городе. Именно из-за этой просьбы в день переезда она расплакалась и долго сидела на крыльце с мокрым платком, глядя, как прибой катает мелкие камешки.
Потом успокоилась. В какой-то степени теперь она жила лучше, чем раньше. Двухэтажный дом из крепкого бруса с окнами на все стороны света, флюгер на крыше, до моря десять шагов, галечный пляж. Огромный детский санаторий рядом, и оттуда прямо в воду ведет белоснежная мраморная лестница.
Закат раскрасил все в медовые цвета, и она вздохнула с каким-то облегчением. Все к лучшему. После городского лабиринта и тесной комнатки на десятом этаже панельной башни, домик у моря – это почти рай.
Дедушка работал смотрителем аттракциона «Морские брызги» – запускал огромное «чертово колесо» и следил, чтобы ничего не ломалось. А если ломалось, звал механика. Вот и все обязанности. В остальное время он часами сидел у воды и смотрел на горизонт.