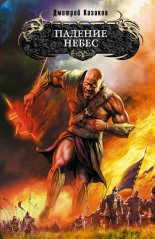Побег с Лазурного берега Леонтьев Антон
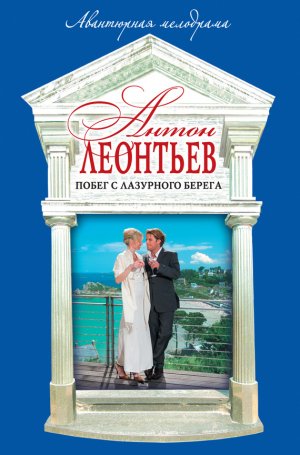
Лиза
Да, быть гением нелегко. Впрочем, дочерью гения – гораздо тяжелее. Лиза поняла это еще ребенком, а окончательно убедилась, когда умерла ее мама.
То, что мама умирает, стало ясно за пять месяцев до неотвратимого финала. Она уже давно неважно чувствовала себя, однако не обращала внимания на симптомы и только под давлением Лизы посетила врача.
Лиза помнила, как после повторного обследования, последовавшего за взятием накануне пункций, мама вышла из кабинета (она ждала ее в приемной, пролистывая какой-то глянцевый журнал, – большая статья была посвящена отцу и его новой выставке в Париже и сопровождалась множеством фотографий: отец и президент Жорж Помпиду, отец и вдова президента Жаклин Кеннеди, отец и покровительница изящных искусств Пэгги Гугенхейм, отец и выводок красоток…) и ровным тоном произнесла:
– Мы можем отправляться домой!
Только усевшись за руль автомобиля (темно-синего «Ягуара» – подарок отца к последнему дню рождения, он любил делать презенты, считая, что они заменяют чувства), мама внезапно разрыдалась. Лиза, предчувствуя что-то плохое, попыталась ее утешить. Мама прекратила плакать так же внезапно, как и начала, и сказала подозрительно спокойным тоном:
– Теперь мы должны быть сильными. Доктор уверен, что есть небольшой шанс.
– Что ты имеешь в виду? – проронила тогда Лиза.
Мама, вытерев глаза платочком, который она вынула из сумочки, пояснила:
– У меня рак лимфатических узлов. Но Леону мы, конечно же, ничего не скажем.
– Мама! – воскликнула Лиза. – Что именно сказал доктор? Папа должен знать....
– Нет, нет! Это только расстроит его и отвлечет от работы! – твердила мать. – Поклянись мне, что ты не проговоришься!
* * *
Когда отец узнал о том, что его жена смертельно больна (Лиза, промучившись два дня, нарушила данное маме слово и поведала ему обо всем), то первой его репликой было:
– Похороны? Я ненавижу похороны, ты же знаешь! И больницы я тоже ненавижу. Лиза, твоя мать выбрала крайне неудачный момент, чтобы заболеть!
Они находились в рабочем ателье отца – огромном, выстроенном, казалось, из стекла, воздуха и солнечного света (его спроектировал один из всемирно известных архитекторов, восторженный почитатель таланта Леона Кречета). В их семье царили незыблемые правила, установленные отцом, и жизнь любого и каждого подчинялась одному – капризам великого художника и удовлетворению всех его желаний еще до того, как они взбредут мэтру в голову.
Отец, в старой фланелевой рубашке с длинными рукавами и потрепанных джинсах, замер перед большим полотном, на котором возникал очередной шедевр. Лиза давно привыкла к тому, что любая картина, написанная отцом (а он любил говаривать, что создает дюжину гениальных полотен до завтрака и две дюжины – после обеда), приобреталась на аукционе за огромную сумму. Только год назад в Нью-Йорке одно из ранних полотен отца «Мадам Гишар с кошкой» – и он когда-то был никому не известным художником! – было куплено владельцем фармацевтического концерна и обладателем одного из самых больших состояний США за тридцать два миллиона долларов.
Ведь ее отцом был сам великий Леон Кречет! Его имя с благоговейным трепетом произносили искусствоведы и художественные критики, коллекционеры-толстосумы по обе стороны Атлантики. В последнее время промышленники из Японии и арабские шейхи боролись за право стать обладателями шедевра Леона Кречета (а все, что выходило из-под его руки, даже клочок бумаги с намалеванной рожицей или обидная карикатура на известного оперного певца, нарисованная на театральной программке, считалось таковым). В Музее Гугенхейма и галерее Тейт имелись отдельные залы с его картинами, а в день открытия очередного вернисажа отца перед входом собирались многотысячные толпы.
Отец, ревниво относившийся к успехам коллег по цеху, считал себя единственным живым гением. Он, в узком кругу крайне пренебрежительно отзывавшийся о творчестве Пикассо, Шагала и Дали, предпочитал не вспоминать о том времени, когда звался Леонидом Кречетовым, и о том, что за первую проданную картину получил тридцать девять франков и пятьдесят сантимов.
Отец давно превратился в космополита и чувствовал себя как дома в Лос-Анджелесе, в Токио и на Лазурном Берегу, однако никогда не забывал подчеркивать, что по происхождению он русский. При этом Леон Кречет упорно придерживался изобретенной им самим легенды, которую его восторженные поклонники считали чистой правдой, – что его отцом был не кто иной, как младший брат последнего российского императора Николая Михаил, а матерью – прима-балерина Мариинского театра Ольга Ставрова, а он сам – плодом их недолгого, но чрезвычайно бурного романа. Якобы Николай, узнав о том, что Ставрова понесла от его брата, считавшегося до появления на свет царевича Алексея наследником, пришел в неописуемую ярость и велел отдать ребенка на воспитание «простым людям».
Матушка гениального художника и в самом деле была близка к театру – какое-то время она работала горничной известной балерины, эмигрировавшей из России после революции и скончавшейся в конце двадцатых от чахотки в закрытом швейцарском санатории. И кто-то из въедливых журналистов сумел проникнуть за железный занавес и съездить в Ленинград, где отыскал запись в церковноприходской книге, которая гласила – Леонид Кречетов появился на свет 6 марта 1903 года, и его родителями были Анна и Алексей Кречетовы. Но отец Лизы только отмахивался от подобных «разоблачений», заявляя, что по личному приказу царя все документы были фальсифицированы, дабы скрыть появление на свет его племянника и, с учетом закона о престолонаследии, реального претендента на корону Романовых…
В тот день отец, увлеченный работой (на полотне возникало нечто похожее на квадратную голую женщину с треугольными грудями и пламенеющими охрой волосами на голове, под мышками и на лобке), делал вид, что не замечает Лизу. Да, он был эгоистом и никогда не скрывал этого. Он резонно считал, что является самым великим художником современности, во всяком случае, из живущих (что касалось предшественников, то он, стиснув зубы, уступал пальму первенства Рембрандту, с которым разделял страсть к пышным женским формам, правда, с оговоркой, что у великого голландца не хватало фантазии в сюжетах), и не сомневался в том, что все, в том числе его жена и единственная дочь, обязаны выполнять каждую его прихоть.
Взмахнув кистью и отойдя от нового своего творения, отец натолкнулся на Лизу. Девушка, замерев, рассматривала картину.
– В чем дело? – недовольно спросил он.
Отец, безусловно, был гением, но это не делало его добрым и отзывчивым человеком. Всем, в том числе Светлане (жене) и Лизе (дочери), воспрещалось нарушать его покой и заходить в ателье с шести утра до полудня, то есть в те часы, когда мэтр трудился. Сейчас он взглянул на Лизу из-под седых, мохнатых, насупленных бровей, затем, не дожидаясь ответа, подбежал к картине и принялся что-то яростно переделывать.
Лиза прекрасно знала, что тревожить отца запрещено, но она не могла больше ждать. Она переговорила с доктором Маринэ, и тот сообщил ей, что надежды практически нет – ее мать не протянет больше пяти, максимум семи месяцев. Наверняка, разглядывая фотографии Лизы в журналах (иногда там появлялись снимки семьи гениального Леона Кречета), все думали: «Как же повезло девчонке! Ее отец – всемирно известный художник, к тому же до чертиков богатый, ведь самая захудалая картина стоит полмиллиона. Она обитает в замке на побережье Средиземного моря и ни в чем не знает отказа!» И никто, решительно никто не мог предположить, что Лиза не чувствовала себя счастливой. В особенности после разговора с доктором Маринэ…
– Pap, – заговорила Лиза, обращаясь к широкой спине отца – он, конечно же, не соизволил обернуться к ней. – Мама очень тяжело больна. У нее рак. Шансов на исцеление крайне мало. Она… она скоро умрет!
Воцарилась тишина. Отец, склонив набок голову с длинными седыми локонами, замер. Лиза понимала: отец никак не может поверить ее словам. Она бы и сама отдала все на свете, лишь бы известие о болезни матери, приговор медиков окаался дурным сном. Ей не нужен ни замок у самого моря, ни сотни нарядов, ни деньги. Только бы мама…
Медленно повернувшись к дочери, Леон Кречет пожевал тонкими губами, подвигал клинообразной бородкой, делавшей его похожим на потрепанного жизнью д’Артаньяна, прикрыл на мгновение выпуклые голубые глаза и произнес сакраментальную фразу:
– Похороны? Я ненавижу похороны, ты же знаешь! И больницы я тоже ненавижу. Лиза, твоя мать выбрала крайне неудачный момент, чтобы заболеть!
Лиза выбежала из ателье и, не удержав равновесия, упала со ступенек лестницы, что вела от студии в благоухающий райский сад, за которым виднелся перестроенный старинный замок. Отец купил его у разорившегося герцога около пятнадцати лет назад, когда принял приглашение великого князя Виктора-Иоанна и обосновался на границе Бертрана и Франции.
Растирая подвернувшуюся лодыжку, девушка дала волю слезам. Но плакала она не от боли – по маме, не желая мириться с вердиктом докторов. И еще из-за отца, который отреагировал на весть о смертельном заболевании жены с присущим ему безразличием и цинизмом.
Поднявшись, Лиза обернулась и увидела сквозь стеклянные стены отца, увлеченно работающего над картиной. Он, скорее всего, выбросил из головы ее слова. А ведь мама была его музой! Даже эту квадратную женщину с огненными волосами он, сам того не ведая, одарил ее чертами! Ведь именно ей, Светлане, он был обязан тем, что превратился в Леона Кречета.
* * *
О судьбе отца было написано не меньше четырех десятков книг, в том числе дюжина диссертаций и монографий, а также несметное количество газетных и журнальных статей. Сам мэтр не любил говорить о своем «советском периоде». Лиза знала, что мальчишкой отцу в период Первой мировой и Гражданской войн в России приходилось промышлять воровством, но он этого и не скрывал, а, наоборот, с гордостью рассказывал, как грабил прохожих в проулках. Вместе с прочими беспризорниками (Анна Кречетова, его мать, умерла от тифа, а отец пропал без вести в войну где-то в Галиции) его отправили в детский дом, оборудованный в бывшем монастыре. Один из воспитателей, некогда профессор изящных искусств, и открыл в семнадцатилетнем Леониде небывалый талант.
Получив рекомендации своего первого ментора и окрыленный его похвалами, в начале двадцатых, в разгар НЭПа, Леонид попытал счастья в Абрамцевском художественном училище. Он был уверен в том, что строгая комиссия, поразившись непомерному таланту, примет его с распростертыми объятиями, но молодого человека ждало разочарование – Советской России его декадентские шалости не требовались. Всего через несколько лет, в течение которых Леонид перебивался случайными заработками, произошло «сменовеховство», и писать картины в том стиле, который предпочитал Кречетов, стало просто опасно.
Будучи весьма неглупым и практичным человеком, Леонид работал декоратором в театрах, оформляя помпезные постановки советских балетов и опер, а по ночам в своей каморке под самой крышей творил. Но кто-то из соседей донес в органы о том, что Кречетов жжет в темное время суток свет – не иначе как занимается подрывной деятельностью. При обыске у него обнаружилось около трех дюжин нелепых картин – квадратные женщины, овальные мужчины, ромбические дети. Ни оружия, ни запрещенной литературы, ни переписки со шпионами и врагами народа найдено не было, но в профилактических целях Кречетову впаяли пять лет и отправили в один из сибирских лагерей.
Оттрубив весь положенный ему срок, молодой живописец освободился и поселился в Пушкине. Из мест заключения он вынес окончательную уверенность в собственной гениальности и ненависть к советскому строю, эту гениальность не признающему. Когда началась Отечественная война, Кречетов оказался одним из первых, кто был призван в ряды армии. Его трижды ранило, один раз – очень тяжело, но ему удалось выкарабкаться. Он даже дослужился до старшего лейтенанта и был награжден.
В рядах советских войск Леонид освобождал Прагу. Оказавшись в Европе, он понял, что настал черед осуществить свою заветную мечту. Ведь даже на фронте он рисовал, не переставая, и таскал с собой папку с эскизами.
Кречетов тайно, переодевшись, покинул месторасположение части и решил начать жизнь на Западе. Из Чехословакии он перебрался в Германию, а оттуда – во Францию. Леонид обладал цепкой памятью, поэтому ему не составило труда достаточно быстро овладеть чужим языком. Именно Франция, как он помнил по наставлениям профессора из детского дома, и есть та благословенная страна, где почитают талант художника и позволяют при помощи его зарабатывать деньги.
Леониду удалось приобрести на блошином рынке настоящий французский паспорт, и он затаился в Париже, мечтая о том, что совсем скоро станет известен всему миру. Но мечты не спешили воплощаться в реальность – послевоенный Париж переживал подлинный творческий бум, город наводнили талантливые личности (или почитавшие себя таковыми) из всех стран мира.
Несколько раз Кречетов сталкивался в кафе с теми, чьи имена заставляли его трепетать, но он был уверен – его талант намного мощнее. Он сменил множество профессий, работал грузчиком, землекопом, страховым агентом и даже медбратом в сумасшедшем доме. И постоянно рисовал. Но… однажды он представил некоему владельцу галереи свои работы, ожидая, что тот немедленно устроит персональную выставку, тот назвал его картины бездарной мазней и слепым подражанием. И все же Кречетов не терял надежды.
В 1951 году Леонид познакомился с девятнадцатилетней Светланой, чьи родители покинули Россию еще до Февральской революции. Ее отец занялся производством вин и заработал солидное состояние. Светлана, которая владела французским, итальянским и английским языками так же хорошо, как русским, пленила Кречетова с первого взгляда. Это была чувственная рыжеволосая девушка с потрясающими формами.
Светлана, увлекавшаяся искусством, но отлично знавшая, что особым талантом не одарена, сразу распознала в Леониде гения. Они стали любовниками, а затем тайно поженились. Родители Светланы, узнав о браке дочери, пришли в ужас. Не таким они представляли себе зятя! А тот, кто стал им, был старше Светланы на двадцать с лишним лет, нищ и к тому же – беглец из-за «железного занавеса».
За два месяца Леонид создал больше ста картин, на которых была изображена она, его муза, Светлана. Юная жена хотела, чтобы о таланте ее супруга узнал весь Париж, и стала уговаривать родителей финансировать выставку в одной из самых известных галерей. И те, к ее удивлению, с радостью пошли на это, полагая, что позор, которым непременно закончится выставка, отрезвит их дочь, откроет ей глаза и спровоцирует разрыв между ней и ее избранником, «этим ремесленником от искусства».
Но все обернулось иначе – сразу три суровых критика, славившихся тем, что не оставляли камня на камне, подвергая разбору творчество как неизвестных, так и прославленных художников, в унисон заявили: на небосводе искусства воссияла сверхновая звезда по имени, по имени…
Вот тут-то Светлана и придумала мужу псевдоним – Леон Кречет, с ударением на последний слог. В течение всего лишь одного года это имя стало торговой маркой – супруги побывали во многих странах Европы, в Америке, где публика встречала их восторженными овациями, а критики – благосклонными отзывами.
Картины Кречета (а у него их было не меньше полутора сотен) разошлись по коллекциям известных музеев и частным собраниям толстосумов в течение нескольких месяцев. Спрос превышал предложение во много раз, ажиотаж не угасал.
Наконец-то Леонид Кречетов, превратившись в Леона Кречета, смог позволить себе то, о чем так долго мечтал, – шикарный особняк, коллекцию супердорогих автомобилей, сонм почитателей и воздыхателей. Он запустил в оборот легенду о своем царском происхождении и даже заявил в одном интервью, что если в России будет восстановлена монархия, то именно он, как прямой наследник Романовых по мужской линии, имеет право на трон.
Монарху требовался замок, и он получил его, когда переселился в великое княжество Бертранское, крошечное государство на Лазурном Берегу. Выкупив у дряхлого аристократа бывшее семейное гнездо, Леон превратил его в свою центральную резиденцию (помимо этого, имелось еще шале в Санкт-Морице, квартира с видом на Центральный парк в Нью-Йорке и ферма в Аргентине) и принялся с неистовым упорством работать над созданием мифа.
У него было все, что ему требовалось, – любящая жена, малютка-дочка, миллионы почитателей, головокружительный успех и неиссякаемый источник доходов – собственный талант. Но Кречету требовалось больше: он желал получить бессмертие, если не физическое, так творческое. А для этого ему была необходима пресса. Как и прессе – он сам. Леон охотно появлялся на светских приемах, вечеринках для звезд, гала-представлениях и бенефисах. Вначале его сопровождала Светлана вместе с дочерью Лизой, но публике быстро наскучила семейная идиллия – от Кречета, который к тому времени отрастил седые локоны и мушкетерскую бородку, требовался эпатаж.
Игра в «une bonne famille» завершилась так же внезапно, как и началась, – Кречет путешествовал по миру в сопровождении льстецов и продажных журналистов, позволяя фотографировать себя голым в джакузи с проститутками, облаченным в императорскую мантию в компании фотомоделей, на массажном столе, с кинозвездами.
Лиза знала, что мама страдает – ведь она любила мужа. А тот обожал только одного человека – самого себя. Он как-то заявил Светлане, что если она действительно его любит, то должна смириться с его образом жизни, ни во что не вмешиваться, а покорно ждать, как Пенелопа ждала триумфального возвращения Одиссея во дворец на Итаке.
* * *
Светлана все больше уходила в себя и замыкалась (чему способствовала гибель ее родителей в автокатастрофе). Она стала редко показываться на публике, злоупотреблять спиртным и сигаретами. Лиза знала, что родители давно не спят в одной спальне, они даже жили в разных крылах огромного замка, набитого антикварной мебелью, драгоценностями и мраморными статуями. Они иногда встречались в гостиной, и зачастую оказывалось, что Леон был не один, а в обществе смазливых девушек, готовых на все, лишь бы оказаться в объятиях всемирно известного художника. Кречет не скрывал, что меняет женщин, как носки, щедро одаривает их после завершения интрижки, и без стеснения заявлял, что его жена с пониманием относится к его «мужским потребностям».
Светлана дважды пыталась покончить жизнь самоубийством: один раз наглоталась снотворных таблеток и запила их шампанским – ее обнаружила горничная и вызвала медиков. А через пару лет, когда во время празднования юбилея Кречета окрестности замка освещал фейерверк, она вскрыла себе вены. Муж даже не пригласил ее на праздник, как будто забыв о ее существовании! Но кровь свернулась, что и спасло Светлане жизнь.
И вот, словно услышав ее тайные молитвы, судьба ниспослала ей неизлечимую болезнь. Леон не проявлял ни сочувствия, ни хотя бы участия. Только единожды он навестил Светлану в ее покоях и гордо сообщил жене, что его наградили орденом Почетного легиона, заявив в дополнение, что она должна сопровождать его на церемонию вручения в Елисейский дворец.
Лизе было безмерно жаль маму, и она была очень зла на отца. Но девушка любила их обоих!
Про себя Лиза частенько думала: все, кто завидует ей, немедленно отказались бы от чести быть дочерью гения, узнай они, что выпало на ее долю. Отца она видела лишь изредка за обеденным столом, в компании покупателей, в бассейне, в обществе девиц в бикини и без оных, на экране телевизора и на страницах журналов, в окружении поклонников его таланта: по его собственным словам, Леон хотел наверстать все то, чего у него не было в Советской России. А вспомнив о дочери, он заваливал ее дорогими и ненужными подарками – фарфоровыми куклами в старинных одеждах, бриллиантовыми украшениями, редкими зверушками.
Мама, превратившаяся в некое подобие себя, стала живой тенью, потерявшей веру в себя и мужа. Она тоже не занималась дочерью, предпочитая проводить время в своих апартаментах, рассматривая картины, написанные супругом, – на них была изображена она сама: молодая, полная жизни и здоровья. Ее дневной нормой стали три пачки сигарет и бутылка виски.
Тяжелая болезнь супруги Леона Кречета журналистов особо не заинтересовала. Их более привлекали сексуальные эскапады самого художника, который дал согласие журналу «Плейбой» провести в замке фотосессию – он сам в роли Калигулы, а нимфетки и старлетки – в роли патрицианок, рабынь и наложниц.
В конце концов Кречет заявил, что не потерпит превращения замка в филиал клиники, и Светлану поместили в одну из клиник в Ницце. Химиотерапия и радиотерапия положительных результатов не принесли: Светлана угасала с каждым днем. Корифеи в области онкологии, которых отец Лизы щедро оплачивал, сетовали, что невозможно помочь пациентке, которая сама поставила на себе крест и смирилась с ужасной участью, а к тому же продолжает курить, невзирая ни на какие запреты.
Полгода, отведенных светилами от медицины, пролетели быстро. Приближался шестнадцатый день рождения Лизы. Она навещала маму каждый день, но Светлана иногда и не узнавала дочь, находясь в полузабытьи под воздействием снимающих боль наркотических средств. Девушка подолгу держала маму за руку, гладила ее по тонкой руке, обтянутой алебастровой кожей, сквозь которую виднелись сиреневые артерии и вены.
* * *
Леон Кречет посетил клинику всего один раз, постоял около кровати жены, склонив голову, испуганно отшатнулся, когда возникла медсестра с эмалированным корытцем, в котором лежали шприц и ампула, и спасся бегством в коридор, где долго-долго раздаривал автографы понаехавшим поклонникам своего таланта и со смехом отвечал на вопросы журналистов, словно забыв – или в самом деле забыв! – о том, что всего в нескольких метрах умирает его подключенная к аппарату искусственной почки жена.
Больше всего Светлана боялась, что скончается в день рождения Лизы, но именно так и произошло. В тот декабрьский день было пасмурно, на море вздувал бахрому волн ветер, пришедший из холодной Атлантики. Накануне лечащий врач сообщил Лизе, что финала осталось ждать недолго: день или два, от силы – неделю. Она сообщила об этом отцу, но тот попросил не отвлекать его по пустякам и удалился в ателье.
В дверь Лизиной комнаты постучали, вошел чопорный дворецкий и, протягивая ей трубку радиотелефона, сообщил:
– Мадемуазель, звонок для вас.
Ей исполнилось шестнадцать лет, но Лиза знала, что никто не будет звонить, дабы поздравить ее. Отец никогда не помнит о чужих днях рождения, а если вдруг и вспомнит, то появится под вечер с бархатной коробочкой, в которой лежит драгоценная подвеска или браслет. Как будто подарком можно купить любовь дочери! Значит, этот звонок…
– Мадемуазель Кречет? – услышала Лиза голос главного врача клиники и сразу поняла, что не ошиблась в своих предположениях. – Увы, я вынужден сообщить вам печальную весть. Десять минут назад мадам Кречет скончалась. Примите мои самые искренние…
Лиза не знала, что делать. Кричать? Плакать? Биться в истерике? Какое-то время она сидела на кровати, затем подошла к большому стрельчатому окну, выходившему в сад. Отец! Она должна сообщить ему!
Она бросилась из комнаты, чуть не сбила с ног горничную, которая несла стопку белья, по лестнице скатилась вниз, на первый этаж, пересекла нескончаемую анфиладу комнат и вылетела в сад.
Девушка направилась к ателье, твердо зная, что отец будет недоволен. Еще бы, ведь она отвлекает его от работы! Но сейчас она не может соблюдать глупые правила дворцового этикета, введенные отцом для того, чтобы тешить собственное непомерное самолюбие.
Лиза подошла к стеклянной стене ателье и замерла. Ее глазам предстала такая картина – на большом деревянном столе, меж эскизов, мольбертов и тюбиков с краской, лежала абсолютно нагая рыжеволосая девица, и над валькирией склонился, уестествляя ее, Леон Кречет.
Несколько показавшихся необычайно долгими секунд Лиза наблюдала за этим животным сексом. До нее донесся тонкий, визгливый голос отца и раскатистые стоны девицы. Щеки Лизы запылали, но не от стыда, а от гнева. Ворваться в ателье? Вышвырнуть девицу вон? Накричать на отца? Но что это даст? Он ведь – гений, а значит, не подвластен правилам, по которым живут обычные, такие, как она сама, люди.
Девушка развернулась и отправилась прочь. Через сорок минут она была в клинике – облаченная в черное платье, перчатки и с маленькой черной сумочкой на длинном ремешке.
Светлана, лежавшая на кровати, выглядела умиротворенной. Боль отступила, отчаяние исчезло, невзгоды прошли. Лиза поцеловала маму в прохладный лоб и поняла, что ее детство бесповоротно закончилось.
* * *
Вернувшись в замок, она узнала, что отец в сопровождении свиты укатил в Рим. Связаться с ним Лиза смогла только поздно вечером, разыскав его в отеле. Из трубки слышались глупый женский хохот и «выстрелы» откупориваемого шампанского.
– Мама умерла, – коротко сообщила отцу Лиза.
Кречет, подумав, ответил:
– Я сейчас очень занят, у меня несколько чрезвычайно важных потенциальных покупателей из Штатов. Я ведь знаю, на тебя можно положиться. Так что займись похоронами. Я вернусь послезавтра.
Только много позже Лиза поняла – отец никогда не любил по-настоящему ни маму, ни ее саму. Иначе разве он поручил бы шестнадцатилетней дочери подготавливать траурную церемонию!
В ту субботу, когда на одном из бертранских кладбищ хоронили Светлану Кречет, моросил дождь и дул пронзительный ветер. Отец обещал прибыть к одиннадцати, но его не было ни в половине двенадцатого, ни в двенадцать. Лиза, заметив смущение на лице православного священника, прибывшего из Парижа, разрешила начать отпевание.
Леон Кречет заявился в тот момент, когда рабочие осторожно спустили гроб в могилу. Отец был в сопровождении своей свиты и держал под руку ту же рыжеволосую девицу, с которой занимался сексом в ателье в день смерти Светланы. Постояв на краю могилы, он вытащил из кармана длиннополого черного пальто примятую белую розу и бросил ее на крышку гроба.
– А теперь поминки! – раздался голос кого-то из его прихлебателей. – Мэтр, для нас заказан кабинет в «Крылатом льве», самом эксклюзивном ресторане Бертрана!
Девица захлопала в ладоши и завопила:
– Ах, «Крылатый лев», я там еще ни разу не была! А правда, что там регулярно бывают Элизабет Тейлор и Ричард Бартон? Лео, малыш, поедем-ка быстрее, а то я уже замерзла на чертовом ветру!
Шумная гоп-компания удалилась, и Лиза осталась одна около могилы. Она мысленно попрощалась с мамой и, когда первые комья земли упали с лопат рабочих на темно-красную полированную крышку гроба, пошла прочь с кладбища, оставляя на нем то самое дорогое, что было у нее в жизни.
Лиза не могла поверить, что в день похорон мамы отец покинет замок и отправится развлекаться. Видимо, таким образом он пытался справиться с охватившим его безмерным горем – во всяком случае, эти слова вынес в заголовок один из глянцевых журналов.
Смерть жены, казалось, совершенно не затронула Леона. Он продолжал творить в ателье, причем очень часто в обществе рыжеволосой бесстыдницы, которая ни на шаг не отходила от овдовевшего художника. Праздник следовал за праздником, вернисаж за вернисажем. О том, как отец проводит время, Лиза узнавала из светских новостей.
* * *
Так прошло восемь месяцев.
За день до открытия Большой регаты, традиционно стартовавшей в первые дни августа, Леон вызвал к себе дочь. Дворецкий передал Лизе, что отец желает ее видеть. Она проследовала в ателье. Вошла, окинула взглядом просторное помещение. Картины с изображением мамы давно исчезли – они были проданы с аукционов и нашли пристанище в галереях и частных коллекциях. Их место заняли изображения Анабеллы, той самой красноволосой ведьмочки, с которой Леон Кречет появлялся теперь в обществе.
Отец в задумчивости стоял около только что законченного полотна. На нем тоже была изображена нагая Анабелла, сидящая в бесстыдной позе на столе, – рыжие волосы, красные губы, хищные бордовые ногти, а из одежды – ожерелье из квадратных изумрудов, которые отец когда-то подарил маме в качестве знака вечной любви.
– Вижу, тебе тоже нравится, – произнес самодовольно Леон Кречет, завидев дочь. – Это мой самый гениальный шедевр!
– Ты же говорил… – начала Лиза и смолкла.
К чему напоминать отцу, что своей лучшей картиной он до недавнего времени считал портрет мамы на берегу Амазонки, купленный каким-то японским мультимиллионером для украшения своего офиса. Девушка подошла к полотну. Отец прав, назвав его лучшим своим произведением. Лиза знала толк в живописи – Леон когда-то давал ей уроки, быстро, правда, прекратившиеся, – и увлекалась историей искусства.
Мама ушла. Ее место заняла Анабелла, вчерашняя школьница, ставшая в одночасье фотомоделью. Лиза сжала кулаки – ногти впились в кожу, – чтобы не заплакать. Та, что была изображена на картине, находилась тут же, в ателье, – Анабелла с обнаженной грудью восседала на столе и победоносно смотрела на отца и дочь.
– Малыш… – произнесла она (это ее обращение Лиза ненавидела, но отцу, которому под семьдесят, явно было приятно воображать, что молодость еще не покинула его). – Скажи ей, малыш! Ты ведь для этого позвал ее!
Двадцатилетняя Анабелла была родом из Эльзаса и говорила по-французски со смешным акцентом. Помимо отца и матери, у нее имелось огромное количество братьев и сестер, на содержание которых Кречет отпускал большие суммы. Лиза не раз задавалась вопросом о том, что же такое отец нашел в Анабелле, и каждый раз приходила к ответу – секс. На нем и строились их отношения: стареющий бонвиван никак не хотел признавать, что возраст постепенно берет свое.
Отец помялся, набросил на холст кусок белой ткани и, кашлянув, заговорил:
– Лиза, ты уже большая девочка…
– Ничего себе девочка! – расхохоталась Анабелла, вытягивая руку, украшенную кольцом с непомерным бриллиантом. – Ну ты и сказал, малыш!
Лиза отметила, что отец нервничает. Он перешел на русский:
– Я хотел, чтобы ты была первой, кто это узнает…
– О чем вы там шепчетесь? – произнесла недовольным тоном Анабелла, подобно пантере, соскользнула со стола и подошла к Леону. Лизе бросилась в глаза не только разница в росте (красотка была на голову выше художника), но и в возрасте.
– Ты же знаешь, что меня всегда влекло к молодым женщинам… – произнес отец, возвращаясь на французский. – Поэтому мы с Анабеллой… мы…
– Малыш, я жду… – Рука с бриллиантовым перстнем проползла по груди художника. Затем девица, вскинув голову (рыжие волосы каскадом упали на плечи), с прищуром взглянула на Лизу и объявила: – Мы поженимся!
Лиза отшатнулась и спросила у отца:
– Papa, скажи мне, что это шутка! Она тебя не так поняла!
– Мы поженимся! – расхохоталась Анабелла и постучала ногтем по перстню. – А это подарок малыша к нашей помолвке.
Лиза подняла взгляд на девицу:
– Вы плохо знаете своего малыша. Он наверняка передумает.
– Не передумает! – заявила с уверенностью Анабелла и поцеловала отца в морщинистую щеку. – Ведь так, малыш? Тебе будет без меня плохо, очень плохо! – Анабелла осклабилась, и на мгновение Лизе показалось, что в ее изумрудных глазах сверкнули дьявольские искорки. – А ты ведь не хочешь, детка, чтобы твоему милому папочке было плохо, очень плохо? И поэтому наша свадьба состоится на следующей неделе. А когда я стану мадам Кречет, мы все заживем одной большой и дружной семьей!
– Ты не можешь! – прошептала Лиза, обращаясь к отцу. – Папа, прошу тебя! Прошло всего восемь месяцев…
– Ну и что? Угнетающие мысли плохо сказываются на творчестве моего малыша, – промурлыкала Анабелла, надвигаясь на Лизу.
– Вы… ты младше его… почти на пятьдесят лет! – крикнула девушка в отчаянии.
– Всего лишь на сорок семь, – ответила Анабелла, подходя к Лизе. – Запомни, детка, желания малыша для меня закон. Он сам сделал мне предложение, и я не могла отказаться. И если ты любишь папочку, то не будешь вставлять нам палки в колеса. А что касается разницы в возрасте… Твоя покойная мамаша тоже была моложе малыша!
Свадьба состоялась пять дней спустя. В Бертран на открытие Большой регаты прибыли сливки европейского и заокеанского общества, и бракосочетание Леона Кречета и Анабеллы стало гвоздем сезона.
Лиза заперлась в своей комнате и наотрез отказалась принимать участие в этом представлении. До нее доносились выстрелы из пушек, а ночью черное небо окрасили всполохи свадебного фейерверка. Гости наводнили замок, и даже сквозь закрытые двери и окна до Лизы долетали обрывки фраз:
– На невесте одних драгоценностей на пять миллионов…
– Сам великий князь вальсировал с ней…
– О, Анабелла станет достойной заменой бедняжки Светланы…
Лиза улеглась в кровать и, зарывшись лицом в подушки, молила только об одном – чтобы все оказалось страшным сном: и свадьба отца с Анабеллой, и бесцеремонные гости, и смерть мамы…
Но избавление не приходило. Девушка забылась тяжелым сном лишь под утро. Очнулась она от громких голосов. Открыв глаза, Лиза увидела Анабеллу в халате, стоящую возле распахнутого шкафа. Лиза метнулась с кровати и, оттолкнув девицу, ставшую ее мачехой, заявила:
– Тебе нечего здесь делать, это моя комната!
– Бедняжка, как же я тебе сочувствую! – покачала головой Анабелла. – У тебя, как и у твоей покойной матушки, нет ни мозгов, ни вкуса. Ты что-то сказала о том, что это твоя комната? Пока что твоя…
Что именно значили зловещие слова Анабеллы, Лиза поняла через два дня, когда в замок заявились крикливые и беспардонные родственники юной мачехи. Заметив, с каким мученическим лицом Лиза взирает на их ораву, Анабелла спросила:
– Тебе что-то не нравится?
– Замок большой, но он не рассчитан на такое огромное количество гостей, – дерзко ответила Лиза.
– В таком случае, детка, никто не удерживает тебя здесь! – зло парировала Анабелла. – Уезжай, и освободится еще одна комната. Как и после смерти твоей мамаши.
Отец, безучастно сидевший во главе стола, ничего не сказал. Анабелла полностью прибрала его к рукам, скрутив и сведя с ума.
– Малыш, – произнесла Анабелла, подплыв к мужу, – мы уже говорили с тобой на эту тему… Твоей дочери требуется хорошее воспитание, поэтому она должна отправиться в интернат. Целебный швейцарский воздух придает небывалые силы. Причем покинуть нас она должна как можно быстрее!
* * *
Выбор отца (или Анабеллы?) пал на закрытую швейцарскую школу для девушек, славившуюся своими строгими нравами. Напрасно Лиза умоляла отца не отсылать ее прочь, он делал только то, что нашептывала ему на ухо Анабелла. По ее злонамеренной прихоти Лизе не было даже разрешено взять с собой фотографию мамы.
Интернат располагался в небольшой долине, окруженной со всех сторон горами. Ученицами в нем были девушки разных национальностей в возрасте от тринадцати лет до двадцати одного года, и объединяло их одно: все они были отпрысками богатых и известных родителей, которые отправили дочек (племянниц, падчериц) в Швейцарию, подальше от семьи. Лиза быстро подружилась со многими товарками и с горечью убедилась: большинство из них попали за границу после того, как отец – председатель правления крупного концерна, сенатор или генерал, – переживая вторую, а то и третью весну, снова женился и привел в дом молодую супругу, тотчас возненавидевшую падчерицу.
Девушек обучали иностранным языкам, прививали им хорошие манеры, отучали от дурных привычек и вкладывали в голову мысль о том, что их единственная цель – удачно выйти замуж и верой и правдой служить мужу, рожая ему отпрысков.
Свободное время большая часть учениц проводила в крытом бассейне, Лиза же предпочитала выходить с мольбертом на большую террасу, с которой виднелись покрытые снегом вершины. Она пробовала рисовать их, но это ей быстро наскучило. Тогда она попыталась воспроизвести по памяти один из портретов мамы, выполненный отцом много лет назад. Однажды, увлеченная процессом, она не заметила, как к ней подошла директриса интерната.
– У вас, мадемуазель, поразительно получается, – похвалила она. – Однако, скажите на милость, где же я видела эту картину?
По ночам, лежа в кровати и не в состоянии заснуть (подружки тихонько переговаривались, обмениваясь сплетнями о поцелуе с помощником садовника или повествуя о тайной вылазке в близлежащую деревню, где их ждали молодые увальни), Лиза в подробностях реконструировала мысленно полотна отца, на которых была изображена мама, – каждый штрих, оттенок, деталь.
Два раза в год воспитанниц отпускали по домам – на пасхальные и рождественские каникулы. В первый же приезд Лиза поразилась тому, как переменился отец, – из энергичного бонвивана он превратился в испуганного старика, заискивающего перед своей молодой женой. Анабелла полностью сменила обстановку в замке, а также сделала из маминой спальни и прилегавших к ней комнат огромный будуар.
В следующие каникулы поездка домой не состоялась – директриса сообщила Лизе о своем разговоре с Анабеллой, которая сказала, что они все простужены, а потому визит девушки лучше отложить до лучших времен. Лиза пыталась дозвониться до отца, но каждый раз трубку брал дворецкий, причем не тот, что служил у них много лет, а новый, нанятый Анабеллой. Заслышав ее голос, он отвечал, что месье Леон занят. Отец был занят двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году!
Лиза с нетерпением ждала своего восемнадцатого дня рождения. Из угловатого нескладного подростка она превратилась в миловидную девушку с длинными рыжими волосами и тонкой фигурой (кормили в интернате по-спартански).
Ей преподнесли торт с восемнадцатью свечами, под всеобщие аплодисменты Лиза задула их и загадала желание – она хотела вернуться домой. И надо же – ее желание сбылось. Директриса торжественно объявила:
– Мадемуазель, согласно законам Бертрана, страны, подданной которой вы являетесь, в восемнадцать лет вы становитесь совершеннолетней…
Она хотела сказать что-то еще, но Лиза прервала ее:
– Мадам, когда я могу покинуть интернат?
– Но, мадемуазель, ваша мачеха внесла плату еще за три года вперед… – залепетала директриса.
Лиза улыбнулась:
– Вы же сами сказали, что я стала совершеннолетней, и удерживать меня в интернате против моей воли вы не имеете права. Я благодарна вам за те знания, которыми одарили меня здесь, но сейчас я хочу одного – убраться отсюда!
Ее слова потонули в криках восторга – до сей поры никто не смел перечить всемогущей директрисе.
Интернат Лиза покинула на следующее утро. Собрав те немногочисленные пожитки, что у нее имелись (ей приходилось довольствоваться тремя черными платьями с глухой горловиной, домоткаными гамашами, коричневыми туфлями на низком каблуке, полушубком с кроличьим воротником и смешной старомодной шляпкой), она позволила отвезти себя до железнодорожной станции, откуда добралась до Женевы. Затем на самолете – благо, что подруги собрали ей деньги на авиабилет, – долетела до Ниццы.
А уж оттуда по горному серпантину было рукой подать в Бертран, где находился замок отца.
* * *
Лиза прибыла домой под вечер. Директриса наверняка уже позвонила и сообщила, что ее воспитанница возвращается, и Анабелла наверняка приготовила «теплый прием». Отдав водителю такси последние три купюры, Лиза подошла к витым чугунным воротам и нажала кнопку звонка. Она заметила две телекамеры, которые были установлены на колоннах.
– Что вам надо? – раздался в динамике грубый мужской голос.
– Я вернулась, – сообщила Лиза. – Откройте, пожалуйста, ворота.
Собеседник отключился. Подождав несколько минут, Лиза нажала кнопку еще раз. Тот же голос произнес:
– Вали отсюда, пока я не вызвал полицию. Это частное владение, тебе понятно?
– Я – Лиза Кречет! – воскликнула девушка, поражаясь новым порядкам.
Собеседник хрюкнул и замолчал. Наконец, после долгого ожидания и бесплодных попыток привлечь к себе внимание при помощи звонка, Лиза услышала в динамике голос со знакомым эльзасским акцентом:
– Детка, что ты здесь делаешь? И как ты тут оказалась? Ты что, сбежала из интерната?
– Директриса разве не звонила? – осведомилась тактично Лиза. – Наверное, новый дворецкий не соединил ее с тобой, мамочка. Так ты мне откроешь? Или мне придется прямо здесь созвать пресс-конференцию, чтобы весь мир узнал, что ты не желаешь пускать в дом дочку, дорогая мамочка?
Угроза подействовала, и ворота распахнулись. Лиза двинулась к замку – сад запустел, здание обветшало. Дверь ей открыл высоченный дворецкий с физиономией наемного убийцы. Анабелла была тут как тут – в вечернем туалете, увешанная драгоценностями. Она приблизилась к Лизе, всплеснула руками и произнесла:
– Как ты изменилась!
– Мы давно не виделись, – ответила Лиза и вручила чемодан дворецкому. – Отнесите вещи в мою комнату.
Тот вопросительно посмотрел на Анабеллу.
Мачеха приказала:
– В комнату для гостей. Детка у нас долго не задержится.
– Отчего же? – ответила спокойно Лиза и посмотрела в глаза Анабелле. Та, не выдержав, отвела взгляд. – Или мне не рады в родном доме?
Мачеха засуетилась, потащила девушку в столовую, желая накормить ее ужином, но Лиза, с трудом отделавшись от ее цепких объятий, заявила:
– Я хочу видеть отца!
– Он уже спит в столь позднее время, – ответила Анабелла.
– С каких пор он ложится спать засветло? – изумилась девушка. – Еще недавно он был в состоянии гулять и праздновать всю ночь напролет.
– Времена меняются, – загадочно ответила Анабелла и, махнув дворецкому рукой, велела: – Отведи ее к малышу!
Они поднялись на третий этаж – Лиза отметила, что Анабелла приложила свою ручку не только к появлению нового интерьера, но и к перепланировке замка. Отец, раньше занимавший целое крыло, проживал теперь в помещениях, некогда предназначенных для прислуги. Постучав и распахнув дверь, дворецкий со странной улыбкой позволил Лизе войти в комнату.
Она была плохо освещена – на стене, обитой рваными шелковыми обоями, горел ночник. Отец, склонив голову, сидел в кресле. Лиза бросилась к нему и, только опустившись перед Леоном Кречетом на колени, поняла, что кресло было не обычное, а инвалидное.
– Папа! – воскликнула шокированная девушка. – Что с тобой произошло?
Отец с трудом поднял голову, и Лиза увидела перед собой развалину: от некогда густых и длинных пепельных волос практически ничего не осталось, отец был почти лыс, щеки запали и были покрыты странными пятнами, нос загнулся крючком, стильная бородка превратилась в нестриженый седой веник.
– Лиза! – произнес Кречет странным сиплым голосом. – Моя девочка! Я знал, что все-таки увижу тебя до того, как умру!
Сколько раз она проклинала отца, сколько раз в сердцах желала ему зла – и вот, кажется, ее самые страшные проклятия сбылись. Отец был закутан в несколько пледов и шалей, но и это не спасало его от холода – старик дрожал. Исхудавшей рукой, больше похожей на длань мертвеца, чем живого человека, – с пергаментной кожей, зелеными, змеящимися под ней венами и сизыми ногтями, – Леон дотронулся до щеки дочери, и Лиза едва сдержалась, чтобы не отшатнуться.
– Папочка! – зашептала Лиза (дверь была приоткрыта, и она видела фигуру притаившегося на пороге и внимающего ее разговору с отцом дворецкого). – В чем же дело?
– Это кара за мои прегрешения! – прошамкал старик, и Лиза увидела его кровоточащие беззубые десны. – Я бросил Свету на произвол судьбы, оставил умирать от страшной болезни – и вот сам оказался в ее лапах. У меня, как и у твоей матери, рак, причем неоперабельный. Все движется к финалу!
Лиза обняла отца и поцеловала в холодную щеку.
– Месье Леону нужен покой, – сообщил, возникая в комнате, дворецкий. – Таково предписание докторов. Прошу вас, мадемуазель!
Вошел еще один слуга, как и дворецкий, молодой мужчина лет двадцати девяти – тридцати, смазливой внешности и с хитрыми бегающими глазками. Он держал в руках серебряный поднос, на котором стояла дымящаяся пиала.
– Ваш куриный бульон, месье, – провозгласил слуга и обменялся с дворецким, как показалось Лизе, многозначительным взглядом.
Девушка отказалась от ужина и пожелала видеть Анабеллу. После долгих уверений прислуги, что «мадам соизволит почивать», Лизе все же удалось проникнуть в ее будуар. Размерами он был с футбольное поле. Посередине на мраморном полу находилась кровать в форме морской раковины, застеленная шелком цвета индиго. Анабелла была не одна, а в компании молодого мужчины с гладкими зачесанными волосами и хищной улыбкой. Девушка, войдя в будуар, застала мачеху сидящей на пуфе перед огромным зеркалом. Облаченный в смокинг мужчина склонился к шее Анабеллы. Лизе показалось, что он целует мачеху.
– Благодарю, доктор! – произнесла, подымаясь, мачеха. – Ожерелье расстегнулось, и вы были столь любезны, что помогли мне его застегнуть.
На шее у Анабеллы было жемчужное колье, принадлежавшее когда-то маме, отметила Лиза. Застежка его была искусно спрятана в крупном сапфире, который покоился на груди у Анабеллы. Интересно, каким образом месье доктор помогал ей застегнуть ожерелье?
– Какой неожиданный визит! – протянула мачеха. – Я переговорила с гусыней-директрисой, она мне все сообщила. Мы же оплатили еще три года твоего пребывания в интернате, а ты своевольно вернулась. Пустая трата денег!
Лиза, усевшись без приглашения на один из пуфиков, взяла с туалетного столика шкатулку с драгоценностями, раскрыла ее и произнесла:
– Во-первых, милая мамочка, мне уже восемнадцать, и я имею полное право делать то, что считаю нужным, а во-вторых… Боже, какой рубин! Вот уж что точно пустая трата денег, так это твоя прихоть, дорогая мамочка, произвести в замке значительные переделки. И ты наняла новую прислугу. Чем тебе не угодила старая?
Анабелла вырвала из рук падчерицы шкатулку, захлопнула крышку и ядовито заметила:
– Ты очень изменилась, детка. И не только внешне!
– Ты же знаешь, дорогая мамочка, целебный швейцарский воздух придает небывалые силы, – ответила Лиза. – Тебе, кстати, тоже не помешало бы пожить и поучиться в интернате несколько лет!
Месье доктор хмыкнул, Анабелла гневно взглянула на него.
– Ты собираешься остаться в замке? Если да, то хочу предупредить тебя, что ввиду тяжелой болезни моего дорогого малыша я не могу позволить тебе нарушать его покой.
– А как же твой гость? Он не мешает отцу? – спросила Лиза.
Анабелла нехотя представила субъекта в смокинге:
– Доктор Барни, лечащий врач твоего отца.
– Вы – онколог? – спросила Лиза, пожимая руку доктора. – Когда же вы успели стать специалистом в этой столь сложной области медицины и набраться опыта, доктор? Или вы вундеркинд и закончили университет в шестнадцать?
– В пятнадцать, – нагло ответил доктор, и Лиза окончательно уверилась, что он никакой не врач.
– Вы практикуете в Бертране? Или в Ницце? – продолжила она расспросы.
Анабелла поднесла к вискам тонкие пальцы и простонала:
– Доктор Барни – одно из светил медицины, я ему доверяю, как себе. Когда же это все прекратится! Как мне надоели нескончаемые анализы, диагнозы!
– Тогда, может, имеет смысл взять другого врача? – заметила Лиза. – Что же такое с отцом?