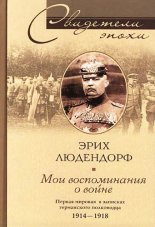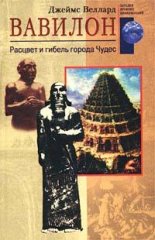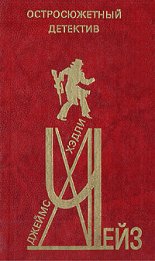Война под крышами Адамович Алесь

Возвращаясь назад, Толя увидел, что мать идет, почти бежит навстречу ему. С тревогой подумал об Алексее. Но нет, это из-за Толи мама бежит, из-за него. Толя замедлил шаги, но, видно, никуда не денешься от приготовленных для тебя сердитых слов.
– Ты что это надумал… зачем ты так?
Толя постарался вырваться вперед, но мать, придерживая рукой рассыпавшийся узел волос, шла за ним, след в след.
– Я хотел только…
– У вас все так, а я с ума схожу.
– Ай, мама!
– Что «ай, мама»?
Нет, лучше помолчать. Скажи слово, его тотчас подхватят и затолкают тебе же в рот.
У калитки их поджидал Алексей. Хмурый, гармошка морщин наползает из-под чуба на брови. Мама спешит к нему, а он хоть бы с места сдвинулся.
– Ну что, сынок?..
– Ничего – немцы. Три машины заводские уехали. Успели.
Обедать Алексей отказался, посидел за столом, закурил и вышел во двор. Мама проводила его каким-то странным взглядом. Заторопилась, стала шарить в сумочке. Задержала руку, потом подала Толе что-то завернутое. Смущенно сказала:
– Спрячь, ну что тебе, пусть будет.
Ничего не понимая, сын развернул потертый, пахнущий бумажной пылью пакетик.
– Это крестильный твой. Пускай будет на всякий случай. Вдруг немцы станут… Сделай это, сынок, для меня.
– На черта мне это, – глядя на позеленевший медный крестик, проговорил Толя голосом старшего брата.
Мать все с тем же непривычным смущением перед сыном пригрозила, нехотя улыбаясь:
– Вот поговори мне. Думаешь – большой. Отлуплю – будешь знать.
Она быстро отняла у него пакетик и положила в сумочку.
По улице пронеслись два мотоцикла, потом пошли танки, распирая грохотом улицу. И вновь стало слышно шоссе, к которому, привыкнув, перестали было прислушиваться.
Мать подошла к окну:
– Зачем я потащила вас сюда? Вот люди уехали. Алеша молчит, а я вижу. Что же я могла сделать, детки? И про Москву так говорят…
И она заплакала, убито, беспомощно, как плачут по умершему.
– Детки мои, вот и нет вашей жизни, ничего нет.
– Нигде они не будут, ни в Москве, нигде… Увидишь, как их попрут! – бессвязно заговорил сын, начиная постигать всю беспощадность того, что вломилось в их жизнь.
Стены дома внезапно вздрогнули от тяжелого взрыва. Еще и еще. Быстро вошел хозяин, за ним вскочил в хату Алексей и сообщил:
– Начался бой.
До самых сумерек грохотало за лесом. Деревня, которая недавно так беззащитно лежала перед пришельцами, сразу стала иной: люди перебегают улицу, шепчутся, на лицах тревога и надежда.
У Порохневича собралось несколько соседей. Двоих Толя знает. Высокий – Голуб, который когда-то Толе казался таинственным хозяином уходящей на Москву дороги. Когда этот человек тяжело шел по обочине или возился со щебенкой, Толя подбегал и смотрел. И то, что Голуб всегда молчит, было понятно: он молчит не один, а вдвоем с дорогой. Иногда появлялась другая фигура. Тяжело переломившись, длинный Голуб сдвигал песок к асфальту, а рядом по-воробьиному прыгал маленький человечек Повидайка и все что-то рассказывал. Лопата у этого человечка не для работы, а чтобы проделывать с нею разные штучки: быстро-быстро ковырнет что-то под ногами, потом обопрется на лопату, затем откинет ее за спину, вскинет на плечо, снова опустит и снова ковырнет песок.
Сегодня Толя впервые рассмотрел Повидайку вблизи. Если на угловатом лице Голуба кожа темная, точно дубленая, то у Повидайки личико как у младенца. Странно видеть на нем седую щетину.
Соседи дымят махоркой и ждут. Говорят, машин на шоссе уже нет, поток их вдруг иссяк. Порохневич уходил куда-то и принес сведения: наши вышли из лесу и оседлали шоссе у моста. Мужчины стали рассуждать, нарочно или не нарочно сюда впустили немца. Еще недавно людям казалось непоправимой катастрофой то, что немцы уже здесь. А теперь радовались снова – каждому взрыву, каждой пулеметной очереди.
– Слышите, слышите? – спрашивают по очереди.
Если человек, счастливый своим завидным здоровьем, вдруг узнает, что он опасно заболел, он испугается, падет духом. Но наступит малейшее улучшение, и человек в этот миг будет более счастлив, чем когда был совершенно здоров. Вот такой короткой, но острой была радость и этих людей, которые еще утром считали, что случилось непоправимое. И ведь не знали они, чьи это пулеметы там беснуются, чьи снаряды рвутся. Радовались уже тому, что идет бой. Главное, чтобы не было тишины, чтобы не думалось: «Вот и все».
– Вот и все, – именно так и сказал Порохневич, когда бой притих. Лишь шуршит что-то вдали, точно по жести щебенку ссыпают.
– Автоматы, – сказал Алексей.
Последние несколько взрывов, и – тихо, тихо. Опять надвинулось то, что, казалось, отступило.
– А может, наш верх! – не сдавался Толя.
Порохневич проговорил:
– Машины опять идут.
– Все бы так держались, – будто споря с кем-то, отозвался Алексей.
Повидайка подхватил:
– Против русских могут только немцы, они народ техничный. Даже японцы, знаешь-понимаешь, не то. А вот глядите: в одна тысяча девятьсот пятом была война, потом – одна тысяча девятьсот четырнадцатый, а теперь тысяча девятьсот сорок первый. И там и тут, знаешь-понимаешь, кругом – пятнадцать… А когда еще будет пятнадцать: тысяча… две тысячи…
– Ну ты, «знаешь-понимаешь», – оборвал его хмурый Голуб, – помолчи.
– А какая польза? – тихо сказала о своем тетя Поля. – Побили их, а у каждого где-то мати.
Заговорил Порохневич:
– Голову сложить – дело не хитрое. Повидайка правду говорит: с немцем надо умеючи воевать. А кому тут воевать! Напекли лейтенантиков, вроде нашего Сашки. Им еще за гусями ходить. Мосты и те не пожгли, а их у нас по два на километре.
– Не трогай Сашу, – строго поглядела на мужа тетя Поля, – ты не знаешь, что с ним сейчас.
Но Порохневич как-то напрягся весь, худые щеки покраснели, он уже кричал:
– А где те, что гражданскую делали и все другое? Черт знает что! Мой начальник – пока сам цел был – говорил на совещании: теперь такое время, что мы должны подбирать кадры не по делу, а по надежности. Такой вот и спрос с них теперь. А шпионы-то настоящие целы, пстрыкают ракетами. Вот вам!..
Ишь ты – «вам»! А ты теперь кто? Думаешь, что всему конец. Вот ты когда раскрылся! А еще говорили, этот Порохневич партизаном был.
Уже с неприязнью глядел Толя на сухолицего человека с жесткими черными волосами, которые будто в самую кость вросли. Он лихорадочно готовил горячие и торжественные, как клятва или проклятие, слова, которые он сейчас скажет этому человеку. Но Толю опередила мама:
– От этого, Лука Никитич, не легче, кто бы там ни был виноват. Учили, учили детей…
Но Порохневича будто подменили. На его костистом лице, перечеркнутом прямыми черными усами, все перекосилось.
– Кричали: мы, мы, у нас – то да се. Где все это?
И этот человек, всегда казавшийся таким сдержанным, свирепо и грязно выругался и ушел, хлопнув дверью.
Голуб крякнул.
– Ну, я это… пойду.
За ним потянулся было Повидайка, но у порога задержался.
– Две тысячи сто девяносто третий.
Никто не понял.
– Тоже, знаешь-понимаешь, пятнадцать.
– Ты хотя эту переживи, – буркнул Голуб, – а то считает…
Перед тем как перебираться в поселок, мама сходила туда сама. Вернувшись, устало рассказывала:
– Зашла в аптеку, там один чемодан поставила, чтобы не держать все дома. Где там! Даже аптеку разграбили. На полу – столько всего. Из города я медикаменты как раз привезла. Начали немцы, а кончить нашлись и наши.
Толя не мог не взглянуть на Порохневича. Ну, конечно же, думает: «Вот вам!» Этот человек как бы присматривается со злорадством к тому, что делается, и можно думать, что он доволен, если подтверждается его какая-то нехорошая мысль.
– Одного даже застала, – продолжает свой рассказ мама, а Толя уже и на нее злится. – Этакий дубина, десятиклассник, ползает по грудам лекарств и пакетики разрывает. Я ему: «Что ты тут потерял? Думаешь, они тебе привезут?» Ухмыляется – дурак дураком…
– А что, немцам оставлять? – не выдержал Толя, заметив противную усмешечку Порохневича.
– Какие же вы все дурные – молодые, – сказала мать. – Теперь-то и насядут болезни. Немцам что? Болейте, помирайте. Не знаю, пригодится ли, а кое-что я отобрала, что отличить можно было.
Это похоже на практичную маму.
В тот же день пошли домой. По шоссе, не сбавляя скорости, непрерывным потоком мчатся машины с удлиненными радиаторами или совсем тупорылые. Эти непривычно безносые вот-вот, кажется, кувыркнутся через голову. Па кабинах и капотах машин – красные полотнища с белым кругом, в который заключен похожий на паука черный крест-свастика. Для своих самолетов, наверное. А наших, выходит, не опасаются. Почему? В кювете лежит наша полуторка, ее, говорят, догнал первый танк и просто столкнул с шоссе. Пугающе желтеет свежий холмик земли. По белым от пыли канавам и между придорожных деревьев идут люди. Их много, они какие-то пришибленные. Кажется, что ночью во время сна чья-то чудовищная рука сгребла людей с огромной территории и швырнула их на землю – и вот те, что уцелели, разбредаются, сами не зная куда. Упоенные успехом, первые немцы не обращают внимания даже на людей в полувоенной одежде. Немцы спешат в Москву.
В поселке
Участники событий, конечно, воспринимали и осмысливали происходящее непосредственно и узко; события несли их в своем потоке, и каждому видны были лишь ближайшие волны этого потока, хотя каждый жадно стремился заглянуть как можно дальше.