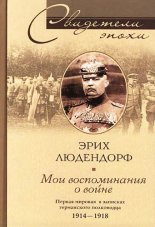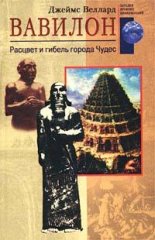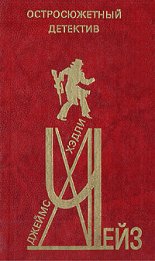Сыновья уходят в бой Адамович Алесь

Часть первая
Уже шестнадцать
I
Толстые темные ели как часовые. Будто передают тебя от поворота к повороту. Толя остановился у соснового пня, облитого льдом. Ничего площадочка – хату можно поставить! И как только спилили этакое деревце. Стал на пень, прошелся. Четыре шага. Посмотрел на облака, пробегающие в небе. Глянул на уходящую вдаль просеку. Так и кажется, что проложила ее рухнувшая сосна.
– Силен лес! – похвалил и как бы похвастался Коваленок.
Силен, конечно. Но было бы удивительно, если бы партизанский лес был обычный. А Ковалёнок здесь как дома, позавидовать можно. Полушубком где-то разжился, полы широкие, а выше – как раз по его девичьей талии. Шагает, сбивая каблуками хромовых сапог звонкие комочки мерзлой грязи, льда. И сам – звенящий, поскрипывающий: опоясан ремнями, украшен пряжками, даже свисток зачем-то на груди болтается. И ямки у рта, и шутовские усики-ниточки – все такое разванюшинское, знакомое.
Началась грабовая роща. Сразу посветлело в лесу. После хвойной зелени сучья граба такие голые, мертвые. Голубоватая и будто с подтеками кора заставляет вспомнить открытые всем дождям холодные печи в сожженных Вьюнах. Там Толя жил последние две недели. А где-то в Лесной Селибе помнят, думают о нем, как о настоящем партизане.
Проревел совсем недалеко самолет, высыпал крупную пулеметную дробь.
– Начинается, – говорит Ковалёнок, сразу загораясь.
Все-таки хорошо, что Толя уже в партизанском лесу. И пост остался позади. Тут можно быть спокойным: партизаны знают, что надо делать, когда немцы близко.
Впереди заиграл просвет. У дороги собралось несколько неприбранных мартовских березок. Кажется, они сбежались, а потом удивленно расступились, образовав круг. А в кругу на обледенелых прошлогодних листьях, чернеющих в ноздреватом, как обсосанный сахар, снегу, играют солнечные блики. Показалось даже – звенят.
Из-за поворота на дорогу вышел человек с автоматом под локтем, остановился, кого-то поджидая. Очень бледное лицо человека кажется совсем меловым от спадающих на лоб из-под кубанки волос, от черного мазка квадратных усиков. И в одежде он такой же черно-белый: короткая, отороченная белым мехом венгерка, белая кубанка с черным верхом, темное галифе.
Глаза выпуклые, черные до блеска.
Толя уже видел однажды эти горящие выпуклые глаза. Это Сырокваш, начальник штаба.
Мимо пробежали двое с винтовками на весу. А из-за поворота идут и идут партизаны. Толя с гордостью отмечает: много пулеметов. У рослого пулеметчика, посмотревшего на Толю, красивая черная борода, хотя лицо румяное, молодое.
– Откуда, Разванюша, немцев ведешь? – спрашивает у Коваленка Сырокваш, и на лице его вспыхивает короткая усмешка. Толя с готовностью ответил на улыбку партизана. О, Толя понимает, как это хорошо – идти навстречу бою и шутить.
– Разрешите с вами! – выкрикнул Коваленок. Зачем-то поправил белые отвороты хромовых голенищ: можно подумать – его пригласили в круг танцевать.
У Толи нет оружия. Кроме того, его ждут в лагере…
– Иди, наш будан[1] первый, – говорит Коваленок.
Где-то на краю леса снова взревел самолет, сбросил бомбы, эхо закричало и понеслось по лесу. Совсем недалеко отстукивает короткие очереди пулемет.
Мимо уже бежали. Вот и Комлев, дядька Разванюши, грузный, с тяжелым взглядом. Алексея не видно.
Сразу за поворотом большущий шалаш из побуревшего елового лапника. Вот оно – партизанское жилье. Толя несмело заглянул в огромный будан.
По обе стороны – отгороженное бревнами место, где спят. Цветные домотканые постилки, серые и зеленые немецкие одеяла, тулупы, ватники. В дальнем углу – ярким пятном – светло-желтое стеганое одеяло. Толя сразу узнал свое и обрадовался, будто знакомого увидел.
А в проходе, в трех местах – толстые обгоревшие березовые плахи. Видно, что костры наскоро присыпали снегом, и они все еще тлеют.
Закинув голову, Толя смотрел на гирлянды сажи, колеблющиеся от теплого дыма. Грубо, огромно, неудобно и захватывающе – как замок!
Потрогал ствол станкача, прикрытого красной попоной. Прошел в глубь будана. Шаги у входа. Повернулся – мама!
Обрадовалась и напугалась:
– Вы там шли, немцы там!..
В плюшевой жакетке, в сапогах, без платка. Лицо незнакомо молодое. И очень озабоченное. Как будто она все еще в Лесной Селибе – окно в окно с комендатурой, как будто не позади все самое страшное!
– Ноги промокли?
Ну, допустим, промокли. Но из-за этого такой озабоченной быть?
– На – сухие, – говорит мать, доставая из вещмешка чистые портянки. – Как это мы не сообразили хоть сапоги хорошие сделать. Все оставили, как в гости шли.
– Сапоги – подумаешь! Достают же. Немецкие.
– Это дома все так казалось.
Про Алексея сказала тихо:
– Ушел на железную дорогу. С Пахутой, с подрывниками.
Взяла из угла санитарную сумку, раскрыла. Толя заглянул:
– О, индивидуальные пакеты! Я возьму.
– Зачем? – даже сердито сказала мать. Но тут же подала перевязочный пакет.
Толя прикинул, что ему, сыну, можно и больше.
– Два возьму.
Мать молчала, только как-то странно смотрела на руки Толи, который с удовольствием ощупывал плотные провощенные пакеты.
Подумала вслух:
– Сегодня одиннадцатый день, как пошли на железную дорогу.
Мама уже вся в том, особенном мире, где, Алексей, некий Пахута, где Сырокваш и все, кто бежали навстречу выстрелам.
– Я в санчасть. Немцы близко. Переобуйся.
Толя быстро сменил портянки, еще раз – уже по-хозяйски – осмотрел станкач, и вышел.
Стрельбы не слышно… В голубом небе легкие комочки облаков. И, кажется, потеплело. С черных от сажи сосулек, свисающих над входом в будан, каплет. Толя подставил ладонь: светлая водичка, а в ней бегают сажинки.
По дороге, мелькая за соснами, едут верховые. Передний – круглолицый, полноватый. Воротник – каракулевый, кубанка – тоже. Пришпорил коня, и сразу стало заметно, что ездит плохо: автомат бьет по груди. Двое задних сидят на лошадях ловко, легко. У каждого к ноге пущена длинная сверкающая цепочка от пистолета.
Совсем недалеко ухнула бомба или мина. Эхо прошелестело в вершинах и унеслось.
Толя пошел по глубоко протоптанной снежной дорожке. Везде горбятся буданы. А вот это – кухня. Костры присыпаны снегом. Две женщины чистят картошку и бросают в железную бочку. На жерди висят котлы – два больших и один поменьше.
Толя стесняется подойти к кухне поближе: удивятся – откуда такой!
Из будана вышел мужчина, над плечом, как гитару, держит большущий кусок мяса – коровью ногу. Наверно, повар. Бросил мясо на пень и взялся за топор. Лицо у повара сердитое и как бы обиженное. И странно красивое. Даже непонятно: зачем мужчине такое красивое лицо? Удивительно голубые глаза, будто ободком обведена эта голубизна. Капризно-сердитое выражение тоже словно нарисовано на лице, и кажется, что ничего другого оно не способно выражать.
Снежная тропинка вывела Толю к штабелю полусгнивших, будто сросшихся, березовых и осиновых плах. Слежавшийся штабель привалился к сосне. Необыкновенно толстая сосна, а глянешь по стволу – стройная, летящая… Если долго смотреть, начинает казаться, что взлетающий ствол поднимает, уносит и тебя.
Делая метки на коре, темной, потрескавшейся, будто куски торфа, Толя принялся считать обхваты». Пять! Услышал скрип снега.
– Менш! – крикнул по-немецки человек, чем-то очень знакомый, и тут же спокойно поинтересовался: – Ты кто такой?
Толя покраснел от того, что чуть не сорвалось: «Моя мама здесь». Но что еще сказать о себе, он не знал и потому молчал. На голове странно знакомого незнакомца новенькая фетровая шляпа. Рука, обмотанная бинтами, – поперек груди, как автомат. Толя где-то видел, помнит эти неспокойные, веселые и одновременно пустоватые глаза, это гримасничающее лицо. Ну конечно же Баранчик! «Брандахлыст» – так его окрестил дедушка, когда Баранчик заделался селибовским бургомистром, бегал, орал, таращил глаза. А потом исчез, оставив в дураках коменданта и полицаев… И вот он здесь, и Толя тоже здесь. Партизанский лес – самое фантастическое место на земле. Не удивишься, наверно, если давно умершего здесь встретишь.
– Ага, – догадливо произнес Баранчик, плюнув вслед окурку, – Корзунихин.
И пошел по снежной дорожке: Толя – следом за ним туда, где мама и толстая женщина выколачивают одеяла.
– Ка-ак вы-ыросли ваши! – певуче удивилась тяжелая на вид, но быстрая в движениях женщина, когда Толя приблизился. – Почти как мой Митя! А мама у них такая молодая!
– Я сейчас, Пашенька; – сказала мама и передала концы одеяла Толе. – Помогай!
Ушла, кажется, мало заботясь о том, что Баранчик да и другие могут подумать, что Толя затем и в лагерь явился, чтобы выколачивать пыль из тряпья. Женщина, энергично встряхивая одеяло, разговаривает с Баранчиком.
– Завтрак, Мишенька, остыл, где ты все ходишь?
– Половец обещал голландского сыра привезти. И французского вина.
– Привез бы голову Половец твой!
Баранчик исчез в темном будане, и сразу там послышались выкрики, смех.
Женщина сложила одеяла, нагрузила и Толю.
В этом будане прежде всего замечаешь вделанное в заднюю стенку окно. Обыкновенное окно На здесь, в лесу, оно кажется такой роскошью. Не костры, а две жестяные бочки с выведенными наружу трубами.
Баранчик и партизан с белой – в бинтах – головой сидят у печки.
Толя стоит, не знает, что делать с ношей.
– Клади на нары, – пропел голос сзади, и сразу все ожило. Толе показалось, что маятник ходиков только теперь размахнулся и затакал. И сразу партизан в бинтах из страшного сделался смешным. Из-под повязки торчит рыжий клок волос, нос – толстый, посапывающий, а глаз, не закрытый повязкой, – веселый.
– Паша, – прокричал Баранчик, – когда Лысого бинтами обматывали, там голова была? Или не заметили?
Из-под бинтов отозвалось:
– Поищи у себя под шляпой.
– Менш! – захохотал Баранчик.
На дворе нетерпеливый голос:
– Где же он?
Надя. Толя заспешил из будана.
– Как мои маленькие? Ты давно был в гражданском лесу?
Толя старается убедить тревожные глаза женщины, что в гражданском лагере не опасно. Надя напряженно слушает, но не Толю, а недалекую стрельбу.
… И вот появились оттуда, из боя. Не слезая с лошадей, разведчики раздаривают улыбки, новости. Оказывается, окончилось все удачно. Немцы и бобики возвращались из горящей деревни, тут их и встретили. Полицаи рванули в обход засады, по болоту. И немцев своих бросили. Только начальник полиции с немцами остался. Его подстрелили, живьем взяли.
Партизаны затопляют лагерь, лес наполняется голосами, смехом, как гулкий просторный дом, в который воротились хозяева.
Постепенно скапливаются у штаба – будана, который чуть поменьше и поаккуратней остальных. Сюда привезут начальника полиции.
На выбоинах телегу встряхивает, человек в зеленом мундире, напряженно приподнимаясь, стонет громко и протяжно. Глаза его будто забегают вперед, испуганно ищут что-то и не находят. Ни на одном лице не могут задержаться. Штанина разодрана, волосатая нога дрожит крупной дрожью. Чуть ниже колена – кровавое пятно. Подумалось вдруг: человек, который лежит на возу и смотрит на партизан, сегодня утром, поднявшись с постели, считал, что начался обыкновенный день. Умывался, сидел за столом, шел по деревне – уверенный, сердитый. Как же – начальник полиции! А потом вел своих бобиков в Зубаревку, из окон на него смотрели с ненавистью и страхом. И не думалось ему, что в какой-то миг, но сегодня, именно сегодня, все вдруг исчезнет и останется только он и вот эти люди, которые сейчас рассматривают его, – партизаны. Вся та жестокая, свирепая сила, которой он служил, ничего не значит теперь. Значение имеет лишь то, о чем он старался не думать, с чем отвык считаться: как на него смотрят люди, которым он был свой (когда-то был). С отчаянной настойчивостью липнет он глазами к жестоко-веселым лицам, спрашивает:
– Вы меня убьете?
Толю тронули за плечо. Застенчиков! Настоящий партизан: винтовка, зеленая сумка от противогаза и еще одна – из кирзового голенища. С трофеями вернулся из боя. Правда, по обыкновению, чем-то недоволен, белый до прозрачности нос его морщится. Толя обрадовался, что встретил знакомого, что может подробнее разузнать о засаде.
– Было, – протянул Застенчиков. – Надо идти пожрать, а то посуду расхватают.
– А это кто? – прошептал Толя, когда к подводе приблизился человек в кожанке с каракулевым воротником. Толя уже видел его – в седле. Мягколицый, глаза светло-голубые. Внешность человека очень добродушного.
– Колесов, командир.
Нет, Толя не был разочарован. Он мигом увидел в полном добродушном человеке то, что необходимо командиру партизанского отряда: спокойную отвагу, твердость. И уже во все глаза смотрел на Колесова.
В будане обедают. Жирный мясной суп и тонкий ломтик гречневого хлеба.
– Это Анны Михайловны сынок?
Щека у партизана, который остановился перед Толей, синяя, посеченная порохом, на широких плечах что-то напоминающее морской бушлат, брюки широченные и, кажется, даже отглаженные. Это Зарубин. Еще когда шли, ехали из Лесной Селибы в партизаны, Толя видел этого парня и потому считает, что знаком с ним.
– Толковый у тебя братишка, – говорит Зарубин, – он на железку пошел с Васей-подрывником. Знаешь? Ну-ну. А где мой трофей? Ну и фрицы, с одеялами в бой ездиют!
– Парус, Петя, кроить будешь? – отозвался одетый во все немецкое партизан. Он щупловат, усмешка не согревает его помятое и пятнистое лицо, а, наоборот, делает еще более неласковым. – Ленты приточи к своей кепочке, а то девки за фезеушника принимают.
– Ладно тебе, Носков, – говорит Зарубин и поправляет фуражку с оторванным козырьком, которую, видимо, следует считать бескозыркой. – Обождите, – говорит «моряк», – скоро полосушку заимею. У Анны Михайловны видел – выклянчу.
«Моряк» весело глядит на Толю, а тот очень доволен, что Алексеева тельняшка понравилась партизану, наверно очень храброму.
Носков выловил из котелка кусок мяса, долго жевал его, потом выплюнул в костер. Принялся намазывать на хлеб масло из оранжевой трофейной баночки.
– И когда уже волов этих доедят лагерные придурки? Кожемит. Постарались на свою голову. Пусть бы жрали немцы, скорее бы подохли.
– Соскучился по поросятнике? – спросили у Носкова. – А баранинки из-под дуги не хотел?
– А что! – Носков посмотрел в сторону соседа, такого же щуплого, как сам он, и тоже в немецкой шинели. – Правда, Серега? Вернули дядькам сотенку коров, могли бы и отблагодарить. Как в сорок втором, помнишь? Колхозное еще было. Надо сапоги смазать, отполосовал ремень от хряка и – пожалуйста.
Веснушчатый, рыжеватый партизан сцеживает из котелка в ложку суп и молчит. А Носков не унимается:
– Вот Серега Коренной потрудится, подумает и скажет самую правду.
Коренной поднял глаза, сощуренные, как от головной боли. Попросил:
– Отстань, Николай, не помню я такого сала. До чего же ты мастак…
Не досказал и пошел мыть котелок.
– Знаешь, дружба, – подошел к Толе «моряк», – тебе бы дровишек порасстараться. Ребятки, знаешь, устали, услужи! Где? Ну, посмотри там.
Зарубин поморщился и махнул рукой куда-то в угол будана. Весело рассмеялся наблюдавший за ним партизан, самый пожилой из всех, но очень подвижный, легкий. Его все окликают: «Дед» или «Бобок».
– Ай да «моряк», он еще не знает, на каком свете дровишки те! – говорит дед Бобок. – Петя наш такой: лучше кашки не доложь – на работу не тревожь.
А Толе пояснил:
– По дорожке. Штабеля там.
– Под большой сосной, знаю, – радостно откликнулся Толя. Старик ему сразу понравился, хотя в нем нет ничего партизанского, обыкновенный деревенский дядька, даже нос «бульбочкой».
Вернувшись с двумя плахами, Толя увидел мать.
– Мы сынка вашего, Анна Михайловна, в наряд вне очереди, – весело сообщил, «моряк».
– Что ж, – улыбнулась мать, – пусть привыкает.
Интересно, к чему должен; Толя привыкать? Дрова таскать?
– Вот и Серега Коренной, был тогда. – Голос Носкова. Голос этот совсем не громкий, даже сиплый, но какой-то очень требовательный, настойчивый, и его обязательно услышишь. – Помнишь, Сергей? Кругом немцы, зажали, одним словом, кончаем воевать. А командир отряда сел на автомат: я уже не я… Кадровики наши, Сырокваш да Петровский, вывели…
Разванюша не выдержал, хохотнул.
Сергей Коренной поморщился, пробормотал недовольно:
– Какой ты, Носков, охотник болтать почем зря! – И тут же, распалившись, заговорил громко в сторону Разванюши. Даже приподнялся. – Что бы там ни было, а Колесов с сорок первого в партизанах. Кое-кому надо еще походить да походить, а уже потом хихикать. – В упор глядя на Разванюшу, с растяжкой закончил: – Не прикидывал два года, чья возьмет.
Впервые Толя глядел на партизана с опаской, как на чужого. А Разванюша – хоть бы что! Спрятался за улыбочку. Краснолицый Комлев, тяжелый, как намокший дуб, загудел:
– Один послал в полицию, другие будут до смерти попрекать. И до войны вот так: сегодня ты хороший, а завтра уже виноват, не успеваешь голову поворачивать – туда, сюда…
– Ага, во-от что! – Сергей Коренной даже побледнел. – Слышали мы эти разговорчики. – И закончил, обжигающим шепотом: – Если воевать, если принимать, так все, а не так: это – готов, то – не хочу. Видел я таких и в первые дни. А из кого же понаделали власовцев да бобиков?
Комлев тяжело поднялся, но тут же снова сел.
– Вот так – и сиди! – сказал Сергей Коренной и от волнения тоже сел. А Разванюша улыбается. Наступая на костер, пробрался в угол, взял гармошку. Стал искать что-то на ладах. Долго не мог найти.
Прижимая полы длинной кавалерийской шинели, прошел командир взвода Вашкевич. Его место на нарах выделяется: попона вместо одеяла, седло вместо подушки.
Поискал кого-то глазами, спросил:
– Лошадь поена? – Сердитая нотка дернулась в голосе командира. – По-моему, нет.
Отозвался Застенчиков:
– Меня на пост послали.
«Моряк» зачем-то взялся ворошить разгоревшиеся дрова – сноп искр радостно взлетел вверх. Искры жадно налипают на сажу, расползаются, На Зарубина шумнули:
– Петя, пожару наделаешь.
– А, постой!.. – поморщился Зарубин. – Ну, ладно, не пошел на дело: нога там, животик… Так и на реку не съездил. Стрельбы, может, испугался?
Суетливый дед Бобок сыпнул скороговоркой:
– Попал в хорошее место – воюй! – И засмеялся одними глазами, хитрыми, стариковскими. – Берка, сапожник наш, сына своего мне ругал, – стал пояснять Бобок. – Попал сын на бронепоезд, так нет, проштрафился, его в пехоту. И убили. Бедный Берка, как вспомнит, сразу: «Попал в хорошее место, так воюй, зараза!»
Толя вышел из будана. В лесу уже ночь. Деревья как-то сдвинулись, беспокойнее шумят вершины. Звезды расползаются по черному небу, зажигаясь одна от другой, как искры на саже. Мерцают огни в соседних буданах. Вернулся в свой. Тут уже укладываются спать. Оружие ставят к задней стенке или кладут возле себя.
Кто-то поинтересовался:
– Где Зарубин?
Старик Бобок хмыкнул:
– Будет тебе Петя сидеть, когда там полицая кончают.
– Ложись, – вполголоса говорит мать, не подозревая, наверное, как интересно сегодня для ее сына и это – ложиться спать. Первая ночь в партизанах!
Тепло, уютно под мягким ватным одеялом, которое предусмотрительная мама все же прихватила из дому. Тут, на морозе, оно точно короче сделалось, но ничего, греет. Только лучше бы укрыться трофейным или шинелью, а поверх – попоной, как командир взвода.
На ночь тут не раздеваются, только расслабляют ремни на себе. Толя тоже лишь пальто да сапоги снял. Ушанку пришлось оставить на голове: зеленая стенка пропускает морозный ветерок.
… Пришел Зарубин.
– Что, Петя? – спросил Бобок. – Ножичком? Сколько ты уже нанизал на него?
– Порядок, – ответил Зарубин и, не спрашивая, взял из чьих-то губ цигарку. Толя со сладким ужасом и с уважением смотрел на человека, который только что убил. Но лицо Зарубина все такое же: простовато-грубое и, пожалуй, добродушное. Только глаза – потемневшие, да синяя контуженая щека чуть дергается. И Пуговицына, говорят, – он…
Все меньше людей топчется в проходе, светлее стало. И разговор сделался общий.
– Вот Головчене лафа: бороду на живот – и тепло.
– Ты, Головченя, только не задумывайся. – Это Бобок весело скрипит стариковским голосом. – У одного деда спросили: «Когда спишь, куда ты бороду ложишь, под одеяло или поверх?» Задумался дед. Пока не думал, не мешала. А тут: и так и этак попробует – все не то. Хоть плачь. Обрезать пришлось.
На дворе – девичий голос. И мужской. Будто перебрасывают смычок с тонкой струны на басовую.
– Эй, Зарубин, Катю перехватил Царский. Слышишь? Давай наперерез.
– Сама отобьется, – радостно говорит Зарубин. – Во-о, слушай!
Заученно грубые, мужские слова. Но звучат они на первой струне – голос нежный, девичий.
– Во-о! Катюша скажет – на уши не натянешь.
Отбросив постилку, которой завешена дверь, вбежало беловолосое существо в грубом черном джемпере. Самое ненужное на этой особе – короткая юбочка поверх мужских штанов. Кажется, Толя уже видел эту Катю возле кухни.
– Можно?.. Ой, я уже вошла!
На какое-то время глаза девушки прикипели к яркому пламени, круглое лицо ее сделалось по-детски бездумным. Но тотчас изломилось в улыбке – смелой, грубоватой.
– Живы-здоровы?
– Ты не меня? – сиплый голос Носкова. – Кто со мною за малиною пойдет, покажу, где сама сладкая растет… Да, Катюша?
– Нашелся кавалер, правда, Катюша? – «Моряк» попытался усадить девушку рядом с собой. Но она, черт бы ее побрал, Толей заинтересовалась.
– Откуда такой мальчик?
Толя быстренько закрыл глаза. Спит. Чувствовал, что краснеет. Во сне краснеет – глупо.
– Красивый мальчик.
Она уже рядом. Слышно – оперлась руками на нары, дышит Толе в лицо.
– Спит, – весёлый голосок. – Ой, это ваш, Анна Михайловна!
Толя открыл глаза и совсем близко увидел бездумно-смелые, смеющиеся глаза.
– Не спит, – насмешливо сказала девушка и поднялась с нар.
Только она ушла, как влетело что-то большое и стремительное. Эту встретили шумно, но и ласково: «Марфа!», «Марфушка!» А она, огромная от мечущегося за спиной крыла тени, отвечала сразу всем, улыбалась сразу всем, смотрела сразу на всех.
– Здравствуйте, Анна Михайловна. Ну, как они без меня, слушаются? А-а, Молокович, любовь моя. Ну, как ручка? Хорошо, что мы не поспешили укоротить ее.
– Марфа Петровна это умеет, – сказал Молокович, молодой партизан с лицом, вытянутым как бы от постоянного удивления. – Навалится и держит.
Прозвучало это почти обиженно.
– И что за хлопцы пошли: чуть прижмешь – убегают! – Женщина громко смеется. Глаза на широком, очень даже просторном лице теснятся к переносице. Но бурная ласка, излучаемая этим лицом, глазами, делает женщину почти привлекательной.
– И кто только меня, такую большую и плохую, замуж возьмет? Одна надежда на Ефимова, на Фомушку милого. Где он ходит? Не знаете?
При упоминании о каком-то Фомушке весь будан радостно загудел.
Ушла женщина так же неожиданно, как и ворвалась. Засыпая, Толя слышал голос командира взвода:
– За сажей присматривайте, дневальные. Задремал, но, как ему показалось, тут же открыл глаза, вздрогнув от какого-то крика. Нары завалены людьми. Все, кроме дневального Зарубина, спят. Странно: «моряк» будто и не слышит крика ребенка. Пронзительного, резкого. Фу, да это же филин!
Толя подтянул одеяло к подбородку. Самое уютное, теплое – то, что ты нагрел собственным телом. Чтобы не разбудить мать, Толя старается не шевелиться… Посмотрел на нее и тотчас отвел глаза, боясь, что она проснется от взгляда. Но напряженно заломленные брови уже вздрогнули, глаза открылись – в них испуг, вопрос:
– Что ты? Спи.
«Моряк» посматривает на часы, вверх смотрит. Но шест в руки не берет, хотя искры жадно растекаются по саже. Сидит и трет синюю щеку. Будто забывая, что люди спят, промычит слова песни, тут же, спохватившись, послушает треск костров, потом опять тянет:
– «Я люблю… про прежнее… былое… в поздний вечер… близким… рассказать… далеко… за снежною Сибирью…»
– Ты бы, Петенька, гармонику взял, – посоветовал с лютой ласковостью сонный голос.
А кто-то, видно не спавший еще, охотно подключился:
– Была у волка одна песня, и ту «моряк» украл.
Опять проснулся Толя и какай-то миг непонимающе глядел на пламя вверху. Будан словно раздался вширь, распираемый светом.
Над головой плещется, несется стремительный, красный поток, а мысли после сна такие спокойные. И кажется, что сон все еще длится.
– Чемодан бери, быстрее ты! Где сапоги, шапка? – сердитый голос матери.
Меж костров испуганно-весело мечутся фигуры людей, а вверху трещит пламя. Черт, будан горит!.. Толя подскочил.
И вот партизаны любуются столбом огня, лижущим вершины елей и сосен. Рой искр радостно несется в небо, просеиваясь сквозь сучья деревьев. Гудит пламя. И – стреляет.
– Кто патроны оставил?
– Это когда будан крыли, порастеряли.
– Отходи дальше: мину забыли!
И тут же – глухой взрыв: красный столб округлился, взметнулся вверх.
Погорельцы растерянно, но с интересом глядят, как их хоромы заревом взлетают в небо. А для соседей – настоящий праздник.
– В третьем взводе дезинфекция.
– Пионерский костер. Дневальные у Вашкевича любят, чтобы тепло и светло!
Высокая фигура в огненно поблескивающей черной тужурке гремит на весь лес:
– Хоть выгреемса-а!
Это Царский – командир первого взвода. У него выговор чисто полешуцкий, но лицо не то грузина, не то молдаванина. Возле него самые языкастые. Тут и Баранчик. Этот просто пляшет, на лице самые невероятные гримасы.
Досыпать ушли к соседям. Завалили все нары, проходы. Пробираясь на свое место, остролицый командир второго взвода Железня сказал, хмуро улыбаясь:
– У нас в деревне говорили: «Пустить постояльца – все равно что положить борону посреди хаты».