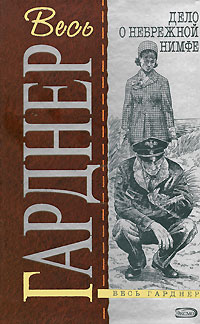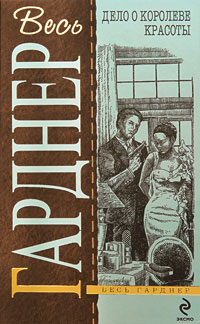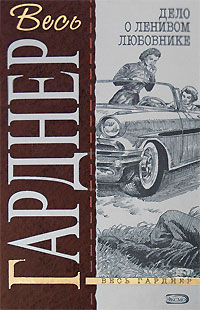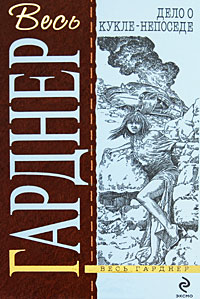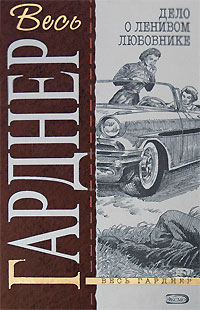Секционный зал номер четыре Кинг Стивен

Какое-то время очень темно, как долго – не знаю, но думаю, я по-прежнему без сознания. Потом, очень медленно, соображаю, что в бессознательном состоянии люди не ощущают движения во тьме, сопровождаемого слабым ритмичным звуком, издавать который может только вращающееся поскрипывающее колесо. И я чувствую прикосновения, от макушки до пяток, а в нос бьет запах резины или винила. Я в сознании, здесь что-то другое… но что? Ощущения слишком уж конкретные, я определенно не сплю.
Тогда что со мной?
Кто я?
Что вообще происходит?
Скрип колеса прекращается вместе с движением. Материал с резиновым запахом, в который я упакован, потрескивает.
– Куда, они говорят, его? – чей-то голос.
Пауза.
– В четвертый, думаю. Да, в четвертый.
Мы вновь начинаем двигаться, но медленнее. Я слышу шуршание обуви по полу. Подошвы мягкие, возможно, это кроссовки. Обладатели голосов, они же владельцы кроссовок, вновь останавливают меня. Глухой стук, потом едва слышный свист. По-моему, открылась дверь с пневматическим доводчиком.
«Что здесь происходит?» Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я чувствую их, и язык, лежащий на дне рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить.
Штуковина, на которой я лежу, катится вновь. Движущаяся кровать? Да. Каталка, другими словами. Мне уже приходилось иметь с ними дело, давным-давно, во время гребаной азиатской авантюры Линдона Джонсона. До меня доходит, что я в больнице, что-то плохое случилось со мной, что-то вроде взрыва, едва не отправившего меня к праотцам двадцать три года назад, и меня будут оперировать. Логичная вроде бы мысль, да только у меня ничего не болит. Если не считать одного пустячка – я до смерти напуган, в остальном со мной полный порядок. Опять же, если санитары везут меня в операционную, почему я ничего не вижу? Почему не могу говорить?
Третий голос: «Сюда, ребята».
Мою каталку разворачивают в новом направлении, а в голосе бьется вопрос: «В какую я угодил передрягу?»
«Разве это не зависит от того, кто ты?» – спрашиваю я себя, и тут выясняется, что последнее я как раз и знаю. Я – Говард Коттрелл. Биржевой брокер, прозванный коллегами Говардом Завоевателем.
Второй голос (аккурат над моей головой): «Вы сегодня просто красавица, док».
Четвертый голос (женский, очень холодный, просто ледяной): «Твоя оценка для меня очень важна, Расти. Не могли бы вы поторопиться? Я обещала няне, что вернусь к семи вечера. Она должна обедать с родителями».
Вернуться к семи, вернуться к семи. Еще вторая половина дня, может, и ранний вечер, но здесь темно, темень, что твоя шляпа, темно, как в заднице у сурка, темно, как в Персии в полночь, так что же происходит? Где я был? Что делал? Почему не сидел на телефонах?
«Потому что сегодня суббота, – шепчет внутренний голос. – Ты был… был…»
БАЦ. Короткий резкий удар. Звук, который мне нравится. Звук, ради которого я в некотором смысле живу. Звук… чего? Удара клюшки для гольфа по мячу, который лежит на метке[1]. Я стою, наблюдая, как он улетает в синеву…
Меня хватают за плечи и бедра, поднимают. От неожиданности я пытаюсь закричать. Ни звука не срывается с губ… ну, может, один тоненький писк, гораздо тише скрипа колеса. Может, не срывался и он. Может, мне прислышалось.
Меня несут по воздуху в коконе тьмы… «Эй, только не бросайте, у меня больная спина!» – пытаюсь сказать я, но вновь ни губы, ни зубы не двигаются; язык лежит на дне рта, крот, возможно, не просто оглушенный, а мертвый, и тут у меня возникает ужасная мысль, подталкивающая к пучине паники: если они положат меня не так, а язык соскользнет назад и перекроет трахею? Я же не смогу дышать! Именно это имеется в виду, когда говорят, что «кто-то проглотил язык», не так ли?
Второй голос (Расти): «Этот вам понравится, док, он выглядит, как Майкл Болтон»[2].
Женщина-врач: «Это кто?»
Третий голос – по звуку молодой человек, почти подросток: «Белый певец, который хочет быть черным. Не думаю, что это он».
Мужчины смеются, женский голос присоединяется к ним (после короткой паузы), а меня кладут, по ощущениям, на набитый ворсом или ватой стол, Расти отпускает какую-то новую шутку, у него их, похоже, неиссякаемый запас. Я ее не воспринимаю, потому что в этот момент меня охватывает безотчетный ужас. Я не смогу дышать, если язык перекроет мне трахею, эта мысль только что буравила мне мозг, но теперь ей на смену пришла другая: а что, если я уже не дышу?
Что, если умер? Что, если это и есть смерть?
Все сходится. До мельчайших подробностей. Темнота. Запах резины. Это сегодня я Говард Завоеватель, уникальный биржевой брокер, звезда «Загородного муниципального клуба Дерри», завсегдатай, как говорят на многих полях для гольфа, разбросанных по всему миру, Девятнадцатой лунки[3], но в 1971 году я состоял в санитарной команде в дельте Меконга – испуганный мальчишка, часто просыпающийся с заплаканными глазами, потому что ему снилась оставшаяся дома собака. И я сразу понимаю, откуда мне известны эти ощущения, этот запах.