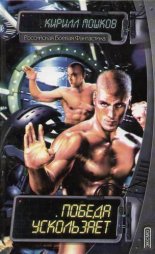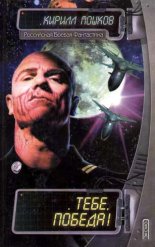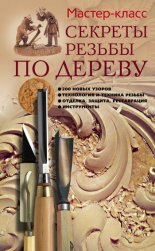Шанс? Параллельный переход Кононюк Василий
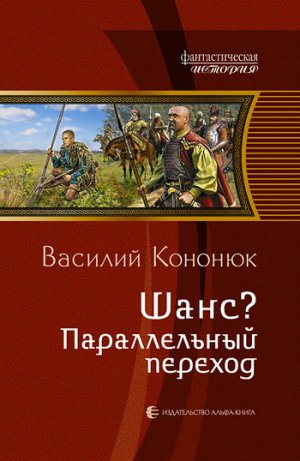
Читать бесплатно другие книги:
Эта книга о похоронных обрядах, о вековых устоях, которые чтили наши предки, переходя в мир иной.В X...
Он просто человек – тот, кто много лет назад низринул всемогущего Хозяина. Он не просил возвращать е...
Журналист Йонас Лорд, когда-то написавший нашумевшую книгу "Жизнь против Тьмы", снова встречается с ...
Тая мечтала встретить Новый год вместе со своим парнем. Она ждала приглашения до последнего, но в пр...
Как порой бывает трудно подобрать небанальное поздравление ко дню рождения, юбилею, да к любому семе...
Изделия из древесины и материалов, имитирующих ее текстуру, привычным образом окружают нас в повседн...