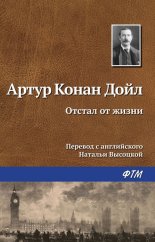69 Аксенов Василий

Сплю на спальном устройстве под названием «кресло-кровать» в узком пространстве между письменной доской и кубиками для книг, полкой проигрывателя и подвесками с декоративной керамикой. Приближается конец шестидесятых, вся комната оборудована в соответствующем стиле. Все, в общем, красиво своей функциональной красотой, кроме самого спящего: опухшее, лет на тридцать старше меня самого, разносящее вокруг алкогольный смрад тело. К такому даже и «современная девушка» в постель не полезет.
Вот и во сне, если это можно назвать сном, происходит безобразная раскачка. Едва лишь приближаюсь к каким-то эмпиреям, протягиваю руку, чтобы приотворить что-то, ведущее куда-то, в какое-то молодое, россиниевское, что ли, моцартианское или, как его там, пушкинианское, ну в этом роде, как тут же, резко качнувшись, спотыкаюсь о какие-то ящики немытой стеклотары, вхожу в мучительный вираж, с тошнотой выныриваю, чтобы снова ухнуть в мусорный отстойник. Музыка тут никогда не пробьется сквозь лабиринты дряни, обдерет себе бока, обвалится кровоточащей шкурой. Сквозь все это торчащее, выпирающее, свисающее проходит только телефонный звонок из ЦК КПБСС. Вот именно, из отдела культуры, поганее не найдешь в городе лавки. Так и есть, от того секретаря, члена Политбюро, что ли, не иначе, звонят помощники. Трубка прямо над башкой, такой дизайн.
«Эй, как вас там! – говорят помощнички. – Вы, что ли?»
«Ну я, кому тут еще быть по ночам?»
«По ночам, – усмехается цэгэбэшная губеха. – Сейчас одиннадцать утра, дорогой товарищ! Как себя чувствуете?»
Кажись, что-то важное, о чем надысь просил в заявлении. Тут начинает раздирать неудержимый кашель. На другом конце провода с интересом ждут. Поясняю: «Бронхит курильщика». Там с пониманием: «М-да, курить надо тоже бросать». И продолжают: «Послушайте, Как-вас-по-батюшке, вы, кажется, писали нашему геншефу, ну этому, который еще не на пенсии, просили аудиенции по поводу недоношенного произведения, так, что ли?»
Экое головокружительное смещение планов, летучесть стилей! Без алкоголя все-таки не перескочишь туда и обратно; м-дас, тудас и обратное!
«Флегон Афонович вас примет в пятницу, в одиннадцать, подчеркиваем, утра. Постарайтесь на этот раз прийти без фингала под глазом».
Хочется сказать: «Падлы вы позорные». Вместо этого произношу: «Нет слов, чтобы выразить благодарность Флегону Афоновичу». Слышу щелчок, мое выражение записано как неуместная ирония в адрес лексикона партии.
Вот хорошо, до этой цэковской пятницы еще два дня. Успею съездить в Ленинград, то бишь Санкт-Петербург, по поводу полузадушенного сценария. К вечеру, налакавшись всякой дряни по творческим буфетам, загружаюсь в «Красную (если еще не переименовали) стрелу». Кто сегодня тут дежурит в освежителе с коньяками да свинушками-отбивнушками? Да ведь любезнейшая же Валентина Архиповна, русский человек высшего класса.
«Стася пришел, – говорит она, немного, всего лишь на две буквы, путая мое имя. – Смотри, подсобница, опять у нас Стася!»
Подсобница смотрит так, как будто знает обо мне больше, чем Валентина Архиповна. Возможно, возможно, однако и доказательств все-таки нет никаких, не прицепитесь. «Давайте я вам пуговицу пришью к вашей кожаной куртке». Перед нами русская женщина второго класса, в том смысле, что прямо следующая за Валентиной Архиповной.
Приткнувшись в углу абсолютно минимального пространства, потребляю все, что дают. Пиджак плывет над головами, как наш невидимый самолет «Стелс». О, эти кожаные изделия, почему вам выпало отмечать своим размножением исторические вехи России? Сначала большевички, свердловчане, троцкоградцы, киргизоподобные фрунзенята и котовичи-ворошилы явились огромной паровозной пятой, чтобы строить новый мир своих кожаных утопий. Потом в сырую историческую погоду возник советский битник со слипшимися фигами в карманах кожаных спинжаков. Ну а вслед новое уже взыграло жеребцовское поколение киоскеров, рэкетиров, бойцов охраны в своей усовершенствованной коже с потайными кулуарами. Эх, родина, степная кобылица, скачи побыстрее, а то тут обдерут, поди, уже на диваны!
Одно за другим появляется в коньячном закутке знакомое лицо всесоюзного сценариста. Вы советской власти не знаете, ребята, талдычит всеобщий попутчик. Она вам фрондерствовать не даст, пока жива, каждого прижопит! Позвольте, позвольте, изумляются наследники ифлийцев, как это «пока жива»? Она ведь у нас всегда будет жива, не так ли? Попутчик, перепугавшись, кричит вдоль спящего коридора: «Вечно! Вечно!» Выпить, забыть весь этот позор.
Утром прибываем туда, куда ехали. Какая же это «колыбель», если ничего вокруг не узнать? Да жили ли тут когда-нибудь Дягилев с Бенуа? Где тут Медный Всадник, товарищи, где благородных девиц дортуарное общежитие, где Нева-сестрица, «Ленфильм»-батюшка, где вообще-то это, ну, главою-то непокорною выше, вот именно, где оно?
Оказывается, по закону «лиминальной драмы» прибыли не туда, куда ехали, а в Ригу, не в фигуральном смысле, а в столицу партийно-национального балтийского государства. Ире папире, говорит вокзальная стража на своем языке, платите за въезд в республику красных батальонцев! Платить надо в латах, руссише свинтус, похохатывают они. Да откуда у меня латы? Вот кожанка, может, сойдет за латы, геноссен?
Текут под шведским ветром волнистые флаги. К новым успехам в торговле, финансах, в путешествиях и в любви! Как молод я тут, дрожащий мужчина, молод и недурен, прямо хоть в женихи, если помыть и облачить в новую кожу. Кирпичом забиваю в иностранный телефон московскую монету. Работает, сволочь, несмотря на этническую дезынтыграцыю. У телефона Эвридика Ростенковска, дитя восемнадцати (отнюдь не сорока восьми) лет. Катался с ней на лыжах в прошлом февральском сезоне. Бросал ей в снегу палки. Она ловила на лету бамбуковые намеки.
«У меня большой прогресс! – хвалится дитя. – Заезжай, не пожалеешь!» Мне нравится, когда дети говорят на «ты» с подержанными мужчинами тридцати или шестидесяти лет. Мчусь. Воображаю Эвридику почему-то в царстве ковров. Блаженство Гаруна! Блаженство Сауда! Голливуду и не снились такие блаженства! Она открывает. И впрямь, большие визуально-пальпальные изменения в лучшую сторону. Ну, Эвридика, сознавайся, за какой шнурок тянуть, как ты сыграешь Коломбину? Дитя проявляет филологическую эрудицию: «Совлекайте, совлекайте с древних идолов одежды!» Нет, это ты, юная тварь, и есть древнее идолище любви! Одну минуточку, господин Как-вас-по-батюшке, сначала познакомьтесь с моим папенькой, сенатором от польского меньшинства, и с моей маменькой, урожденной Пицхук, от основной массы, лишенной права голоса. Они будут счастливы.
Входят двое, не поймешь, где он, где она, потому что оба в джинсовых костюмах. Мы и в самом деле счастливы, много наслышаны. Как-то вы не так нам представлялись со слов дочки. Помоложе, что ли? Да нет, постарше. Между прочим, нас ведь когда-то знакомил господин Будетлянинов: это имя вам что-нибудь говорит? Ну да, Юлик, он у нас освобожденным секретарем в почтовом ящике. Беседуем не без интереса об общих знакомых. Увы, никак не могу проследить женские и мужские окончания глаголов.
Тем временем головокружительная Эвридика вместе с подоспевшими кузинами Фирой и Лирой накрывают на стол. Она любит дом, наша девочка, очень любит домашние заботы. Знает, где что расставить, где кнели, где сельдь, где форшмак, где заливное. В прихожей беспрерывные звонки, то телефонные, то дверные. У родителей то и дело поднимаются уши или округляются глаза. Обещал приехать даже дядя Дэйв. Вы знаете, наш Дэйв – это типичная American success story. To есть как это прикажете понимать? Ну в самом начале перестройки. Перестройки, вы сказали? Ну вы же помните, что началось, когда Берия взял власть и разогнал большевиков. В общем, Дэйв тогда решился и «проголосовал ногами», ну, в общем, как тогда говорили, «закинул чепчик за бугор», ах, как русский язык все-таки богат, а здесь ты не можешь на нем заговорить, чтобы тебе не плюнули в лицо, словом, Дэйв баснословно, по-русски говоря, разбогател и вот приехал в гости, все еще недурен собой, ну не нужно так, перестань, просто я хочу сказать, что он ничего не жалеет для своей племянницы.
Входит серебряный Дэйв Бершадский, окруженный впечатляющим по разноликости кагалом родственников, мощная грудь распирает костюменцию «Хьюго Босс». Эвридика висит у него на плече. Испорченное воображение – и, очевидно, не у меня одного – рисует нечто бордельное. «Хау ар ю? – говорит он мне и протягивает свою железную лопату. – Когда поженитесь, приезжайте с Эвридикой в Брук-лайн. Я вам куплю книжный магазин. Здесь вам нечего делать с вашим душой и с вашей талантой».
Аплодисменты. Эвридика в томном угаре проводит пятью пальцами – чуть не сказал «пятерней» – от плеча через грудь к средоточию. Все хором начинают обсуждать вопрос, где посадить молодых. В этот момент своей далекой молодости я вижу за окном ледяной перекресток Независимости, две пятнистые фигуры «земе-сурдис», даму-хамелеона с хамелеоном-собакой под дрейфующим в тучах рижским солнцем и большое окно бывшей парикмахерской, а нынче не поймешь чего по новому правописанию, где все-таки стригут и «броют» трех русско-еврейских нерях.
«Папочка-с-мамочкой, прошу прощения, но мне всеш-таки надо постричься-побриться по такому поводу счастливейшей помолвки».
Дядя Дэйв провожает меня до дверей, накидывает на плечи свою дубленку, цапает за левое запястье, срывает монгольские часы «Победа». Что ты такое говно носишь, я тебе золотой «Роллекс» закажу!
Ухма, вываливаюсь на улицу. Все-таки это нечто! Эти вот вываливания на улицу от всяких там Ростенковских! Ради одного этого стоит жить и в тридцать лет, и тридцать лет спустя. Под порывами ветра иной раз подумаешь: может быть, и душа так говорит, вываливаясь из душного тела, – ухма!
Во всех шестнадцати окнах квартиры стоят родственники и с умилением смотрят, как жених переходит улицу по направлению к цирюльне. Когда побритый, постриженный и освеженный самым ужасным одеколоном Северной Европы, который еще недавно производился в Кемерово под названием «Таежный», я возвращаюсь на улицу, все те же родственники стоят все в тех же окнах и смотрят на перекресток все с тем же умилением.
Приближается контрапункт, и ты, мой въедливый читатель, какую бы стекляшечку в глаз себе ни ввинтил, все равно не найдешь тут отклонения от классических ладов драмы. Просто подходит случайный экипаж, такси, и ты, мой читатель, приветливо помахав несостоявшимся родственникам, и прежде всего, конечно, дяде Дэйву, дескать, «сегодня не ждите!», хлопаешься вместе со мной на небезупречный таксистский диванчик и отправляешься из восходящей половины рассказа в его нисходящую половину.
В карманах дубленки обнаруживаются и латы, и литы, и кроны, и доллары вкупе со среднерусскими рублями. Ублажая своих родственников, дядя Дэйв, очевидно, потел, некоторые купюры приклеились к изящно отработанным внутренностям кармана, и их приходилось снимать почти клинически, как пластырь.
Возвращаюсь в Москву почему-то все-таки не из Риги, а из города-героя, трижды перекрещенного, имени Кирова, памяти Ленина, почти Ульяновска, не путать с Симбирском и Питсбургом. Отоспавшаяся за сутки, все та же меня там приветствует смена. Буфетной подсобнице преподношу подарок, тоже найденный в бруклайнской дубленке: отлично спрессованный пакет с ажурно-кружевными трусиками. Если не этого она ждала, то чего же? Вместо благодарности получаю оглушительный, а также наполовину и ослепляющий удар в правый глаз. «Женщина, безумная гордячка, мне понятен каждый твой намек!» Просыпаюсь утром с чувством горечи, ведь предстоит визит в ЦК КПБСС. Вот, казалось бы, побрился, постригся, как-то внутренне собрался, подготовился к диалогу, и вот на тебе – опять фонарь! Да меня теперь за такую иллюминацию не к Флегону Афоновичу на третий этаж, а в подвал проводят для усиленной терапии.
При мысли о партии начинаются, как всегда, безобразные волнения кишечника. Иду по перрону, соображаю: у руля ли она, не сбежала ли за ночь? В киоске под двумя названиями – «Союзпечать» и «Эльдорадо» – покупаю темные очки. Ну и ну, когда это так было в наших краях, понадобились человеку темные очки, и он их тут же покупает? А ведь людям нередко нужны темные очки для прикрытия обиженных глаз, как вон тому идущему мне навстречу пожилому дядьке с отвисшим зобом и в темных очках. Эва, да это я сам в зеркале к себе приближаюсь среди общего поголовья под бдительной дланью Ильича! Безобразно постаревший и в темных очках иду на прием к секретарю политбюрократии!
В приемной могущественного человека сидят три его помощника с дюжиной телефонов и ребенок лет восьми перед компьютером третьего поколения. Все четверо окидывают вошедшего цепкими взглядами. «Присядьте, любезнейший!» При всей нелепости происходящего большие часы над здешней башкой Ильича продолжают «идти». Здесь понимают загадку времени. Бастион истории не отвлекается на созерцание небес или роящихся птиц. Жди тут со своим бурчанием в животе!
Один из помощников подсаживается как бы по-свойски. «У вас такой вид, старик, как будто всю ночь в борделе провели. Как будто вам кто-то там в глаз дал». Улыбается, давая понять, что все уже прослежено и доложено. Из кармана у него торчит газета «Ночь» с типографскими красными галками на полях.
«Послушайте, старик, – говорю я по-приятельски этому человеку, с которым мы, кажется, когда-то выпивали у какого-то скульптора, то ли на Третьей Мещанской, то ли на Грэнд, в общем, советской власти в жопешник засаживали. – Что это у вас тут за несовершеннолетний появился за каким-то оруэлловским аппаратом?»
«Это Мальчиковский, – отвечает замаскированный под партийца „неформал“. – Взят в секретариат за выдающиеся данные. Лет через тридцать станет властителем дум России, если уже не стал таковым».
Ребенок во время этого диалога неотрывно смотрит на нас слегка отечными глазками над одутловатыми, плохо выбритыми щечками енота, подрагивают его полные белые ляжечки с красными точками. Что же в нем такого выдающегося? Ну у нас тут вычислили, что он обладает многими качествами для будущего, а ведь оно уже на дворе. Хроническое недоедание обострило его интеллект, колоссальную жажду знаний. Разбуди его среди ночи, и он сразу начнет говорить из Розанова. Нам такие нужны во времена грядущего разгрома. Это вообще наш человек, он владеет неистребимым совковизмом: никогда не наденет пиджак, но всегда его оденет, то есть на неодетый пиджак наденет что-нибудь. Отсутствие художественного чутья у него устраняет все преграды для продвижения к истине в последней инстанции, и это в те времена, когда все инстанции рушатся.
«О каких таких временах вы ведете речь, старик, когда ничто не рушится, а только прибавляет в весе?»
«О, если бы вы видели то, что видел я, старик! Если бы вы только могли окинуть взглядом эти страшные толпы, падение кумиров, старик, и тэдэ и тэпэ!»
Едва закончив фразу, он кошачьим прыжком воцаряется за своим столом, и все присутствующие, хоть и не слезали с мест, как-то по-кошачьи за своими столами воцаряются; ребенок Мальчиковский раньше всех. Главная дверь отворяется, и на пороге воцаряется не кто иной, как сам Флегон Афонович. Клянусь междуречием Невы и Даугавы, на носу у могущественного товарища царят темные очки. Итак, предстоит диалог замаскированных персон. Прошу вас, многоуважаемый, ко мне в кабинет; нам про вас все известно, но поговорить не повредит.
Мы сидим в кабинете величиною с баскетбольную площадку, смотрим друг на друга, очки в очки. Его стекла, конечно, эфэргэшного происхождения, заказаны в Четвертом управлении, на Грановского, мои родились в киоске «Эльдорадо», вчерашней «Союзпечати», среди бутылок сладкой и горькой бузы рядом с табаком из-за западной границы и сеульскими тапочками. Мои лучше.
«Вы совсем молоды, любезнейший», – мягко говорит он, вглядываясь темными окружностями, а ведь мог бы говорить, ей-ей, и пожестче. Меня вдруг посещает странное недоумение: а зачем я, собственно говоря, к нему? Ловлю себя на том, что как бы пытаюсь заглянуть к нему за стеклышки, пытаюсь и там найти фингал. «Нет-нет, – понимающе улыбается он. – У меня просто глаза от света устают. В молодости работал горновым». Все-таки не худших людей отобрала для нас партия! Однако что я все-таки хотел у него попросить-то? В Англию, что ль, чтоб пустили б, чай, аль чего ишчо? На фестиваль ли прошусь, в Спо-лето ль? А, как тут внутренне не рассмеяться горьким смехом: никуда не поедешь ведь без таких горновых гегемонов.
Он, конечно, угадывает мои мысли. «Не знаю, как вы, любезнейший, а я вот терпеть не могу Запада!» С улыбкой взирает на мою нервозность. Никак не могу со своим адреналином совладать при упоминании Запада. «Вот вы, любезнейший, наверное, иначе смотрите на этот предмет как человек нового поколения, да еще и прозападной ориентации». Делает паузу, как бы ожидая с моей стороны возражений, но, не дождавшись, продолжает: «Меня раздражает на Западе бесконечное стремление к моде. Вот, например, возглавляю я делегацию на юбилей газеты „Фольксштурмунддрангштимме“. Уступаю жене и покупаю в поездку модные остроносые штиблеты. Приезжаем в столицу этой самой „штимме“, а там в витринах уже новая мода – тупоносая обувь!» Он смеется весело, по-товарищески, показывает свою остроносую туфлю, заглядывает на мою, тупоносую, еще пуще заливается: «Ах, какой вы, оказывается, модник!» Я молчу, не соответствую, и вовсе не от отваги, не от желания сказать: «Заткнись, красная жаба! Не трожь цэкабэшными лапами Запада, нашей духовной родины!», а просто от избытка адреналина, который не дает сосредоточиться ни на одном осмысленном действии.
«Ну, а зачем письма-то писать? – с первыми нотками угрозы, с далеким пока что жарком пролетарской кузни вопрошает Флегон Афонович. – Зачем сочинять и подписывать эти, – вплетается нотка брезгливости, – „письма протеста“? Все эти Синявские-Даниэли, Гинзбурги-Галансковы, неужели не надоело?» Он нажимает кнопку и что-то неразборчиво говорит в какую-то дыру, что-то вроде «прнст-кттвннсм». Мгновенно, будто за мячом, летящим в аут, влетает ребенок Мальчиковский, шлепает перед начальством папку и так же стремительно улетает, не забыв, правда, скользнуть по мне злорадным и торжествующим взглядом. Ябеда младших классов.
Могущественный товарищ брезгливо, одним пальцем, припоминает всякие там «письма протеста». «Что вы хотели сказать этими письмами, любезнейший?» Две пары темных, как абхазская ночь, очков вместо того, чтобы лежать рядом на прилавке, теперь гипнотизируют друг дружку. Неожиданно для себя самого нахожу правильный ответ: «Там все сказано, что я хотел сказать». Он, кажется, обижен. «Вот так, значит? Значит, больше ничего и не хотели сказать? Никакого подтекста, никаких айсбергов?»
Не без усилия, как будто за пятнадцать минут разговора едва ли не впал в дряхлость, он поднимается и идет к своему нерушимому, как Мавзолей, столу секретаря ЦК и члена ПБ. Достает оттуда большую палку финского сервелата, блок «Мальборо», банку растворимого кофе. Подмигивая мне из-за темного стеклышка, складывает это добро в объемистый и уже явно не пустой портфель: «Ну что ж, пойдемте, любезнейший, аудиенция окончена».
Мы выходим в приемную. На нас никто не обращает внимания. Оказывается, уже вся подсобка обзавелась компьютерами. На экранах мелькают диаграммы со значками валют: гусеница доллара, мини-кобра английского фунта, антенка иены. Кто-то бубнит в трубку: «Берем наликом, переключаем валиком. Партии меньше сорока ящиков не предлагайте. „Кразы“ с прицепами можно ставить на торги. Ваши расчеты по дизельке смешны, месье…» Между тем ребенок Мальчиковский, как бы уже заматерев, как бы уже к сороковке, как бы в ждановском френче, как бы вдохновенничает, выхватывает из-за уха гусиное перо, разбрызгивая капли, строчит на листах с грифом «совершенно секретно».
Спускаемся в нижний этаж, где стража, зевая над «плейбоями» и «андреями», провожает нас равнодушными, если не оскорбительными взглядами. Перед подъездом стоит бронированный «ЗиЛ» Флегона Афоновича. Вокруг в характерных позах покуривают на корточках полдюжины чеченцев. Мы проходим мимо.
«Как хорошо на улице, – вздыхает секретарь. – Думаете, мне легко сидеть в этом здании? Чувствовать постоянно, что наша борьба обречена, что это обязательно произойдет, если уже не произошло. Нет ничего страшнее, знаете ли, этих дистопических кошмаров с видом антисоветской толпы, осадившей Центральный комитет. Все эти отщепенцы, тысячи, миллионы отщепенцев! Видеть себя бредущим к так называемому «Метро Лубянка», нести остатки последней «кремлевки»… ей-ей, врагу не пожелаешь таких сновидений. Вам куда сейчас?»
За время аудиенции погода над площадями коренным образом изменилась. Стеклярус позднего социализма сменился каруселями влажного ветра, раскручивающего поверху сонмы советского воронья, а понизу самумы рыночного мусора из банановых ошметков, целлофановых клочков, мятых алюминиевых банок и одноразовых сморкалок. Между этими двумя каруселями шла и третья, в которой крутились башки людей, в том числе и моя. Превращения будущего в прошлое были так стремительны, настоящее столь невесомо, что казалось, будто обратные революции, то есть круговые потоки вспять, зависят от одного лишь ветра. «Ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, не боишься никого, только Бога одного!» Это уже совсем издалека, от старой бабушки, чья плоть давно истлела на Арском поле, но чья суть вдруг возникает из туч при мгновенном воспоминании.
Старик, идущий рядом со мной, вдруг напомнил о своем существовании. «Все, что угодно, готов отдать: власть, величие, социальные задачи, оставьте мне только одно: нашу философию! Только в отрицании всех и всяческих форм идеализма – моя незыблемая крепость! В мире нет ничего, кроме материи, и напрасно не ищите!» С этими словами он покинул меня и присоединился к цепочке уличных торговцев, что растянулась вдоль тротуара, неподалеку от выхода из метро. Зажав портфель между ног, он стал вынимать из него то, что там было на продажу.
Ну а мне не оставалось ничего, как пройти чуть ниже, мимо роскошеств «Метрополя», и сесть на скамейку за гранитной спиной мужиковатого Маркса. Билет на «Бритиш Эруэйз», два паспорта, остатки рублей и валюта, все было в сборе. В воздухе попахивало снегом и кислотным осадком недавнего мятежа. Заканчивалось свидание с молодостью.