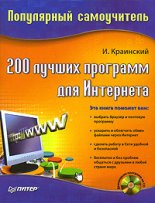Прощай, Атлантида Шибаев Владимир
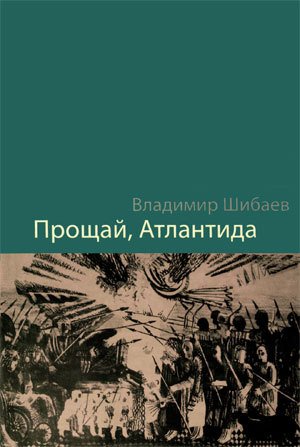
– Там, – ткнула Клава пальцем. – Плакаты не поделят, ругаются.
– Может, подойду к Вам, идите, – отправил он молодых, с тревогой глядя на толпу.
И правда, в озере голов и море тел наметился нездоровый симптом. В океане увенчивающих тела голов, как в каком-то саргассовом треугольнике или бермудской зоне образовались, вспухли валунчиками, закружились, как взбиваемый скалкой крем, осели на стены окрестных домов или выперлись в переулки недобрыми опухолями отдельные людские сообщества-выросты – одни экзальтированно и слаженно орали "Долой!", другие свистели в пальцы или показывали соседу, как свистеть, в иных и вовсе затеяли толчею, толкотню, матерню, и одерживало верх безрассудство. То есть общая для всех толпа стала распадаться и множиться разнородно настроенными амебами и жгучими медузами, трущими в переполненом фракциями море ядовитыми друг друга бортами.
Начали кричать еще и разное "Бей!", например, "жги", "бери палки и айда", " где эти жирные крысы на нашу голодную голову", "успокойтесь, трудящие" и "хорош давиться!". Поэтому географу показалось очень правильным, когда он вдруг увидел, как к основному микрофону выбрался несколько хромающий рабочий активист Горячев-Холодковский и, как представитель "Рабфронта", начал разумно и страстно сеять среди волнующихся, отметая злобу и тревогу и призывая под своим руководством поставить подписи людей под воззванием в высокие сферы о наболевшем. При этом молчащая позади него дама, чем-то напомнившая географу знакомую зоологичку, время от времени выбегала к рампе и демонстрировала людям полузаполненные автографами длиннющие скатанные в рулоны листы, напоминавшие в основе туалетную использованную смотанную бумагу.
И правда, сильная спокойная речь активиста, а также его прямой призыв "повернуть лицо истории вспять" и пойти маршем к церковному собору, обойти его круглой колонной и получить порцию божественного озарения на удачу, произвели доброе и умиротворяющее действо на разнородные волны и буруны людского моря. Немного подпортил дело лишь один затарахтевший "болгаркой" мужик и крикуны из группы "приднебугских", орущие "не любо!" и "акбар".
Но все испортил другой оратор, тоже вдруг выбросившийся из толпы на берег авансцены, как издыхающая, но сильная еще рыба, и начавшийся биться и кувыркаться там. И за этим тоже вился шнур, увенчанный микрофоном, схваченным побелевшими пальцами Гафонова. Чертова техника, руководимая заведующим электрификацией, дала здесь официальный сбой, потому что в трансляцию оба крикуна попали одновременно, и голоса их смешались и долетали до людей из лающих динамиков то в унисон, то в перекрест. Трудно вообразить, что такое попало в людские уши:
– " мор держимордам…прочь рабочая подсознательность…оплюем оплоты опоссумов…даешь закалку трудовой выдержки…бей котов, спасай шкуру и носи ее… примем по одной заботе – дай сам оплоту работе…".
Страшно географу было видеть, как волнуются и мнут словом друг друга отчаянные ораторы и как вертится и дергается тело измученной толпы. И тут случилось еще ужасное. Корячясь и раскачиваясь, балансируя руками и подергивая ногами, на аренку выбрался пьяненький человечек. Коряво побултыхавшись по ней, он остановился и туманным взором попеременно оглядел выступавших. Он был настолько неуместен в этом годами освященном руководством месте, что даже с двух сторон по лесенкам двинулись к нему, отделившись от ответственной группы, строго одетые мужчины, мягко и жестко движущиеся, чтобы не обозначать областной скандал, Артур Нолик и Альберт Колин. Местный хулиган Хорьков зорько, как мог, оглядел крадущихся по его душу охотников и вдруг, прыжком одичалого бешеного кота, скакнул и прильнул к груди рабочего активиста.
Горячев закрыл, кажется, на все это глаза и обнял непроизвольно припавшего к нему "блудного сына". А, когда хулиган отринулся прочь, то в руках его блеснула, оттолкнувшись от веселого майского солнца, окровавленная железка ножа.
– Убили! – ахнули ближние люди. Горячев отнял руку от живота, высоко поднял ее, облитую красным и рухнул на микрофон лицом вниз. Тут же хулиган Хорьков по инерции бросился и ко второму застывшему в ужасе оратору, хотя это явно им не планировалось, то есть он вошел в раж. Гафонов сжался и побледнел. И каким-то чудом метнувшийся наперерез хулигану молодой милицейский лейтенант, возможно, Зыриков или другой, отбил налетчика, еле успев выставить руку и приняв на нее удар страшного стремительного лезвия.
– Убили, ироды! Рабочего зарезали, толстосумы! – донеслось из толпы.
Артур и Альберт стремглав бросились к преступному элементу, но не таков был многолетний хулиган, чтобы отдаться сразу. Он, нечленораздельно и непечатно воспроизведя польские слова, метнулся к запеленатому монументу и ловко, как будто родился там, полез по канатам и веревкам вверх. Но преследователи и здесь не дали ему покою, а полезли, спортивно и привычно изгибаясь, на бронзовую укрытую гору за ним. Хорьков вдруг заорал непонятное, но далеко услышанное:
– Покаж! Покаж!..Покаж! – и стал ножом кромсать веревки.
Он был у самой головы, и голова у него окончательно запуталась и поплыла. И, конечно же, наготове оказался мальчик. Тот самый совершенно случайный дурак, просто мелкий охальник и школьный тугодум, какой-нибудь Балабейко или другой, и запустил издали в монумент небольшой камешек. Как учить арифметику или дробить дроби, его не сыщешь, все где-то курит, плюя в школьные смрадные унитазы, а как камешком баловать – тут как тут. Камень пролетел назначенную траекторию, возле увязанной головы во что-то восстановленного вождя изменил линию полета и на секунду застыл. И ударил Хорькова в голову.
Хулиган от неожиданности выпростался вперед, расставил, как непонятливый распятый разбойник, руки, в одной из которых еще сочился нож, поглядел на первомай глазами оленя и, потеряв равновесие, полетел вниз. А ножик, компасом вращаясь, подлетел по полу и остановился возле глаз Гафонова, призывно дрожа. Дощатый, сбитый, как верхняя гробовая доска, настил встретил хулигана хрустом.
– Убили! Мужика загнали! Затравили! Скинули! – разнеслось по концам толпы.
А географ стремглав бросился за монумент, где начинались ковровые дорожки к храму и несуетные служащие по божественной епархии убирали путь бумажными красными гвоздиками. Когда Арсений подбежал к монументу, туда, на задки, уже отволокли страшно хрипящего Хорькова, а вдали, с другой стороны торжища, завыла медицинская карета. Хорьков лежал на асфальте, из его губ сочилась розовая пена, а рядом на коленях стоял тихо скулящий пацаненок Кабан и умолял отца, протягивая к нему синие от холода руки:
– Папка…не мри…слышь, папка…пьяные не мрут…живи еще…будешь, а?…папка…
Рядом же стояла, в ужасе глядя на сломанного, девчушка Краснуха, верная подруга. Налетели санитары в белом, стали волочить носилки и пихать на них бормочущего хулигана:
– Димка…сынок…не фулюгань…а то географ пала заругает…лады…
– Покаж! – вскрикнул и закрыл глаза.
Географ сжал мечущегося Кабаненка и крикнул:
– Куда везете?
– В областную…травматологию, – ответил, запрыгивая на сиденье, санитар, и машина, сыграв мобильную мелодию, умчалась.
– Чего? Дядя? Зачем? Куда? – плача, спросил мальчик.
– Сейчас. Пошли, ребята, – сказал географ. – Поймаем машину, и прямо в больницу, – и потянул подростков, подталкивая в спину, прочь с этого мероприятия.
Конечно же, конечно он не видел окончания торжественного митинга. А многие, многие потом, пересказывая случившееся, удивлялись плотному сцеплению обстоятельств, хотя и передавали события ну полностью непохожими словами.
Народ на площади совершенно разъярился, отдельные группы, добывая или имея уже в запасе палки и колья, пораженные нападением и падением двух простых людей, начали разворачивать, шебурша, колонну, направляя ее острое жало в сторону руководящего здания и прячущихся за ним кварталов. Также их целью был завод, фабрика, бензин и спички.
Гафонов в ужасе, пораженный смутой и мельтешащими событиями, дико озирался кругом, не смея смотреть на красный нож. Но не долго пустовала трибуна. На нее выбежала простоволосая девица в коротеньком подвенечном наряде и взялась качать огромным плакатом, на котором виднелись буковки " Белый налив" – гордость нашего сада!". И, схватив микрофон, девица заорала:
– Не пущу! Не дам одним бить других! Проклятые, хватит драться. Не пущу. Идите к храму, развейтесь…Не ходите рушить, не пущу…
Однако огромный детина, как назло оказавшийся здесь и похожий на ройщика могил или на грузчика автобазы, озираясь, подтянулся на руках на аренку и завопил:
– Лизка, сука! Домой…Лизка, убью! – и набросился на девушку, повалил ее и начал таскать за волосы по трибунке, волоча и оря что-то.
Площадь замерла, не понимая происходящего. И, конечно же, толстый крупный хлопец, студент или пионервожатый, в длинных глухих шортах и с вертящимся барабаном на боку, взобрался к расправе и бросился защищать дорогую ему Элоизу. Силы были не равны. Огромный детина повалил обоих и особенно стал долбасить и обхаживать кулаком ввязавшегося в семейную разборку скаута.
Тут дальнейшие рассказы разнятся. Потому что не все слышали и не все поняли, когда к онемевшему от событий Барыге подскочил маленький шустряк Воробей, бледный, как голубь, и, тыча ему пальцами в лицо, заорал, брызжа слюной:
– Ты! Ты!
– Ты! – сделал ему пальцами растопырку в лицо мощный банкир.
– Ты! – опять завизжал Воробей. – Беги, твоего убивают сына.
Барыга невидящими глазами поглядел на авансцену перед памятником, где здоровяк молотил по барабану ногами, и тихо сказал Воробью:
– Ты. Я тебя задавлю.
– Я тебя сам придушу! – завизжал бесстрашный Воробей. – Сына твоего добивают.
Барыго опять огляделся кругом красными глазами, и из него вырвался жуткий бычий вой.
Что было дальше, присутствовавшие на разборке описывают разными, доступными им словами, потому что все, кто только что заполнил сценку наверху неправильно сбитой трибунки, скатились с нее, и судьба одного из них, грузчика или бывшего автослесаря, неизвестна и поныне. Скорей, он просто постарался срочно смешаться с землей и асфальтом, обгоревшими спичками и пустыми пачками сигарет. В образовавшуюся тишину к подножию трибунки неслышно подошла женщина, укрытая грязноватой лисой, и тихонько промолвила:
– Гафонов. Скажи что-нибудь хорошее.
Гафонов поднялся во весь рост, поглядел на Эвелину и на окровавленный стилет, магнитной красной стрелкой указывающий на него, и, будто призывая тишину, поднял руки. Потом он упал на колени и сказал в свой микрофон:
– Спаси и помилуй, пресвятая Богородица.
Вновь посмотрел на Эвелину, стоящую молча и тихо. Потом глянул, что расположился он лицом к монументу, переполз угол на коленях, обратился к народу на площади и сказал, а потом запел странным, нецерковным голосом:
– Спаси и помилуй, пресвятая Богородица. Спа-си-и…поми-и-лу-и, пре…
Несколько попиков выбрались на авансцену, учуя божественное, и тихонько, темным клобучком собравшись у поднятого другого микрофона, серебряными хоровыми голосами затянули церковную песню. Да такую душевную, теплую и святую, что многие прослезились и оттаяли. Тихо, под песню, и еще другую – такую же звонкую и чистую, развернулись многие люди и толпой, разными группами и отдельными светлыми лицами потянулись к собору, по дорожке, постоянно подправляемой служками, мимо жестяных роз и бумажных маков, укрепленных по обочине на щитках. Так и закончился удивительный торжественный митинг и планировавшийся концерт, и редкие мелкие начальнички, кучившиеся группкой на пустеющей площади, молча разводили руками.
Единственно, о чем всколзь еще следует сказать и что было всеми выпущено из вида, так это – в самом начале событий к небольшому худенькому старичку, грустно стоящему поодаль от начальников, подошел чужой, из другого города командировочный в мятой шляпе, валявшейся, видно, и в луже, и сквозь зубы сказал:
– Отводи своих крикунов, Ильич. У меня за углом батальон горных стрелков с полным комплектом. Перестреляю твоих орлов, как вальдшнепов.
К Ильичу тогда, по его знаку по очереди, стараясь не встретиться, подбежали Артур и Альберт и, получив указания, молча строевым шагом отправились к буйствующим группам – приднебугским бузотерам и бойцам держащегося в тени заборов " Боеотряда". Те враз примолкли и примкнутыми рядками стали сворачиваться.
– Что? – со слезой на глазах спросил Ильич. – Опять я продулся!
– Надоел ты всем, – процедил командировочный, и, уходя, бросил. – Если б не заслуги…Пойдешь ветеранов возглавлять.
Надо сказать, что этими выступлениями отдельных трудящихся светлый майский день, конечно, не окончился. Везде в эти часы, а потом и позже, и совсем поздно, до самой ночи в городе плясали, бузотерили, весело и отчаянно немножко дрались и выпивали, у кого что припаслось. Все-таки первомай это такой праздник – хороший.
Кругом особенно многие пускали петарды, которые то, взмывая вверх, распускали над городом павлиньи хвосты, то хлопались на земле в руках неумелых бомбардиров – изображали глубокое вулканическое прошлое планеты. Географ с трудом поймал ближе к ночи отчаянного любителя сшибить праздничную деньгу и теперь в его кургузой машинке подъезжал к темному особняку на окраине.
Долгие часы перед этим провели они вместе с ребятами Кабанчиком Димкой Хорьковым и Краснухой в сером больничном коридоре. Мимо, молча хмурясь, проходили врачи, всем своим видом предъявляя ненависть к работе в цветущий праздник. Кабан сидел на скамье, уткнувшись в угол, и безучастно смотрел на тетку-уборщицу, нарочно возившую тряпкой по его грязным ботинкам. Наконец, ближе к сумеркам, вышел из дверей доктор в голубом халате с вензелем на кармашке, подошел к географу и потер переносицу, задев и скосив крахмальную шапочку на лоб.
– Вы кто больному? – спросил.
– Он нам учитель, – тихо ответила девочка, поднявшись. – Географии.
Медик покачал головой:
– Не ездите сюда. Звоните. Бесполезно, – сообщил. – Скажут "без изменений" – значит все хорошо.
И ушел. Арсений поехал с ребятами к Кабанку домой, чтобы проводить. В кургузой комнатенке, где, казалось, пропиты были и стены, парень, не раздеваясь, улегся на топчан. Рядом, на трехногую табуретку уселась рассудительная Краснуха.
– Вы, дядя Арсений, ехайте отдыхать. – сказала она голосом сестры милосердия. – Я тут покемарю возле Кабанка.
– Как ты, Дима? – спросил географ, наклоняясь к хлопцу.
– Никак, – сообщил паренек. – Всю жизнь я его не терпел…А он мне гитару покупал вместо водки…
– Иди, дядя Арсений, – повторила Краснуха. – Все путем. Я ему добыла одну атлантическую историю про морской город. Сейчас расскажу.
И географ уехал и запрыгнул, подбежав и задохнувшись, на последний автобус в центр.
Павловский особняк потонул в темноте, ни одно окно не горело. Арсений протопал вслепую по знакомой дорожке и стал шарить звонок, чтобы сообщить о своем приходе в добропорядочный дом. Неожиданно дверь открылась и служка-старик впустил Арсения.
– Это хорошо, что припозднились, – проворчал старичок. – Идите вон к нему в трубу, меня-то совсем не слушают, – и кивнул головой наверх.
Павлов сидел в мансарде, с трудом сохраняя равновесие в удобном кресле напротив телескопа. На столике рядом лежала почти пустая бутылка коньяка и разбитый фужер.
– Э, кто приехал! – приветствовал Теодор посетителя ватным языком. – Ни одного черта не видно, хоть один черт сподобился навестить полудохлого Павлова.
– Я к Вам, Теодор Федорыч, по делу, извините уж. За советом.
– Не извиню. Пока не выпьешь. Ко мне? К такому? За советом. А глупей…Осе…ний Ф…мич, ничего не придумалось. Как скажешь. Тогда тяни меня, товарищ, в умывальню напротив. Есть ради чего выто… выпо трошиться.
Полчаса провел адвокат над унитазом, над раковиной и в ванной и появился с бодрой улыбкой на бледном, как аллюминиевая кружка, лице. Он смахнул недопитую бутылку и обломки бокала в мусорную корзину, открыл шкафик и с сожалением поморщился:
– Еще одна, зараза. Тебе отдам на майский сувенир: "ХО Бисквит". А иначе вылью, не отказывайся. Стой-ка, сейчас звякнем.
Схватил большой, как с малого каботажного судна, колокольчик и размашисто, но безуспешно зазвонил.
– Боится, – сообщил Павлов, заговорщически подмигивая. – Боится, ханки потребую. – Теодор нащелкал сотовый и забубнил. – Здорово. У тебя супчик какой есть? Бульон? С пирожками…Тащи. Ну, вот, – сообщил он, улыбаясь. – Теперь говори. Только помедленнее и простыми словами.
– Да не знаю, что и сказать, Теодор Федорыч. Дело-то непростое. Вы меня в этих вопросах немного более сведущи. В ненависти…Как мне кажется, многих вы недолюбливали. Вот и партнера своего, думается. Да и к Вам, сдается, питают эти люди разные чувства. Помыкались вы с этим богатством. Вот и я попал в переплет. Теперь хочу спросить, что это такое – ненависть.
– Ох хитер ты, географ, сложные спившимся задачки загадываешь, – хмыкнул адвокат. – Я уж не мечтал тебя увидеть, думал переходишь уже монголо-тунисскую границу, даже випил за тебя… рюмаху. Я в этом вопросе оказался не дока. Жену не мог терпеть каждой каплей своей крови, видеть не мог даже издали. А уж в кровати мои фантазии, куда Отелле…Ну да ладно. А сейчас вспоминаю, и нет во мне ненависти. Как будто испарилась или ушла вместе с покойницей под землю. Эта страшная эманация…
– Так что же, – перебил географ. – Убить ненависть способна лишь смерть?
– Погоди…Дочка, вон. Уж какими, думаю, словами меня втихаря не поливала – и жмот, и ублюдок. И бабник, и старорежимный осел. А после событий, думал, и вовсе отвернется навсегда. Ан нет, дуреха. Подошла здесь, вчера, что-ли. И говорит: ты, папенька, плохой человек. Но и я не лучше. Потому, что дочка твоя. И добавила: не надо пить, заболеешь. Пожалела развалину-адвоката. Так что, Арсений, какой же я специалист? А у вас-то какая может быть ненависть. Разве, женская?
– Угадали.
– Не мудрено. Старое, что ли, всплыло?
– Как вы думаете, Теодор, – размышляя, сообщил географ. – Это не вместе ли с любовью ходит, как в нейтральном теле электрические искры. Под действием внешних сил и обстоятельств одни заряды ненависти скапливаются в голове, а иные, любовной противоположности, в другой стороне, ближе к ногам. Расходятся, поляризуя человека и убивая его током заряженной и напряженной крови. А потом опять сольются в нейтральную пустую смесь – и опять ходит человек, как мыло.
– Э-э, хитер ты, – воспротивился Теодор казуистике географа. – Легко хочешь отделаться. Скажу правду. Отдельная она, эта ненависть. Сама по себе шляется, без всякой любви. Даже, – прошептал адвокат, – думаю я, движется она и вне человеков, сама по себе перепрыгивая от одного к другому, путешествуя по полям и селам, выискивая ослабленных обстоятельствами жертв. Идет она иногда крадучись, тихо переползая нервной сыпью от друг к другу, от женщины к мужчине, питаясь завистью и обреченным страданием. Но! Иногда вспыхивает среди этого племени страшная ее пандемия. И все тотчас, зараженные и тупые, бросаются один на другого в ярости. Это, географ, болезнь.
И самое страшное, что корни ее очень уж глубоко и давно посажены. С трепетом думаю, что она одна из трех столпов, на которых возрос род человеческий.
– Каких столпов? – несколько отрешенно переспросил географ.
– А таких. Пища, ненависть и страх.
– А разве не на таких? – сказал географ. – Помощь, самка и дитеныш.
– Нет, – сказал Теодор. – Наверное нет. Или мы с тобой в разных племенах росли. Хотя….не знаю. Выпьешь? – схватил адвокат из шкафчика бутылку.
– Отдайте, – потребовал географ. – Обещали в сувенир, а теперь жмете.
– И правда, – засмеялся Теодор. – Бери, это я так, растерялся.
Долго сидели двое мужчин в узкой мансарде. Съели принесенный служкой бульон и пирожки. Адвокат предъявил географу в телескопе несколько новых, открытых в последние дни звезд и комет, а географ сообщил вероятные координаты древней искомой ушедшей в океан геологической платформы. Обсудили они походя и женские свойства находить во всем катастрофу, и рецепты блинчиков и пирожков, а также способности молодых девиц с фантастической скоростью менять увлечения – с составления коктейлей на журналистику, или с горнолыжных загаров на перебежки под партийными стягами.
На соседней даче в воздух, разрывая хлипкую уже темноту, выскочили красивейшие громыхающие букеты фейерверков. Адвокат и географ подошли к окну.
– Уезжай отсюда скорей, Арсений – тихо посоветовал собеседнику хозяин, глядя в яркое небо.
.
Сквозь яркие солнечные сполохи до сознания Полозкова добрался трескучий звоночек старого телефонного аппарата. Арсений увидел на столе в своей комнате причудливой формы бутылку коньяка и вспомнил прошедшую ночь. В трубке раздался запинающийся знакомый голос, немного напомнивший неровный стук пальцев по барабану:
– Арсений Фомич, это я, – радостно сообщил Юлий, будто бы случайно недавно обнаружил себя, немного забытого. – Ну, Юлий…да. Приходите к нам сегодня домой на продолжение праздника когда хотите. Лучше часа в три. Первомай? Нет. Мама… у нас, перестала говорить стихами. Я очень волнуюсь. Ага. Адрес запишете?
Арсений выпил кофе, невнимательно, путая рукава и пуговицы, влез в одежду и выбрался на улицу. Несмотря на висящее с раннего утра высоко солнце, город еще спал и видел вчерашние сны, и географ отправился в больницу. С некоторым трепетом, вселившимся в него с воспоминаниями о подбитом глазе и последовавших кульбитах событий, взошел он по изъеденным ногами ступеням основного корпуса. В коридорах царило непраздничное будничное биение прерывистого больничного пульса, шаркали тапки, переругивались, треща старыми простынями и жирной посудой, круглые нянечки и мужевидные уборщицы. На койке в коридоре, почти в том же месте, где и он раньше, лежал на кровати бледный, кашляющий, но чрезвычайно оживленный руководитель местного отделения "сине-зеленых", бывший экономический доцент.
– Каким судьбами, Аркадий Фадеич? – искренне удивился партиец. – Решились все же к нам, нестройных рядах закрыть брешь?
– И да, и нет. Собирался навестить одного ударившегося в серьезную болезнь, ну и вот, к Вам заглянул. Ну, принес сок и яблоки, а гляжу – уже вся тумбочка завалена этим же.
– Знамо дело, – радостно потер руки функционер. – Приобщились уже с утра ходоки двух конкурирующих за обладание монополией на трактовку демократии партий – " Жизнь ради жизни" и "Право руля" – да и натащили, как Вы, сочного и яблочного. Думаю, не потравят, – шутливо улыбнулся он. – В будни то крысимся, улыбаемся друг другу зубами, а в праздник, заболеешь, так прискакали тут же. Хорошие, однако, люди.
– Так что же Вы с этими партиями не сольетесь? – задал вопрос и глупо нахмурился Арсений. – Была бы одна могучая кучка умных и смелых. " Жизнь ради сине-зеленого правого руля", – подсказал географ название.
– Ну и шутник Вы, – точно подметил функционер, но, оказалось, по другому поводу. – Как можно с этими объединяться. Да Вы, я вижу, и хохочете в глазах над неудачливыми сектантами, – решительно посмеялся над собой умный доцент. – Это все чрезвычайно все милые люди. Но у нас принципиальнейшие, смертельные стратегические разногласия.
– Ну и с " ради жизни" в чем состоят?
– С ними так – у этих заведено сдавать партвзносы с зарплаты и гонораров. А у нас только первое. И это далеко не единственная пропасть. У них испытательный срок – год. Да за это время и жизнь окончится. Потом они трактуют свободу – как осознанность, а мы же – как необходимость. Кстати, Вы когда подадите заявление к нам? Мы вас сразу, как проверенного, без экзамена впустим.
– Слаб я пока для партий, – отнекнулся географ. – Как вступишь, а выступить то невозможно?
– Простейшим образом, – воскликнул, восторженно кашляя, партиец. – В этом, кстати, наше принципиальнейшее отличие от " Право руля". Там, чтобы исключиться, нужны две рекомендации или один донос.
– От кого, от членов партии? – ужаснулся Арсений.
– Ну что Вы, от любых известных лиц. От жены или дочери, от уже исключенных, к примеру. Ну не глупость? У нас же совершенно другая, идеологически чистая процедура. К примеру: я, Арсен Фадеич, исключаю себя из молодежного крыла, из "Белого налива", как уклониста.
– Боже, – удивился географ. – Как уклониста куда?
– Да куда сами захотите, – удивился партийной непонятливости больной. – Клонит вас все время ко сну по возрасту, вот и уклонист. Или в теории нобелевского лауреата по экономике Сеттер-Сомпсона уклоняетесь к мысли о никчемности сетевого факторинга. Ясно? Вам решать, самому.
– Но есть же в вас и общее, главное общее, – завопил географ. – Желание сделать весь народ богатым и независимым. Ведь и этих вы все ненавидите.
– Кого? – склонил голову экс-доцент.
– Этих, – сморозил Арсений. – Чинуш, взяточников, тупых хитрых управленцев с пухлыми карманами, бессовестных социальных обещал и карикатурных защитников простого человека.
– Ненавидим?
– Ну, да!
– Однако! Вы маханули с градусом. Мы их критикуем, вытесняем с экономического поля, давим катком знаний и прессом честности. Протыкаем острием журналистских расследований. Но, ненавидим? Хватит уже, поненавидели. Сто лет. И что из этого вышло? Это их ненавидят в "право руля". А у нас их даже любят.
– Любят?! – восхитился Полозков.
– Абсолютно. Это заблудшие сыны, такие же, как все. Как правило прямо из народа. Придет из народа другой – скоро свинтится в это же. Это виновата система. А не люди системы. Мы их любим.
– Но, позвольте! – возразил географ. – Что ж вы любите людей, а не любите пожар и дым? Тогда вы сражаетесь с мельницами.
– С мельницами пусть бьются испанцы, – ловко отразил схоласт, – у них сильная экономическая школа. А у нас и экономические монстры – недоучки. Кстати, приличная ветряная мельница на Западе – чудо современной техники. И потом, Авксентий Фомич, сподобно ли ненавидеть врагов своих? Разве это жизнь! Надо гореть ясно, ясной мыслью, а ненависть – это чад и дым. Вот, возьмите, умница моя помощница – угорела, кашляет, а утром уже вылетела в Барселону на конференцию "матери без детей". Вот это трудовой настрой.
Так, поспорив немного с бывшим доцентом и доставив тому не одну кучу интеллектуальных удовольствий, географ вновь выбрался на солнце. Это солнце встретило географа, глядя на него сверху, как на маленького. Тепло погладило ему щеки и разрешило вдохнуть воздух. Кислород был сладок, а другие газы пахли расплетающейся зеленью, преющей землей и телячьими почками. Из этой, из этой же больницы, из роддома, выпорхнул он мягким кругляком в сшитом из старых простыней конверте много лет назад. Так же, как сейчас, он пучил на свет глаза и всасывал чуть пахнущий молоком воздух. Уши и тогда и сейчас открылись и услыхали увертюру громадного симфонического организма: лязг и звон трамваев и капель, скрип отмывающихся с зимы, блистающих мыльными пузырями окон, шуршание голосов и смех собак. " Как же я сильно подрос, – удивился Арсений. – Пора мне в школу".
Школа стояла тихая и пустая, сторож, приветствуя праздничным салютом, впустил его, и Арсений, изображая выпускника и прыгая через две ступени, вбежал в свой класс. Тут он уселся на учительское место и замер. Потом подошел к окну, растворил его и поманил жизненные звуки.
Неожиданно дверь приоткрылась, и всунулись три мордахи, одна над другой, Быгиной, голубятника Тюхтяева и тупого Балабейко.
– Здравствуйте, Арсений Фомич, – произнесли мордахи в унисон.
– Здравствуйте, ребята, – ответил географ, и мордахи скрылись.
Тогда географ взял бумажный лист и стал, старательно изобретая чертеж, складывать голубя. С белокрылым изделием он прошествовал к последней парте, уселся на нее и оглянулся. Вновь хлопнула дверь, и те же мордахи поглядели на него.
– До свидания, Арсений Фомич, – складно сообщили они.
– До свидания, ребята, – ответил географ, пряча за спину голубя.
И дверь захлопнулась. Арсений еще посидел с минуту и запустил птицу. Голубь облетел несмытую доску, большой глобус и почти уселся на кабинетный шкафчик, но передумал. Он подлетел к окну, вдохнул воздух, на секунду застряв там, недвижим, и ринулся в окно. Арсений поглядел вниз, потом вверх. Птицы нигде не было. Улетела, решил географ.
Когда учитель выбрался на улицу, то, крадучись, замечая раскрытое окно, пробрался вдоль первого этажа и убедился, что бумажный путешественник и вправду без следа сгинул в пространстве. Полозков, радостный, распрямил спину, повертел шеей и, представив себя неуемным выпускником последнего класса, подумал – а не пора ли кончившему школяру развлечься и выпить где-нибудь портвешка из горлышка. И он отправился, званный, в гости.
Квартирка Юлия встретила его сдержанными приветствиями. За небольшим столиком свободно поместились барабанщик с примыкающей Элоизой, неугомонно трещащий весенние байки Воробей, которому хамски-преданно глядела в глаза все еще печальная от последних событий пухляшка Клодетта, а посерединке сидела тихая женщина с седыми висками, спиной к невысокой горке, мама Юлия.
Мама, и вправду, уже не говорила стихами, впрочем, она и вообще ничего почти не говорила, а только с обожанием рассматривала молодежь.
– Это кто? – лишь спросила она, кивнув на географа.
– Это друг нашей семьи, – скромно подтвердил статус географа Юлий, а географ под неумеренные вопли Воробья выставил на стол фигурную пузатую бутылку, подарок Теодора.
– Садитесь, друг, – мягко сказала мама.
Позади хозяйки стола, на горке, прижавшись к стеночке, чтобы не разбиться, сверкала хрусталем огромная ваза, в которой колыхались внутри три маленьких синих весенних цветка.
– В папанькином стиле, – надула губки Клодетта, указывая на бутыль, подавившую на столе своей роскошью бутылочку скромного вина. – Но, клево!
– Ваш папа уже, в общем, не пьет, в чем я убедился вчера, – учтиво сообщил географ и отчасти рассказал историю посещения кашляющего партийного руководителя.
– А где же его соратница? – осторожно спросила Элоиза, покраснев и кроша хлеб. – Выздоровела?
– Совершенно, – отчитался географ. – Кашлянула всего один раз, наплевала на этот неудавшийся поджог и уехала перенимать партийный опыт.
– Да, – радостно подтвердила Элоиза, – почти все не сгорело, чуть дымком тянет. Мы вчера с Июлием…из-за небольших травмочек вынуждены были…Но маме звонили…
– Лизонька, – укоризненно вздохнул барабанщик, и та покраснела, как розовеющий в солнечном свете персик.
Воробей по просьбе географа в юмористических тонах поведал часть вчерашних первомайских историй, пропущенных охающим географом.
– Да, именно так, – крикнул Воробей. – Таскали Колин и Нолик друг друга за бороды, – и он схватил пушистую копну волос визжащей Клодетты и сделал вид, что выдерет их сейчас все.
– А эти, – крикнул он, – один подошел к шулеру. Ну, к известному здесь Иличу, и строго говорит: мотай отсюда, старик, вместе с заслугами. А то как перепелку перестреляю, или, как летающую тарель.
– Да не кричи ты, как крутой кипяток. – несколько ожила его новая подруга. – Маму Юлия испугаешь.
– Меня? – спросила мама. – Что вы, дети. Я уже всего, чего могла, испугалась.
– Июлий, стихи! Читай стих, – попросила Элоиза, хлопая в ладоши.
– Давай вирши, – завопил Воробей.
– Поширее и поклевее, – поддержала Клодетта бойфренда.
Юлий торжественно поднялся. Но мама поглядела на него с укоризной и сказала:
– Юля, хоть у тебя и очень хорошие стихи, но все же. Может быть, не читай?
– Знаю, мама, – ответил гордо Юлий. – Очень глупые стихи. Но когда они выходят из меня, я умнею. Прямо на глазах. Вот увидите.
– Тогда ладно, – сказала мама, а Юлий продекламировал:
– Радость эта несломима: убежала мамы мимо неослабная хандра.
И исполнить пантомиму, роль ликующего мима, подрядился я с утра.
И тут раздался звонок во входную дверь. Вернулся из коридора Юлий несколько озадаченно-смущенный, а вслед за ним в комнату вступила Рита.
Рита поставила на свободное место на буфетик большую плетеную корзину и сказала:
– С праздником. Это фрукты, – и действительно, корзина, когда туда сунула нос Клодетта, оказалась полна весьма экзотическими в это время года плодами.
– Это кто? – несколько нерешительно спросила мама Юлия.
– Друг дома, – сообщил твердо Юлий, все еще стоя.
– Это моя невеста, – заявил географ.
– Это невеста! – воскликнула, вынув нос из корзины и всплескивая руками пухленькая балаболка. – Это его…тьфу…географа…тьфу …Арсения Фомича, это его, – и она сунула пальцем в Арсения. – Настоящая невеста, она меня еще глобусом…гоняла по географии. Та-а-акая невеста!
– Садитесь, пожалуйста, невеста, – пригласила мама. – И кушайте все, как дома, – соединила она две дежурные фразы.
Воробей внимательно осмотрел скромно севшую рядом с Полозковым Риту, даже понюхал запахший Парижем воздух и бурно возвестил:
– Юлий, кончай стих, – и барабанщик прочел.
– Еще, еще, – бурно зааплодировала Элоиза.
– А Вы героиня, – тихо сказала Рита сидевшей с ней рядом девушке.
– Я не героиня, я дура, – ответила чем-то очень довольная девушка.
– Юлиан, еще поддай красиво, – квасливо сгримасничала Клодетта.
– Хватит, довольно, – тихо сказала мама.
– Еще один, – взмолился чтец. – Не вся дурь повылезла.
– Ну ладно, – махнула мама рукой.
– Элоиза, девушка, – встал Юлий и закрыл глаза.
– Ласковый цветок.
Выбился из снега ты, зимний огонек.
Шмель вокруг закружится, головой жужжа,
Это не недужиться. Это рая жар.
Ручками обнимемся, пальчики скрестив,
И по стежке кинемся, в ласковый обрыв.
– Элоиза девушка, – мечтательно повторила Лиза и взяла ладонь Юлия в свою. – И цветка обрыв.
– Шмель, шмель! – заорал, хохоча, Воробей и тыча в смущенного барабанщика.
Все засмеялись, а Воробей добавил:
– Надо бы танцы, – и поглядел на Клаву.
– Мне не очень то можно…обжиманцы.
– Да чуть не помешает! – подсказал Воробей.
– Пожалуйста, танцы, – манерно объявила мама Юлия и глазами классной дамы оглядела собрание.
– Страшная старуха, пленку жует, все никак на новую не разорюсь, – подошел Юлий к стоящему в углу на подоконнике музыкальному комбайну.
В это время в квартиру вновь ворвался звонок, оповестивший о госте. Когда Юлий, открыв дверь, вновь появился в комнате, он был красен, как китайский пионерский галстук и донельзя смущен. За ним в комнату вошел огромный букет роз. Букет отлез в сторону, и из-за него показалась крупная лысоватая голова банкира Барыго.
– Кто это? – спросила мама Юлия, вставая. – Я Вас не узнаю.
– Это я, – ответил Барыго. – Пришел.
– Это друг, большой друг большого дома! – крикнул Юлий, путаясь.
– Очень большой, – подтвердила Элоиза, сложив руки монашкой.
– А почему Вы говорите этим голосом? – спросила мама. – Это не Ваш голос.
– Мой, – ответил Барыго.
Подошел к вазе, выхватил жалкие синие цветочки, всунул в огромную вазу непомерный букет и, чуть не бросив в сторону маленькие стебельки с еле распущенными бутонами, вдруг опомнился.
– Извините, – сказал он неловко. – Все таки цветы. Куда бы их? – и Клодетта приняла у него и устроила в молочную бутыль.
– А у нас танцы, – грустно провозгласила Клодетта. – Кто в танцах не вяжет, тот…библиотекарь.
Мама Юлия без сил опустилась на стул: