Астральная жизнь черепахи. Наброски эзотерической топографии. Книга первая Шехтер Яков
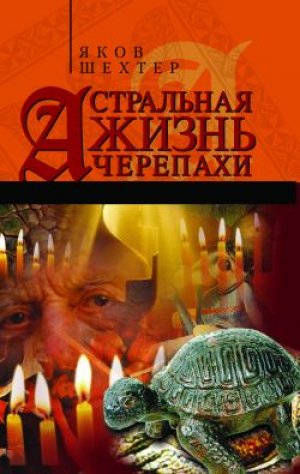
Предисловие автора
Не ищите случайных совпадений фамилий и дат. Всё здесь намеренно – имена персонажей подлинны, как и названия городов.
Изменены только тени под глазами, интонации, иногда запах волос. Впрочем, нет – и в этом не уверен.
Ирреальна лишь топография, призрачный фантом ускользающего совершенства. Ее пути осыпаны пеплом сожженных иллюзий – желания, точно бездомные коты, дурными голосами орут на обочинах.
Над всей жизнью раскинута сеть, и там, где она задевает землю, возникает «место силы». Запад прикасается к Востоку, суббота переходит в пятницу, женское оборачивается мужским, а исток оглядывается на дельту.
В «месте силы» каменная толща, отделяющая душу от Абсолюта, пропадает, можно говорить и слышать.
Но где отыскать слова, и как не прикусить язык, привычно роднящий глаголы суеты с местоимениями фальши? Один ошибочный звук – и вновь заперты ворота.
И остается только путь, вечный и неизбежный путь. Из всех переменных нашей реальности он единственная постоянная величина.
Снова искать, перебирая узелки сети, прислушиваться, напрягая до разрыва барабанные перепонки, вглядываться до черного марева перед глазами, и все для того, чтобы, коснувшись земли, попытаться заговорить вновь.
Из никуда в ничто, проверяя на ощупь дорожные знаки, бредут персонажи этой книги. От одного «места силы» к другому гонит их рок востребованной бездомности.
Прикоснитесь к указателям. Они ещё теплы…
Курган
Астральная жизнь черепахи
Прозелит – словно новорожденный, отец его – Авраам, мать – Сарра, а биологические родители – чужие люди.
Из законов о переходе в еврейство
Николай Александрович выслушал сообщение, поблагодарил и пообещал немедленно приехать. Опустив трубку, он долго стоял, прислушиваясь к стуку сердца. От волнения кровь прилила к голове, в правом ухе зашумело, потом раздался тоненький свист и пошли голоса. За долгие часы прислушивания Николай Александрович научился их различать, обычно спорили двое – визгливый фальцет и приглушенный баритон. Суть спора уловить не удавалось; кроме русского, Николай Александрович не знал ни одного языка. Фальцет наступал, доказывал, переходя на угрозы, а баритон лениво оборонялся, отбрасывая доводы противника с барским мурлыканьем. Толку от этих прислушиваний было мало, но и спешить стало некуда; дела Николая Александровича давно кончились, читать долго он не мог – уставали глаза, в старом телевизоре сгорела трубка, а о покупке нового не приходилось и мечтать.
К голосам он привык, они даже веселили его, особенно когда переходили на крик. Николай Александрович пытался представить себе, как они выглядят: обладатель фальцета почему-то рисовался похожим на начальника ОТК его бывшего завода, а баритон больше всего подходил управдому. Не нынешнему, деловому обормоту с красной ряшкой, а прежнему, Подкорытову Василь Степанычу, процарствовавшему от сдачи дома до позапрошлого года.
Пошел человек в офис, а попал в перестрелку. Два качка вытащили из машины миномет, спокойно расставили треногу на асфальте, прицелились и саданули по соседней конторе. Взрывной волной Василь Степаныча выбросило из окна. Кто в кого палил, так и не разобрались, а Подкорытова через день похоронили на новом кладбище, далеко за городом. И хоть платил покойный партийные взносы до последнего своего часа, крест на могиле поставили истинно православный, с косой поперечиной. Теперь мода такая пошла – кресты ставить. Раньше звездочки вешали, а теперь вот кресты. Впрочем, какая разница под чем лежать.
Голоса исчезли. Он постоял у окна, пытаясь продышать дырочку в толстом слое наросшей за зиму наледи, и принялся одеваться. Путь предстоял не близкий, письмо привезли на другой конец города, а ждать автобуса надо было так долго, что старенькая дубленка выпустила бы на улицу последние остатки тепла. Про такси Николай Александрович даже не подумал. И в прошлые, советские годы такси и рестораны представлялись ему непозволительной роскошью, чем-то вроде наполовину узаконенного разврата. А сейчас, когда последнюю неделю перед пенсией он переходил на горячую воду с хлебом, мысли о такси обегали его голову десятой стороной.
А вот в ресторан бы сходил. Не пить водку и слушать новомодные песни о налетчиках, а вломить два бифштекса с горячим пюре, холодной хрустящей капустки, маринованных огурчиков, маленьких, с острыми пупырышками. На первое харчо – острый, с плавающими перчинками, окруженными глазками жира, потом бутылочку пива под бифштексы (бифштексы!) и финал – большой кусок торта, киевского, плюс мусс с шоколадом.
Он посмотрел на обувку. Непростой вопрос. Если подмерзло, можно идти в валенках, если начало таять, придется надевать ботинки. В ботинках удобней, но холоднее, а в валенках – точно в печке, но только если подмерзло.
Николай Александрович долго колебался, переводя взгляд с коричневых, тщательно расчищенных ботинок на серые валенки с большими квадратами заплаток. Дорога длинная, лучше ботинки. Ноги от ходьбы согреются, зато не придется думать о лужах.
Одевшись, он протянул руку к двери и вдруг, вспомнив, отдернул назад. Не снимая ботинок, Николай Александрович вернулся в комнату, подошел к стене и несколько минут простоял, вглядываясь в женское лицо на фотографии.
– Вот, письмо пришло, – наконец произнес он. – Пойду, узнаю… Не скучай тут без меня, ладно?
У двери он обернулся и, словно генерал перед битвой, окинул взором комнату. Комнату заполняли милые, но бесполезные предметы. Тускло отсвечивал перламутром рапан, его привезли из Крыма двадцать семь лет назад; швейная машина, предмет долгих унижений и просьб, возвышалась в углу, как памятник исчезнувшему уюту. Стереопроигрыватель «Вега» с двумя запыленными динамиками, двенадцать хрустальных фужеров в зеркальной витрине буфета, отрывной календарь на стене, замерший на апреле девяносто шестого года. В том году все кончилось для Николая Александровича и уже никогда не начнется вновь.
– Глупости, – он мотнул головой, подтянул шарф и вышел из квартиры.
От прикосновения холодного воздуха слегка свело кожу на лице. Подморозило, потекшие было ручейки превратились в узкие полосы посверкивающего льда. Одуряющий аромат талой воды пропал, стерильное дыхание мороза вытеснило робкие запахи весеннего пробуждения.
Аккуратно обходя озерки и потеки льда, Николай Александрович пересекал Курган – город своей жизни. Вот детский садик его доченьки, скучное квадратное здание в два этажа, вот троллейбусная остановка, почти сорок лет каждое утро он приходил сюда в любую погоду, вот скверик, где впервые поцеловал девушку. И чем светлее, чем радостнее были события, связанные с медленно уходящими за спину приметами, тем темнее и горше становилось на душе у Николая Александровича.
Проходя мимо зеркальной витрины магазина «Парижская мода», он остановился. Из витрины смотрел пожилой человек с красным от мороза лицом. Дубленка, стертая почти до подкладки, шапка из свалявшегося кроличьего меха, глаженые, но потерявшие в коленях цвет брюки. Голубые глаза навыкате чуть слезятся, наверное, от мороза. Или от понимания, приходящего к хорошо пожившему человеку. Впрочем, жил-то он по нормальным расценкам не так уж много. И главная, корневая часть жизни пришлась на последние пять лет. Вернее, так это определим: главная часть – когда начинаешь понимать, что вокруг происходит. Как с лампочкой: поворачивают выключатель в одну сторону – она загорается, в другую сторону – гаснет. Молчаливый исполнитель. И вот одним прекрасным вечером лампочка говорит выключателю: ты щелкай, сколько хочешь, но у меня на сегодня свои планы. Я теперь сама по себе.
Ноги стали подмерзать. Нельзя, нельзя останавливаться. Николай Александрович отвернулся от витрины и быстрым шагом двинулся дальше. До места он добрался вполне благополучно. По дороге заскочил в магазин, погреться. Напустил деловой вид, о чем-то спрашивал, озабоченно качая головой. Хорошо одетые юноши слегка презрительно отвечали на его вопросы, понимая, должно быть, что ничего покупать Николай Александрович не собирается. Ладно, ладно, холуйчики, сейчас некогда, но встретимся, встретимся в свободном полете…
Он вышел, посмотрел на вывеску. Не забыть бы. Да как забудешь, здесь раньше «Спорттовары» помещались, первые коньки доченьке тут брал… Покатаюся, поваляюся, дайте срок!
Он немного постоял на площадке первого этажа, приводя в порядок дыхание. Лифт работал, значит, в доме живут зажиточные люди. Понятное дело, разве бедняки ездят в такие поездки.
Звонок прозвонил еле слышно. Открыли не сразу, должно быть, изучали в глазок. Наконец дверь, обитая черной блестящей кожей, бесшумно приотворилась.
– Николай Александрович?
– Он самый.
– Заходите, пожалуйста.
За первой дверью оказалась вторая, металлическая. В узком тамбуре пахло жареной картошкой с луком. Пища богов.
Хозяйка, полненькая смуглая женщина средних лет, с крашенными под блондинку волосами, приветливо улыбалась. Под ложечкой запекло, Николай Александрович собрался и быстро поставил защиту. Ишь, разлетелся на картошечку, а месячные у хозяйки, поди, в самом разгаре.
– Заходите, раздевайтесь. Замерзли, наверное?
– Спасибо, спасибо, я только на минуту, – заотнекивался Николай Александрович, но принялся раздеваться. Тепло было в доме, чисто, до подкладки пропитано обустроенным духом. Вечерний чай, газета в кресле под торшером; милая, привычная, безвозвратно ушедшая жизнь. Он пожалел себя, впервые за последний месяц отпустил закрученные до упора гайки, и тут же слезы навернулись, затуманили глаза.
– Что с вами? – хозяйка встревоженно наклонила голову.
– Нет, нет, все в порядке, это от мороза.
Окаменевший на улице нос начал отходить. Защипало и между ногами, там, где протертые кальсоны уже не грели. Николай Александрович потер впалые щеки и несколько раз энергично пригладил отвисшую кожу под подбородком.
– Мороз – красный нос!
Из кухни появился муж, кругленький лысеющий толстячок в спортивном шерстяном костюме. Широкие малиновые полосы вдоль штанин делали его похожим то ли на генерала на отдыхе, то ли на швейцара в домашней обстановке.
– А вот и письмо.
Он слегка наклонился, словно отвешивая поклон, и протянул жене небольшой конверт. Жена, мило улыбнувшись, – вот мол, то самое – протянула его Николаю Александровичу. Еле сдержав гримасу отвращения, Николай Александрович осторожно протянул два пальца, но в последнюю секунду, когда хозяйка уже отпустила конверт, слегка отдернул руку, и конверт мягко спланировал на пол.
– Ох, извините!
Он резко присел, подхватил конверт и, сложив пополам, запрятал во внутренний карман пиджака.
– Дома почитаю, – объяснил он хозяевам. – Заварю чай, и не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой.
Насчет «расстановки» он слегка приукрасил: письмо оказалось тонюсеньким, максимум на один листок.
Запах из кухни усилился, наверное, картошка на сковородке дошла до последней стадии шкворчания и начала отвердевать, покрываясь хрустящей коричневой корочкой. Николай Александрович не сдержался и проглотил слюну. Глотая, он дернул головой, надеясь, что складки кожи замаскируют движение кадыка, но ошибся. Хозяйка отреагировала немедленно:
– Куда вы, с мороза. Оставайтесь, поужинаем вместе.
– Спасибо, – Николай Александрович провел для верности ладонью по борту пиджака, проверяя на хруст присутствие конверта, и встал. – Пора идти.
Мороз усилился. Пальцы ног совсем задубели, Николай Александрович время от времени переходил на осторожную трусцу. Холодно и страшно одинокому человеку в ночном городе. Не спасают ни мишурная веселость реклам, ни теплые огни иномарок. Пробегая мимо недавно восстановленной церкви, Николай Александрович остановился. Сколько он себя помнил, тут размещался краеведческий музей, со старыми картами, чучелами енотов, портретами знаменитых земляков. Теперь музей переехал куда-то на окраину, а в отреставрированном здании служат по три торжественные службы за неделю, словно стараясь восполнить годы, потерянные на созерцание траченных молью чучел.
Обряды Николай Александрович не жаловал, подозревая в них нечто фальшивое, неискреннее. Объяснить он не мог, но чувствовал кожей. Каждый раз при звуках песнопений она отзывалась мелкими мурашками стыда, неудобства за совершаемый обман.
«Чем пялиться на небеса, лучше бы заглянули в собственную душу», – думал он, брезгливо оглядывая воздетые хоругви и запрокинутые головы.
Но сегодня все было по-другому. Сам не зная почему, Николай Александрович сорвал шапку и принялся истово креститься. Никто его такому не учил, движения оказались странными, но приносили облегчение. Закончив креститься, он низко поклонился, нахлобучил шапку и затрусил дальше.
В квартире было чуть теплее, чем на улице. Раздевшись, Николай Александрович прошел на кухню, плотно прикрыл дверь, включил газовые конфорки на полную мощность и, протянув руки к огню, принялся терпеливо ждать. Через пять минут отпустила боль в пальцах, через десять перестали гореть щеки. Еще через полчаса, напившись свежего кипятку, он вытащил письмо, разорвал конверт и впился глазами в три строчки на маленьком, наспех вырванном из блокнота листке. Прочитав, он осторожно положил листок на стол и принялся расхаживать по кухоньке. Три шага вперед, поворот, три шага назад, поворот.
«Дождался, Казимир Станиславович, вот и этого ты дождался. Если быть терпеливым, все приходит само собой».
За последние несколько лет, проведенных наедине с самим собой, Николай Александрович прочитал все накупленные впрок подписные издания. В бесконечных разговорах, затеваемых с самим собой, он завел странную манеру называть себя именами любимых персонажей или писателей. Имена менялись в зависимости от расположения духа и времени суток. По правде говоря, Николай Александрович всегда жил с некоторый оглядкой на героев прочитанных книг. Они служили ему если не путеводной звездой, то, по меньшей мере, бакеном. Другому не научили, и в красном углу его сердца всегда мерцал огонек перед несколькими портретами.
Книжная жизнь представлялась Николаю Александровичу богаче и интереснее собственной. Путаница забот, мелочь, суета повседневности тушевались на фоне рассыпанных по страницам страстей. Их горечь казалось горше, а радость – веселее. Про героев Николай Александрович понимал почти все; выпуклые, четкие характеры можно было разгадать, а поступки предвидеть.
Вот и сейчас, называя себя Казимиром Станиславовичем, он почти физически ощущал присутствие на голове старого крепового цилиндра. Боль не стихала, но, чуть преображаясь, становилась немного книжной, и отходила в сторону.
На следующий день он купил авиабилет, побросал в чемодан оставшиеся приличные вещи, сходил в баню и к вечеру поехал на кладбище. Перед тем как выйти, он отпер дверь спальни и, не переступая порога, заглянул внутрь.
С того самого дня тут ничего не изменилось. Смятый халатик жены на разобранной постели, ее домашние туфли, пожелтевшая газета, осыпавшийся букет в вазе с ржавой каемкой высохшей воды. В комнате, словно чучело, стояла прежняя жизнь Николая Александровича. Он открывал спальню не чаще, чем раз в месяц, а заходил только на годовщину, передвигаясь осторожно и боязливо, будто священник в Святая святых. Совершив небольшой круг по комнате, он подходил к подоконнику, опускался на колени и надолго замирал, прижавшись лбом к мертвому дереву.
До кладбища Николай Александрович взял такси. В новой части могила жены была единственной, над которой не возвышался крест. Снег на граните растаял и подмерз, превратившись в неровную корку льда. Жена устало и пренебрежительно глядела с фотографии. Он постоял минут пять, рассматривая слегка раскосые глаза, завитушки волос, полные губы. Фотографию он выбирал сам, сам носил к мастеру, переплачивал, требуя наилучшего качества. Мастер не подвел, прошли уже четыре суровые зимы, но эмаль даже не потрескалась.
«Еду, вот… Вот, еду… Такое, видишь, дело, как не поехать». Он прислушался, словно ожидая ответа. Тихо. Просто тихо; даже ветер, обычно свистевший в перекладинах крестов, улегся перед забором.
«Молчишь. Сколько лет молчишь. Хоть знак подай, или приснись, я ведь знаю, ты слышишь. Ведь и оттуда меня не отпускаешь, тогда зачем уходила?»
Он постоял еще немного, прислушиваясь. Потом обиженно сжал губы, и, не оборачиваясь, пошел с кладбища. Тель-авивский рейс вылетал через четыре часа.
В самолете Николай Александрович чувствовал себя неуютно. Мелко подрагивающие крылья и тяжелый гул двигателей не внушали доверия. Не то чтобы он чрезмерно ценил свою жизнь, но инстинкт сам по себе шебаршился под ребрами, время от времени выпуская на шею и спину горстку непоседливых мурашей.
Ездил Николай Александрович мало. Несколько командировок, один раз по курсовке в Сухуми, вот и все. От Сухуми осталось чувство глубокого недоумения перед липкой жарой, крикливыми чучмеками и дрянной пищей. Про командировки лучше не вспоминать.
Отдыхать Николай Александрович любил дома. Патриотизм – да нет, какой патриотизм, он по-настоящему любил неброскую природу родной области, сосновые боры, мелкие речушки, заросшие темной травой, продутые ветром колки посреди полей. На летний отпуск он вместе с женой и дочкой всегда отправлялся в деревню, снимал у одной и той же хозяйки полдома на крутояре в Сосновке и проводил законные двадцать четыре плюс два за «дружину» в блаженном ничегонеделании.
Спал допоздна, тяжело поднимался, долго приходил в себя, пил чай на скамейке перед обрывом, разглядывая медленно плывущие по реке баржи. Потом гулял по лесу, курил, ходил в сельпо, неспешно закупаясь по списку, составленному женой. После обеда снова спал, но уже мало, к трем часам собирал снасти и отправлялся на рыбалку. Для удобства ловли Николай Александрович сколотил «козла» – насест из крепких, оструганных досок. Сложив снасти в авоську, он вешал ее на шею, подсаживал «козла» на плечи и заволакивал в реку. Косым, отработанным движением вгонял козлиные ноги в илистое дно и взбирался на насест.
Потом начиналось главное. Зажравшаяся речная рыба брала осторожно и редко, поплавок слегка подпрыгивал на мелкой ряби, выделывая неприхотливые коленца. Солнечные лучи, отражаясь от пляшущего водяного зеркала, завораживали Николая Александровича. Спустя десять-пятнадцать минут наблюдения за поплавком он впадал в странное оцепенение, не сон и не явь. Границы реальности расплывались, теряя непроницаемость, и сквозь образовавшуюся брешь валили видения, одно причудливее другого. Они не мешали реальности, а существовали как бы параллельно, на втором плане. Руки сами собой подсекали, вылавливали рыбешку, насаживали извивающегося в последнем танце червяка на черненое железо крючка, доставали из шапки папиросу и спички. Николай Александрович ясно слышал гудки катера, каждый час швартовавшегося к пристани на противоположном берегу, периодически поглатывал из чекушки, стынущей в авоське между ногами «козла», и параллельно со всем этим любимым и знакомым миром наблюдал причудливые картины, стелющиеся по поверхности воды. Ни объяснить, ни пересказать их он не мог.
Через четыре гудка водка заканчивалась, и солнце, валясь за крутой левый берег, прекращало свою безумную пляску на поверхности воды. Улов часто оказывался небольшим. Николай Александрович пересчитывал рыбу, не без удовольствия спрыгивал в прохладную вечернюю воду и, взвалив «козла» на закорки, брел домой. После двух недель такого времяпрепровождения производственные заботы уходили куда-то вбок и назад, а к концу отпуска в город возвращался другой человек. За всю жизнь Николай Александрович изменил своей рыбалке только один раз, о чем сильно жалел, и ошибку, допущенную, кстати говоря, только под давлением жены, больше не повторял. А посему его путешественнический опыт, несмотря на солидный возраст, оказался до смешного малым.
В иностранном самолете, то есть на территории чужого государства, Николай Александрович оказался впервые в жизни. Все здесь казалось иным: запахи, цвета панелей, надписи. И стюардессы – смуглые красавицы со слегка раскосыми глазами.
Еду начали разносить чуть ли не на взлете. Небесная смуглянка ловко вытянула столик из спинки впереди стоящего кресла, опустила на него поднос и, мило улыбнувшись, продолжила свой танец уже за спиной Николая Александровича. Поднос был затянут прозрачной целлофановой пленкой с печатями в виде раскидистого канделябра. За пленкой оказалось несколько коробочек с замысловато выглядящей снедью. Мясного Николай Александрович не ел уже несколько лет, но из-под крышки так аппетитно запахло… М-м-м, такого он еще не пробовал.
Через несколько минут поднос опустел, а голод только распушил свои усы. Когда красавица с подносом протанцевала мимо, Николай Александрович нашел глазами точку, в которой спина начинала переливаться в плавные полушария, и легонько кольнул взглядом. Чувствительность у стюардессы оказалась на высоте: она замерла, словно ужаленная, а затем круто развернулась, испуганно озираясь по сторонам.
– Неси его сюда, – не поднимая глаз, беззвучно приказал Николай Александрович.
Осторожно ступая, стюардесса приблизилась к его креслу. Ее движения утратили уверенность и быстроту, она двигалась, точно слепая, прощупывая ногами каждый сантиметр ковровой дорожки.
– Хочи-и-и-шь ку-у-ушать? – пропела[1] она, наклоняясь над креслом.
«Ишь, по-русски заговорила», – усмехнулся Николай Александрович.
– Да, да, если можно, то с удовольствием.
– Пожалу-у-уйста, – допела красавица, заменила поднос и двинулась к тележке.
Не поворачивая головы, Николай Александрович отпустил ее. Пройдя два шага, ничего не понявшая бедняжка встрепенулась и недоуменно оглядела пустой поднос в руках. Реакция у нее оказались не хуже чувствительности. Слегка дернув головой, она сунула поднос на нижнюю полку тележки, подхватила с верхней запечатанный и как ни в чем ни бывало затанцевала дальше.
Вторая порция пошла медленнее. Неспешно пережевывая мясо, Николай Александрович пытался проникнуть в тайну его вкуса. Последний кусок проскользнул и исчез, а тайна осталась неразгаданной. И только промокнув булочкой остатки подливы, он понял. От еды не пахло смертью…
Откинувшись на спинку кресла, Николай Александрович прикрыл глаза и приготовился слушать. Голоса возникли сразу, точно выскочив из-под опустившихся век. Старые знакомые – фальцет и баритон. Перекинувшись несколькими словами, они прокашлялись и запели. Песня потянулась грустная, жалобная. Николай Александрович разобрал только одно слово – «припечек». Мелодия убаюкивала; на всякий случай он приоткрыл глаза и еще раз оглядел спинку переднего кресла, уже спящего соседа слева и читающую газету старушку через проход. Ничего не изменилось, но выглядело иначе, будто на изображение поставили цветной фильтр. Музыка подхватила его душу, соединилась с ней и понесла в другое место. Он прикрыл глаза и поплыл.
Необычное стало приключаться с Николаем Александровичем сразу после свадьбы. Уже к концу медового месяца он с удивлением заметил, что любая женщина, на которой останавливался его взгляд, начинала ежиться и поправлять одежду. Одни искали выпавшие из-под платья бретельки, другие, краснея, тянули вверх ворот, словно Николай Александрович намеревался заглянуть к ним за пазуху, третьи одергивали юбку. Спустя полгода наблюдений женщины начали спотыкаться, а некоторые даже падать. Вскоре и жена обратила на это внимание.
– Повали-ка красотку, – смеялась она, указывая на ничего не подозревающую диву в шубе и пышной песцовой шапке. Николай Александрович вглядывался повнимательней, и – трах! – импортные сапоги разъезжались, а дива тяжело плюхалась на задницу.
Весной, через год после свадьбы, они стояли с женой на автобусной остановке, поджидая долго не идущую «семерку». Другие номера прошли уже по два раза, а «семерки» все не шла. Николай Александрович злился, курил не переставая. Мрачные мысли тяжело, будто свинцовые шары, перекатывались в начинавшей болеть голове. Жена, заметив перемену в его настроении, пыталась шутить, деланно веселым голосом болтала глупости. Наконец, подошла «семерка», и вместе с ней к остановке подбежал парень с блестящими от радости глазами. В руках он сжимал большой арбуз, вещь по весне невиданную. Николай Александрович только бровью повел, и арбуз, вырвавшись из рук парня, брякнулся оземь и разлетелся на десятки кусочков. Парень поначалу замер с открытым ртом, а потом заплакал. Ненормальный, разве так горюют по какому-то арбузу? Уж кому там он его вез: родителям, невесте или просто друзьям – неизвестно, но от обиды он так и не сел в автобус, а остался на остановке, по-мальчишески всхлипывая. Спустя несколько минут, когда внимание пассажиров заморочилось, жена крепко взяла Николая Александровича под руку и сказала тихим злым голосом:
– Ты, Николаша, держи себя в руках. Послал Господь тебе дар, так не озоруй, не мучай людей. Иначе не будет нам с тобой ни жизни нормальной, ни любви, ни покоя.
Точно в воду глядела. Сказала – и получилось. Бывают в жизни человека минуты, когда все сказанное тут же вписывается в Книгу. Ох, как осторожно нужно язык поворачивать, ох, как осторожно.
Самолет начал замедлять движение, точно влетел в гигантскую паутину. Постепенно напрягаясь, паутина выбрала слабину и принялась толкать его обратно. Николай Александрович испуганно открыл глаза. В салоне по-прежнему было тихо. Похоже, что никто не заметил ни паутины, ни замедления хода.
«Боинг» чуть вздрогнул, разрывая невидимую сеть, и, освободившись, метнулся вперед. За окном косым срезом стояли облака. Сзади – почти черные, с голубыми, наподобие вен, прожилками, прямо и спереди – седые, с розовыми вершинами. Они походили на составленные в ряд гигантские щиты. Пение изменилось: к голосам примешалось отрывистое тявканье, будто за тонкой обшивкой борта по слоистому насту облаков неслась стая голодных лисиц.
«Спи, спи, Игорь Олегович, до посадки еще четыре часа. Кто знает, когда еще спать получится».
К просьбе жены Николай Александрович отнесся самым серьезным образом. Поскольку падения происходили с теми, на ком он останавливал взгляд, Николай Александрович приучил себя смотреть в сторону, мимо собеседника. Эта элементарная мера безопасности и человеколюбия послужила пищей для множества слухов и нареканий.
– Задается, Колян, ишь рожу воротит, – вскоре отметили сотрудники. – Видать, «спиной» обзавелся, скоро в гору пойдет. Дистанцию начинает держать.
Слухи – штука обоюдоострая. Пущенные наугад, от живости воображения или избытка свободно-рабочего времени, они возвращаются в виде приказов и постановлений, позволяя автору испуганно-блаженным голосом восклицать:
– Ну, я вам говорил?
Большую часть своей жизни Николай Александрович проработал начальником БТК – бюро технического контроля на большом заводе. Поскольку предприятие относилось к Министерству станкостроения, его продукцию осторожно именовали станками. Завод был огромным, от цеха к цеху ходили автобусы, а число работников исчислялось десятками тысяч. Занимал он гигантскую площадь на окраине города, а вернее, город скромно умещался на окраине завода, поскольку и строился как жильевой придаток, место проживания и размножения рабочей силы. С юга завод омывала река, а с севера, востока и запада окаймляли бескрайние полигоны, по которым круглосуточно, рыча и плюясь вонючим дымом, носились станки.
После вуза Николая Александровича, тогда просто Колю, направили в БТК старшим контролером. За восемь лет верной службы он выбился в замначальника бюро, и на этом этапе его карьера остановилась. Продвинуться в густой массе ИТР помогали только протекция или партийная работа. Ни к тому, ни к другому Николай Александрович не ощущал ни вкуса, ни призвания. Его начальник просидел в замах двадцать лет и пробил потолок почти на пороге пенсии. Такая же судьба ждала и Колю, но помог случай.
Каждую весну заводоуправление белили, красили двери и окна. Летом обычно начинался хоровод высоких гостей, их водили по раз и навсегда выработанному маршруту, который начинался и заканчивался у дверей главного корпуса, выстроенного в помпезно-классическом стиле. В чем состоял замысел архитекторов пятидесятых, уже никто не помнил, но здание сильно походило на театр. Шуток сей факт породил немало, от малопристойных до неблагонадежных. Во всяком случае, громадные, от самого пола окна раскрывали только раз в году, при покраске, а все остальное время элита, заселявшая корпус, довольствовалась фрамугами, встроенными посреди античного великолепия.
Главный контролер завода сидел в главном корпусе и раз в неделю собирал начальников БТК для головомойки. Кабинет его располагался на пятом этаже, и окна лестничной клетки, выполненные в том же стиле, то есть от пола до потолка, были раскрыты. После окончания процесса распаренная публика повалила вниз, а Колин начальник остался покурить на площадке. Его хватились только после обеда, принялись вызванивать по отделам и участкам, но обнаружили у главного корпуса, посреди бочек с краской. Как это произошло, не выяснила даже спецбригада следователей. Согласно официальной версии, Колин начальник курил у окна и по неосторожности свалился вниз. От удара его позвоночник сломался в четырех местах, но он прожил еще несколько минут и даже полз, пытаясь выбраться из-за скрывавших его бочек. Слухи ходили разные, от диверсии японских шпионов до сведения любовных счетов, но слухами все и закончилось. Колиного начальника под звуки заводского оркестра снесли на кладбище, а Колю, вернее, уже Николая Александровича, поставили на его место.
Голоса исчезли. Вместо дуэта на фоне лисьего лая остался только фон. Николай Александрович открыл глаза. Наверное, он спал. Оранжевые надписи возвещали о скорой посадке, а за окном стояло непривычно голубое небо без единого облачка. Он прислушался: лисицы, словно испугавшись, затихли. Только где-то в глубине ушной раковины или даже в подкорке, там, где запахи, звуки и вкусы превращаются в импульсы, еще трепетал отзвук их голосов.
Баритон и фальцет исчезли. Не надолго; надолго они не уходили. За десяток лет совместной жизни Николай Александрович уже привык к их внезапным исчезновениям и приходам и относился к ним со спокойным достоинством свершившегося несчастья; так жена, открывая под утро двери подвыпившему мужу, хочет верить, будто и эту ночь он просидел за преферансом.
Перед «голосами» Николая Александровича навещали «посланники». Поначалу он не понимал, что происходит. Особенно в первый раз, когда на втором этаже центрального гастронома, там, где царил одуряющий аромат свежемолотого кофе, к нему обратился незнакомый оборванец. Мелкого роста, в кургузом пиджачке с лоснящимися лацканами и выдранным нагрудным карманом, он аккуратно взял Николая Александровича за пуговицу и потянул на себя.
– Ты чего, мужик? – не понял Николай Александрович. – Ошалел?
Руки у него были заняты; на левой висела авоська с двумя пачками чая, пакетом сахара и кульком кофе, а правой Николай Александрович сжимал коробку с «Киевским» тортом. Будь руки свободны, он бы не позволил так с собой обращаться, но бросать на пол продукты не хотелось, поэтому пришлось вступать в переговоры.
– Ну, чо, чо прицепился? Если денег, так нету. На сегодня деньги кончились.
– Молодец! – задумчиво произнес оборванец. – Правильной дорогой идешь, товарищ. Дуй до горы, не стесняйся. А деньги тебе будут: справа у входа стоит урна, поищи за ней.
Он дернул легонько пуговицу, вьюном повернулся через левое плечо и сыпанул вниз по лестнице. Преследовать его Николай Александрович не стал: с хренов ли, спрашивается, гонять за сумасшедшим; но, посмотрев на пиджак, пожалел, что не погнался. На месте пуговицы зияла огромная дыра: легким движением руки оборванец ухитрился выдрать клок материала вместе с подкладкой. Отодвинув локтем полу пиджака. Николай Александрович обнаружил такие же дыры на рубашке и майке, то есть паршивый проходимец безнадежно испортил сразу три вещи.
Как всегда в минуты обиды, в нем начал закипать гнев, тут же перерастающий в бешенство. Безумная, неподотчетная ярость всегда вывозила его в самые опасные моменты. Противники, за секунду до того полные насмешливого превосходства, терялись и отступали, предпочитая не связываться. И правда, связываться не стоило, в эти секунды Николай был готов на все, на все до конца, без исключения, лишь бы выжечь и выломать врага. Потом припадок проходил, оставляя за собой обильный пот и вкус жженой резины во рту. Где-то внутри, в черной глубине организма, будто действительно перегорал кусочек души; несколько дней после приступа Николай ходил опустошенный, часто глотая воздух чуть перекошенным ртом.
Так выкладываться не стоило даже из-за костюма и рубашки.
«Черт с ним, – подумал он, сдерживая ноги, рвущиеся раскатить по лестнице звонкую дробь погони, – черт с ним».
На улице накрапывало; реденький дождь неспешно сыпал из-за козырька. Николай замешкался у входа, опасаясь за сахар в авоське, и увидел урну. Она стояла справа от двери, переполненная окурками, клочьями промасленной бумаги, кусками шпагата, смятыми газетами и прочим мусором. Преодолевая отвращение, Николай перегнулся и заглянул в узкую щель между стеной и корпусом. Пусто.
«Вранье, конечно вранье. Сумасшедший, плетет ерунду, а ты ушки развесил», – и в ту же секунду увидел кошелек. Крупный, блестящий, с узором под крокодиловую кожу, он лежал прямо под ногами. Как его не заметили, не подобрали – чудо, просто чудо; кошелек взывал: «Возьмите, возьмите меня!»
«Иди сюда, золотая рыбка», – Николай перехватил авоську и торт в одну руку, нырком присел и подхватил находку.
«Пойдем, посчитаемся».
Денег в кошельке оказалось ровно на восемь Николаевых зарплат. Большие деньги, нечего говорить. Другой бы на его месте схватил и побежал, но Николай еще полчаса топтался у входа, демонстративно помахивая находкой. Хозяин бы сразу догадался, в чем дело, а для прочей публики – так, мается мужик, жену поджидает. Деньги он, правда, предусмотрительно переложил подальше во внутренний карман пиджака, от шпаны и дурного случая. Мало ли швали шлендает вечером у входа в гастроном?
Ровно через тридцать минут истек срок выполнения долга, Николай подхватил такси и с шиком помчался домой.
– Мебель купим, – сказала жена, выслушав рассказ и пересчитав деньги. – «Хельгу», если переплатить, достанут. А это откуда?
Он вытянула из бокового отделения кошелька полоску картона.
«Учиться, учиться и еще раз учиться!»
– Глупости, – Николай скомкал бумажку. – Закладка из последнего «Блокнота агитатора». Я тоже получил.
– Может, глупости, а может, и нет. Поживем – увидим.
Жить с новой мебелью стало куда приятнее. Особенно понравилась Николаю двуспальная кровать с высокими полированными спинками и огромным упругим матрацем. Уж как давили они его, как топтали и мучили, не удивительно, что через два месяца жена понесла.
Несколько недель после встречи Николай прожил в ожидании, резко оборачиваясь на шаги за спиною, прислушиваясь в автобусе, озираясь при входе в парадное собственного дома. Но ничего не происходило, просто совсем ничего. Когда напряжение спало, жена завела странный разговор:
– Ты бы, Коля, действительно, пошел бы учиться, – сказала она, причесываясь перед сном. Силу своих волос она хорошо знала: стоило ей распустить их, и Колю начинало одолевать непреодолимое томление. В такие минуты он был согласен на все, послушно, будто бык на веревочке, следуя за нитью разговора.
– Книжки бы почитал, или в себя заглянул, если читать неохота.
– Да чо глядеть-то, кого я там не видал?
– Прислушайся, приглядись… Тогда и объяснять не понадобится.
О чем шла речь, Николай Александрович понял гораздо позже. Тогда предмета для разговора еще не существовало, и прислушивания ни к чему не привели.
Беременность жена переносила тяжело, мучилась, лежала на сохранении. И роды оказались нестандартными, ребенок лежал попкой книзу, словно не желая покидать уютный мир маминого животика. Живот разрезали, и сморщенное тельце вытащили на свет.
– Красавица, – сообщила в записке жена. – Твоя дочь просто красавица!
Что замечательного углядела она в красном мышонке с испуганными бусинками глаз, Николай не разобрал. Принимая из нянечкиных рук белый конверт с дочкой, он долго не мог нащупать маленькое тельце. Ему даже показалось, будто внутри никого нет, а ребеночка по ошибке забыли в роддоме. Заметив его беспокойство, жена забрала конверт и принялась за поиски. Девочку нашли в самом дальнем углу, она съежилась, свернулась в комочек и лежала тихо-тихо, ровно настоящая мышка. Такая она и выросла: тихая, закрытая в себе.
– Ну, доча, – иногда не выдерживал Николай Александрович, – расскажи, как дела у тебя. О чем думаешь, чего хочешь?
– Для победы, папа, – отвечала Мышка, – нужна внезапность, а значит – скрытность.
Эту фразу она вычитала из своей любимой книги, жизнеописания Наполеона. Мышка знала ее наизусть и цитировала при любом удобном случае.
Впрочем, поначалу Николаю показалось, что характер у девочки открытый, если не сказать бурный. Дочка орала днями напролет, без всякого снисхождения к измотанным нервам родителей. Особенно досталось Николаю, когда у жены началось послеоперационное воспаление, и он оказался один на один с орущим чудовищем. Пришлось взять отпуск и превратиться в кормящего отца. Жена пролежала в больнице два месяца, ее оперировали еще несколько раз, и детей после хирургических вмешательств у них больше не было.
Посреди сует и беготни Николаю стало решительно не до наблюдений. Впрочем, иногда он обращал внимание на странные фразы медсестер, обрывки фраз случайного разговора в трамвае, надписи мелом на асфальте перед домом. Факты пробегали по краю сознания, пока не вторгаясь в осмысливаемую зону, но твердо занимая места в последних рядах памяти.
Так прошло несколько лет. Жизнь устоялась, вошла в колею, притерлась по напряженной шее. На знаки и посланцев Николай перестал обращать внимание. Конечно, попадись ему снова кошелек, он бы, возможно, и призадумался, но кошельки больше не попадались, и странная история постепенно погрузилась на дно, в темные бездны подкорки.
В тот день он засиделся на реке почти до темноты. Стояла середина лета, над блестящей поверхностью воды беспрерывно перепархивали с одного берега на другой зеленые стрекозы. Из прогретого леса тянуло густым запахом хвои, ароматом гнилых пней, грибов, можжевельника. Чекушка кончилась; Николай замер на «козле», как бы вплавленном в зеркало реки. К пристани подошел катер, машинист заглушил мотор и швартовался по инерции. На борту приглушенно играло радио, медленный вальс. Немногочисленные пассажиры осторожно переговаривались, их голоса вместе с вальсом и шипением воды под носом катера тонули в вязкой тишине.
Николай с трудом выволок «козла» на берег, взгромоздил на закорки и побрел к дому. «Козлина» насосался воды и солидно прибавил в весе. Николай не спешил. Трех рыбок, осатанело метавшихся в целлофановом кульке, он отпустил с миром, ужинать не хотелось. Приятно было идти по теплой пыли, приятно напрягать заснувшие от долгого сидения мышцы. Мокрая рубашка холодила спину, пряный запах мокрого дерева щекотал ноздри. Сосны отбрасывали на дорогу резкие, словно выпиленные лобзиком тени. Где-то за рекой позванивало ботало, колхозное стадо тянулось домой.
Сзади послышался шум приближающейся машины, затем визг тормозов. Воздушная волна толкнула Николая в спину. Он обернулся. Старенький «Запорожец» остановился в полуметре, дверь распахнулась, и на дорогу выпорхнула красавица в бальном платье. Как она ухитрилась не смять его в горбатых недрах, понять было невозможно. Дырявя придорожную пыль каблучками белых туфелек, она подбежала к Николаю и отвесила ему увесистую оплеуху. Для такой нежной ручки удар оказался неожиданно сильным, правую щеку будто обожгли кипятком.
– Негодяй, – выкрикнула красавица и для симметрии зафитилила Николая по левой щеке. – Сколько сил на него потрачено, сколько энергии переведено, а он водку жрет и на солнышке греется! Нишкни, поганец!
Круто повернувшись, она протанцевала обратно к машине, впорхнула в нее и захлопнула дверь. Все эти действия заняли не больше минуты, оторопевший Николай еще не успел разжать руки, сжимавшие мокрую «козлину», как «Запорожец» развернулся и, презрительно пукнув бензиновым перегаром, рванул обратно. Завершая поворот, водитель высунул руку из окна и дружески помахал Николаю. Через несколько секунд звук мотора затих, и, кроме горевших огнем щек, ничто не напоминало Николаю о перенесенном унижении.
Он сбросил опостылевший насест прямо на дорогу и уселся у обочины.
«Ошибка, явная ошибка. Перепутали меня с кем-то другим. Но платье, туфельки, прическа. Просто фея! Ну, ну, хорошенькая фея; несется в лесную глушь набить морду незнакомому человеку. Просто баба-яга!»
Он покачал головой, погладил щеки, вытащил из-под шляпы пачку сигарет и замер. Он вспомнил. За рулем «Запорожца» сидел тот самый тип, пришелец из гастронома.
Вернувшись на дачу, Николай Александрович долго не мог успокоиться, курил на крыльце, сморкался без всякой надобности, ковырял в зубах острой щепкой. По всему выходило, что нужно бросать пить, то есть завязывать бесповоротно, на двойной морской узел. Но вот именно этого-то и не хотелось делать. Через два часа раздумий он все рассказал жене.
– Свершилось, – она поцеловала его с удвоенной нежностью. – Прозрел слепой котенок. Скоро зубки начнут прорезаться.
С того самого дня пошла в жизни Николая Александровича совсем другая музыка. Слова жены, так долго лежавшие на сердце, провалились, наконец, в его глубину, и странные намеки, фразы из-за угла и надписи на заборе сложились в единую картину.
Несколько месяцев он с леденящим душу весельем наблюдал за хороводом, проносящимся через его жизнь. Каждый поступок, фраза, мысль немедленно получали осуждение или поддержку. Надо было только смотреть во все глаза, и ответ на любой вопрос приходил сам собой. Николай Александрович ставил эксперименты: спрашивал пример доказательства теоремы Ферма или формулу тринитронуклеидов. Ответ приходил почти сразу, то в виде забытого кем-то на скамейке журнала «Квант», то из телевизионной передачи. Убедившись в неслучайности совпадений, Николай Александрович сначала испугался, потом загрустил, а потом, наслушавшись славословий жены, потихоньку уверовал в собственную исключительность.
– Слушай, – не уставала повторять жена, – слушай себя.
– Ну, прямо часовой на сторожевой башне, слушай да слушай, – отшучивался Николай Александрович. – Кого внутри слушать, голос желудка?
Жена не отвечала, но улыбалась лукаво и многозначительно. Улыбка словно намекала на грядущие перемены, драматическое развитие вялотекущих событий. И события не заставили себя ждать. Началось с того, что в голове у Николая Александровича стали возникать незнакомые слова. Неожиданно, сами по себе они поселялись на переднем крае, беззастенчиво требуя внимания. Поначалу Николай Александрович лез в словари, но быстро сдался. Слова обнаглели и потихоньку превратились во фразы. Не произнесенные вслух, но вполне различимые внутренним ухом, они, словно вывески, обозначали вход в неизведанные глубины, манящие и одновременно пугающие.
Преимущества нового положения Николай Александрович освоил довольно быстро. Не замахиваясь на высокое, он приспособил внутренний автоответчик для решения насущных бытовых проблем. К примеру, посылает его жена в магазин за молоком, а Николай Александрович, помедитировав несколько минут, сообщает: молоко кончилось, а новое завезут только к концу дня. Или на планерке вдруг понадобятся данные из годового отчета, а отчет в конторе остался, десять минут ходьбы в одну сторону. Хорошо, когда погода теплая, прогулялся и дело с концом, а как минус тридцать завернет? Посидит Николай Александрович, подумает и сообщит точные цифры. Поначалу ему не верили, проверяли, думали – фокусничает, а потом смирились, признали.
Через полгода работы с новым каналом Николай Александрович почувствовал, что скорости начинает не хватать. Привыкнув пользоваться, он стал обращаться ко «всезнайке» по любому поводу, вплоть до того, куда поутру завалился второй носок. Ответ появлялся, но пока возникали слова, пока они складывались во фразы, проходило изрядное количество времени. Честно говоря, речь шла о минутах, но Николай Александрович уже не хотел ждать и даже покрикивал на нерасторопного. Такая простота отношений, отдающая панибратством и циничным использованием, второй стороне показалось излишней. Однажды утром, после особенно сильных выражений, связанных не лично с автоответчиком, а с автобусным расписанием, не позволявшим тратить драгоценные минуты на ожидание ответа, Николай Александрович услышал голос.
Ровный и мелодичный, он принадлежал, судя по интонации и тембру, инженерно-техническому работнику сорока-пятидесяти лет.
– Не спрашивай, кто я, – начал он, мягко раскатывая «р» и слегка, но только слегка, окая. – Придет время, получишь ответ. А пока знай: я твой друг и хочу добра. Если будешь слушаться моих советов и ходить по путям, которые я укажу, – обещаю много удовольствий и власть над людьми. Если же нет, наказывать не стану, но жить так, как жил до меня, – уже не сможешь. Дверь открывается только в одну сторону.
Напуганный таким началом Николай Александрович несколько часов делал вид, будто голоса не существует. Его и вправду не было слышно, но внутри Николая Александровича произошла перемена, точно в темном углу сознания зажегся маленький светильник и казавшееся кошмарным теперь уже не выглядело таковым. Внутренний свет сопровождал Николая Александровича весь день, меркнул он только при отправлении естественных надобностей. Вечером, погасив свет и привычно положив руку на мягкое бедро жены, он неожиданно для себя спросил:
– Можно?
– Почему нет, – деликатно отозвался голос. – С женой, в супружеской постели. Сколько угодно.
– Неудобно. Словно на людях.
– Не стыдись. Я – это ты, только в другом мире. Раньше я посылал тебе мысли, а сейчас говорю прямо, не маскируясь. Не всякий поднимается на такой уровень, скажу тебе, далеко не всякий. Я рад за нас и горд.
Весь диалог промелькнул в сознании Николая Александровича за считанные доли секунды. Ладонь еще продолжала движение, вжимаясь в теплую кожу бедра, а решение уже было принято. Жена, будто почувствовав необычность происходящего, стремительно повернулась, прижалась всем телом к Николаю Александровичу и принялась его целовать с забытой страстью начала супружества.
Под брюхом самолета раздался хлопок, и скорость заметно упала. Николай Александрович посмотрел в окно: закрылки, вывернутые навстречу воздушному потоку, резали облако на длинные полосы. Крылья влажно блестели, далеко внизу под ними синело море. Облако кончилось, будто выключенное, и на горизонте показалась полоска берега.
«Подлетаем», – Николай Александрович отвернулся от иллюминатора и прикрыл глаза.
С появлением голоса из его жизни исчез туман непонимания. Туман-то рассеялся, но возникшая ясность не согревала. Голос вел себя по отношению к Николаю Александровичу весьма строго, если не сказать сурово. Отвечал не на все вопросы, постоянно порывался читать морали, требовал повиновения, суля за него кисельные берега. С удовольствием поставляя диковинную информацию типа количества звезд в галактике «Лошадиная голова» или веса электрона гелия, категорически отказывался сообщать такую незамысловатую вещь, как номер выигрышного лотерейного билета. Однажды на дне рождения жены начальника параллельного БТК Николай Александрович в шутку осведомился о цвете трусиков именинницы и тут же получил щелчок по ушам. Боль оказалась весьма ощутимой, несколько минут Николай Александрович просидел, сжавшись в комочек и повизгивая как провинившийся цуцик. Именинница бросилась утешать, гости всполошились, только жена, спокойно потягивая ситро из запотевшего стакана, успокаивала публику:
– Сейчас пройдет, у него иногда так бывает.
Такого в жизни Николая Александровича еще не случалось, и поэтому, а может, по другой, пока не осознанной причине, самоуверенный голос жены впервые возмутил его до глубины души.
В знак неповиновения и протеста он принялся вовсю ухлестывать за именинницей, несколько раз наполнил ее бокал, галантно вскинулся поднести огонь к сигарете и в довершение первой фазы пригласил на танец.
Посреди комнаты уже переминались несколько пар. Всем хорошо за сорок; руководители среднего звена и их жены. Заводской круг общения достаточно четко регулировался местом на служебной лестнице. Элиту составляли главные специалисты и начальники цехов. Замначальники и завотделами входили во второй эшелон, дальше шла мелкая сошка: снабженцы, плановики прочие ИТР. Публика рассортировывалась по уровням безошибочно – каждый сверчок был хорошо осведомлен о размерах и месторасположении своего шестка. Исключения, впрочем, имели место. Получивший повышение зам мог либерально походить с полгода-год в старую компанию, или инженер-гитарист бывал допускаем на гулянки второго эшелона, дабы, захмелев и расстегнувшись, попел для услады присутствующих «…а в тайге по утрам туман» или другое, не менее душетрепещущее. Компанию Николая Александровича составляли постоянно усталые, много работающие люди. Танцевать они не умели: все танцы делились на быстрые и медленные. Исполняя медленные, партнеры усиленно покачивали верхней частью туловища, удерживая на лицах гримасу ухарства и веселья. Ноги при этом оставались почти неподвижными. На быстрые пары сбивались в круг, где каждый переминался во что горазд, то ли изображая езду на велосипеде, то ли быструю ходьбу по эскалатору. Ухарское выражение постепенно сползало, уступая место привычной озабоченности; со стороны веселье выглядело более чем странным: группа взрослых людей с напряженными лицами непонятно для чего топталась посреди комнаты.
Исключение составлял Ерема Кривой. По-настоящему его звали Семен Ровный, но пересмешники не упустили случая пощелкать клювами. Работал Ерема завстудией бальных танцев при заводском ДК и помимо несомненных достоинств тапера обладал незаурядным даром рассказчика. Удивительные истории сыпались из него как пшено из дырявого мешка. Сочинял он их за доли секунды и по любому поводу, но совершенно серьезно убеждал собеседника в абсолютной подлинности придуманной на ходу дурки. Настоящий артист, Ерема первым верил своим вракам, и довольно часто его искренняя убежденность передавалась окружающим. В компании он слыл незаменимым тамадой и балагуром, потому и был допущен в элиту среднего звена.
Николай Александрович любил наблюдать за Еремой во время танца. Двигался тот мало, то ли экономя энергию, то ли не желая снисходить до уровня публики, но по его телу словно пробегали волны. В точном соответствии с ритмом музыки волны раскачивали Ерему; небрежно отмахивая руками, он скользил между топтунами, плавность его движений подчеркивала их неуклюжесть.
К удовольствию от наблюдения примешивалось некоторая гадливость: по слухам, любовный интерес Еремы не ограничивался особами противоположного пола. Узнав о предполагаемом содомизме, Николай Александрович перестал подавать ему руку; в тех же случаях, когда отвертеться не удавалось, мягкая, обволакивающая кисть ладонь Еремы будто приглашала к противоестественным утехам. От такой перспективы к горлу подкатывался тошнотворный ком, а мышцы таза сжимались, затрудняя передвижение.
Впрочем, одна парочка не просто растрясывала обильный обед, а явно возилась по делу. За внешне безразличными телодвижениями Николай Александрович четко проглядывал сексуальную напряженность. Честно говоря, он всегда воспринимал танцы как узаконенную возможность обнять просто так недоступную бабу. В юности Николай Александрович танцевал только для приближения к цели, никакого художественного удовольствия от па и коленец он не получал. Выбрать подходящий объект, пригласить, обнять, завести разговор – вот единственно разумная цель мужского изобретения, именуемого танцульками.
Правда, иногда неплохо бывало слить избыток энергии, но когда это бывало в восемнадцать, двадцать, внутри все трещало под напором гормонов. Потребность в разрядке резко пошла на убыль после двадцати пяти и сошла на нет с началом семейной жизни. Усталые командиры среднего звена танцевали по инерции, соблюдая общепринятую форму культурного веселья, но главное – для утряски заглоченной пищи.
Обняв Аллу и войдя в незамысловатый ритм танца, Николай Александрович неожиданно для самого себя ощутил прилив сил и связанный с ним подъем тонуса. Правая рука сама собой, будто невзначай опустилась немного ниже той черты, которую по правилам хорошего тона пересекать не позволялось. Там оказалось тепло и выпукло, рука, расположившись поудобнее, слегка сжала пальцы. К удивлению, Алла не возмутилась, а принялась хохотать, будто услышала нечто смешное, и в пароксизме хохота прижиматься к животу Николая Александровича. Прикосновения оказались настолько откровенными, что принять их за ошибку или за неуклюжее па не представлялось никакой возможности.
– Влип, болезный, – вдруг услышал он голос, – вступай теперь в отношения. Алла – девушка заводная, пока пружина не распрямится, не отпустит.
Такая сладостная перспектива мгновенно напугала Николая Александровича. Честно говоря, женщины давно перестали его интересовать. Произошло это само собой; перед свадьбой он еще заглядывался на проходящих блондинок, подмигивал девушкам. Заигрывал направо и налево и, как всякий молодой мужчина, никогда не упускал случай, ежели таковой выдавался. Жена словно заворожила его, через несколько месяцев совместной жизни чары прочей половины человеческого рода значительно ослабели, а через полгода все женщины, кроме жены, стали откровенно противны, если не омерзительны.
Он оглянулся на нее, безмолвно взывая о помощи, но она, мило улыбаясь, щебетала о чем-то с Борей, жену которого Николай Александрович не переставал обжимать. Самое удивительное состояло в том, что рука перестала слушаться своего хозяина. Николай Александрович со страхом и удивлением ощущал ворсистую структуру юбки, гладкий нейлон нижней рубашки, упругость резинки трусиков. Он попытался завладеть обнаглевшей конечностью, резко потянув ее вверх, но не тут-то было: рука жила отдельной жизнью, начисто игнорируя указания бывшего владельца.
Алла, прижавшись до хруста бюстгальтера, зашептала взволнованным шепотом:
– Милый, успокойся, люди смотрят, давай уйдем, уйдем, куда захочешь, хоть в ванную.
Строптивая рука продолжала свою предательскую деятельность. Николай Александрович развернулся спиной к танцующим и потихоньку отвальсировал Аллу к выходу в коридор. Не расцепляясь, вроде танцуя, они дотоптались до двери в ванную, Алла быстро повернула ручку и через секунду, прижав дверь уже изнутри, вздернула юбку. Голова Николая Александровича пошла ходуном, неистовым усилием воли он вырвал руку и отшатнулся. Трусики оказались розового цвета.
– Видишь, – голос налился елейным ехидством, – ответы на многие вопросы ты вполне можешь отыскать самостоятельно.
Небольшая ванная наполнилась ароматом духов Аллы и запахом ее тела. Когда-то подобный букет действовал на Николая Александровича точно хороший удар по затылку: в глазах темнело и все, кроме желанной цели, отступало на второй план. Теперь же, помимо легкого отвращения и досады за неловкость ситуации, он не испытывал ничего. Деваться, однако, было некуда; Алла прижалась губами к его лицу и ждала, слегка подрагивая крупом.
Откуда пришла к нему спасительная мысль, Николай Александрович уже не помнил. Голос подсказал или сообразил сам, неважно, но выход оказался до смешного прост. Отшатнувшись от Аллы, он несколько раз утробно прорычал, изображая позывы на рвоту, а затем, резко повернувшись, склонился над раковиной умывальника. Рука уже повиновалась, он тут же засунул пальцы в рот с таким ожесточением, точно хотел достать ими до затылка. И желанная рвота пришла, хлынула, разлетаясь желтыми брызгами по кафельным стенкам ванной.
Любовь на этот вечер кончилась. Бывалая Алла помогла Николаю Александровичу привести себя в порядок, одернула юбку и ускользнула к гостям. Вернувшись в гостиную, он натолкнулся на взгляд жены. Улыбалась она по-прежнему мило, но в любимых карих глазах совершенно явственно проглядывало торжество победителя.
На следующий день Николай Александрович обратился к ортопеду. Врач долго щупал руку, давил, поворачивая в суставах, колол иголочками.
– С моей точки зрения, от нормы отклонений нет, – сказал, закончив осмотр. – Если повторится – обращайтесь к невропатологу.
– Потом к психологу, – добавил голос, – за ним к психиатру, а там рукой подать до сумасшедшего дома.
Ни к какому невропатологу Николай Александрович, понятное дело, не пошел. Жена, узнав о визите к врачу, снисходительно улыбнулась. Николай Александрович хотел возразить, но вдруг понял, что спорить с ней ему совершенно неинтересно. Неинтересными стали и мнения сослуживцев, соседей, радио и теле-болтовня. Он ощутил некую самодостаточность, ведь для ответа на почти любой вопрос нужно было только сесть, прикрыть глаза и спросить.
Опасных тем он старался избегать. Голос походил на жеманную старую деву: отношения между полами обсуждению и рассматриванию не подлежали.
«Ну и не надо, – решил про себя Николай Александрович. – В конце концов, лучше заниматься, чем говорить».
Наверное, под влиянием голоса, его близость с женой потихоньку стерилизовалась. От прежних битв до утра не осталось и следа, теперь процесс происходил молча, без единого слова и так быстро, словно Николай Александрович лежал на раскаленной сковородке. Удивительно – но жене это нравилось.
С годами Николай Александрович почти перестал разговаривать, полностью отказался от чтения газет, телевизора и прочего культурного отдыха. Разговоры на работе велись исключительно по делу, а внезаводские контакты с сослуживцами постепенно сошли на нет. Захаживали они только к Боре и Алле, да и то иногда.
Однажды, вернувшись с работы и удобно расположившись в кресле, Николай Александрович по обыкновению прикрыл глаза и приготовился к беседе. Удивительно, но под веками темноты не оказалось. В розовом тумане плавали необычной расцветки рыбы с огромными мечеобразными хвостами. Далеко за ними смутно проглядывали то ли колонны, обросшие водорослями, то ли мачты гигантских затонувших кораблей. Николай Александрович напряг зрение, и перспектива прыгнула навстречу, точно он поднес к глазам мощный бинокль.
Колонны оказались башнями затонувшего города. Взгляд Николая Александровича плавно завернул в окно. Зеленые ступени, покрытые мидиями, уходили в темноту. Спускаться было страшно, но заманчиво. Поколебавшись несколько секунд, он осторожно заскользил вниз. Лестница медленно поворачивалась, и свет, втекавший через окошко, слабел с каждой ступенькой. Сердце заколотилось, но остановиться Николай Александрович уже не мог. Шаг, еще один – и прохладная зеленоватая тьма накрыла его с головой.
Он очнулся от холода. Лицо, руки, рубашка – все оказалось мокрым. Щеки горели, словно ему надавали оплеух. Он поднял голову. Жена возвышалась над ним, как памятник вождю на центральной площади города. В одной руке она держала пустой кувшин, в другой – сложенный пополам ремень Николая Александровича.
«Значит, щеки болят не зря. Но за что, почему?»






