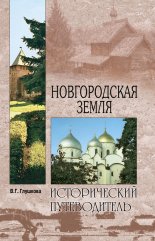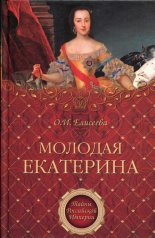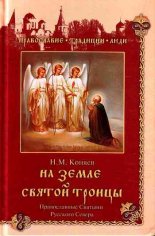Рената Флори Берсенева Анна

Они впервые лежали вместе не просто на диване, а в постели, но Рената опять, как и во время первой с ним близости, почувствовала себя так, будто это было всегда. К тому же и ощущение физического неудобства, которое вызывало у нее такую неловкость вначале, кажется, наконец прошло. Да, точно прошло: когда Коля положил руку ей на живот, а потом опустил пониже и стал поглаживать, чуть надавливая, у нее между ног, то по всему ее телу побежали будоражащие мурашки. И потом, когда он перевернулся, лег на нее сверху и, быстро нащупав чуткой своей рукой правильное место, как-то сразу и сильно вдвинулся в нее – ей показалось, всем телом, – это тоже не было уже больно, а было почти приятно.
И даже хорошо, что все закончилось у него довольно быстро, хотя Коля, кажется, испытывал от такой своей быстроты некоторую неловкость.
– Все-таки мы с тобой давно не виделись. – В его голосе отчетливо прозвучали нотки извинения. – Ты же понимаешь, от этого я вот так… Не бойся, вот будем вместе жить, и все пойдет как надо. – Он пружинисто сел, с удовольствием потянулся, хрустнув, кажется, не костями, а мышцами, и сказал: – А теперь пошли все-таки поедим! Организмы-то у нас молодые и реакции здоровые. Так?
– Так, – улыбнулась Рената.
Перед отъездом на дачу Колина мама приготовила изобильный обед: борщ, гуляш с картошкой, клюквенный кисель. Даже пирог с вареньем испекла. Ренате есть не особенно хотелось, она вообще была малоежка, а Коля ел с аппетитом.
– Надо будет в мою комнату тоже диван купить, – сказал он, накладывая себе добавку гуляша. – Не в гостиной же нам с тобой спать. Папа уже на работе заказал, через месяц должны привезти.
В его комнате дивана действительно не было – Коля спал на узкой кушетке. Они уже подали заявление в загс, свадьба была назначена на июнь, так что папин заказ был очень кстати, потому что купить диван в магазине не представлялось возможным. Ренатины родители и в более размеренные годы восемь месяцев стояли в очереди на польскую тахту, каждые выходные чуть свет ходили к мебельному магазину и отмечались в списке. А теперь, в перестройку, и вовсе никакой мебели в магазинах не стало – хоть по очереди, хоть без.
Впрочем, Ренату это не очень беспокоило, да и Колю, видимо, тоже. Он уже рассуждал совсем о другом.
– Все-таки талант есть талант, – сказал он. – До старости в форме держит. Вот Гантману шестьдесят уже, а ты бы его видела. И сорока не дашь. Каждое утро кросс бегает, по воскресеньям сауна, бассейн. А оперирует как! К нему на год вперед очередь. Кстати, – вспомнил он, – мне отец рассказывал, как к Сталину пришел министр здравоохранения Семашко. Или кто тогда были, наркомы? Ну, неважно. Так вот, пришел и стал жаловаться, что у врачей оклады маленькие. А Сталин ему говорит: «Не волнуйтесь, товарищ Семашко, хорошего врача пациенты всегда прокормят». Понимал человек! – Коля одобрительно засмеялся.
Рената хотела сказать, что ей это высказывание кажется несправедливым и унизительным. Если уж официально лечение бесплатное, значит, и жить врачи должны на официальную зарплату, а не надеяться на какие-то подпольные подачки.
Ей вообще все, что связано было со Сталиным, казалось либо унизительным, либо чудовищным. Одних рассказов деда о том, что ему пришлось пережить и увидеть во время его ареста, к счастью, недолгого – началась война, и врачи понадобились в таких количествах, что некоторых срочно выпустили из тюрем, – одних тех жутких рассказов ей хватило для того, чтобы никогда не восхищаться Сталиным, какие бы необыкновенные качества ему ни приписывались.
Но говорить об этом Коле она все же не стала. Он сиял такой благодушной улыбкой, так старался развлечь ее интересным разговором, что ей жаль было портить ему настроение и совсем не хотелось затевать с ним спор.
Поели, Рената помыла посуду, потом сели было смотреть телевизор, но ничего интересного не показывали, и телевизор они выключили, потом Коля взял английский журнал по урологии и стал читать его со словарем, а Рената смотрела в окно, из которого виден был Аничков мост, и думала, что красивее Ленинграда нет города на свете, правда, она ведь не была ни в Риме, ни в Париже, ни в Венеции, возможно, эти города показались бы ей еще красивее, да нет, не показались бы, потому что Ленинград особенный город, и как жаль, что его уже не называют Петербургом, так идет это название вот к этому строгому рисунку набережных, и к линии домов, и к линии рек и каналов, и ко всей его небесной линии…
– Мы с тобой очень друг другу подходим, – сказал Коля.
Его голос ворвался в ее размышления так неожиданно, что Рената вздрогнула.
– Ты думаешь? – спросила она.
Она просто не знала, что на это сказать.
– Уверен. Видно, не зря меня судьба к вам занесла. Сколько себя помню, мне девчонки всегда казались какими-то чересчур… бурными. С детского сада еще. А теперь выяснилось, что мне просто подходит не московский, а ленинградский женский тип. То есть петербургский еще – я думаю, здесь всегда женщины именно такие и были.
– Какие – такие? – с интересом спросила Рената.
– Ну, не знаю, как это описать, я же врач, а не писатель. Наверное, уравновешенные. Здравомыслящие – так, может. Без лишних эмоций. Ей-богу, мне это дико нравится! В этом есть аристократизм. Не по биографии, а, так сказать, по месту жительства. Вот у тебя, например, есть дворянские корни?
– Нет, – пожала плечами Рената. – Мама говорила, первый Флори сюда из Англии на эпидемию холеры приехал. А потом влюбился. Может, не в девушку, а в Петербург? – улыбнулась она. – Во всяком случае, даже тогда не уехал, когда его толпа во время холерного бунта чуть не убила. Его Николай Первый спас. – И, встретив недоуменный Колин взгляд, Рената пояснила: – Кто-то пустил слух, что врачи отраву вместо лекарства дают. И Николай Первый лично на Сенную площадь приехал и целую склянку этого лекарства на глазах у толпы выпил – чтобы подданных своих успокоить и врачей защитить. В общем, тот наш первый Флори был самый обыкновенный врач. Так что ничего аристократического во мне нет.
– По биографии нет, а так, по факту, – чистая дворянка. Все манеры у тебя такие… Несоветские, – сказал Коля.
Это определение Ренату не удивило. Отношение к советской власти в их семье традиционно было холодным. Все Флори воспринимали ее как неизбежное зло, мирились с ней, потому что не обладали задатками политических борцов, но по возможности всегда держались от нее на расстоянии. В этом был явный оттенок неприязни и брезгливости. Папа даже лотерейные билеты никогда не покупал – говорил: «Я не играю в азартные игры с этим государством».
– Я-то тоже не аристократ, – сказал Коля, – и даже не ленинградец. Но избыток страстей в московских женщинах меня все-таки не устраивает.
– А я тебя, значит, устраиваю?
Рената почувствовала легкий укол обиды. Но ни развивать в себе эту обиду, ни тем более высказывать ее Коле не стала. Она улыбнулась.
– Конечно! И вообще, что значит устраиваешь? Я тебя люблю.
Коля отложил журнал и, подойдя ко все еще стоящей у окна Ренате, поцеловал ее. Потом они вместе смотрели на темнеющий рисунок Аничкова моста, на прекрасные силуэты клодтовских коней. Им нравилось вот так вот смотреть на все это вдвоем и молчать. Во всяком случае, Ренате нравилось.
«Завтра в клинику, – подумала она. – Как хорошо!»
Стоило ей вспомнить, что завтра она увидит и сводчатые коридоры, так быстро ставшие родными, и ярко освещенный бестеневыми лампами родзал, и ординаторскую, такую уютную, и снова, наверное, будет ассистировать Павлу Андреевичу Сковородникову, и, может быть, он снова похвалит ее своим ласковым баском, посмотрит веселым взглядом, – у нее даже сердце забилось быстрее, трепетнее. Да, за совсем недолгое время она успела полюбить свою работу. Ну конечно, дело было именно в этом.
Глава 5
Первый после выходных рабочий день выдался очень хлопотным. Рената даже устала. Правда, устала она своеобразно: не чувствовала усталости, а лишь изредка вспоминала о ней.
Именно о таком, медицинском, отношении к усталости рассказывала мама – ей оно было присуще всю жизнь.
– Да тебе и вообще рано еще уставать, – добавляла она при этом. – У тебя впереди еще много лет сплошной молодости.
Рената так погрузилась в работу, что молодость радовала ее именно в этом смысле – как способность отдаваться работе целиком.
И об усталости она подумала, только когда обычный ее рабочий день закончился и началось ночное дежурство.
Дежурила она вместе со Сковородниковым. Он сам предложил такой график – сказал, что ему понравилось работать с Ренатой Флори. Его слова наполнили ее такой гордостью, что у нее даже щеки слегка зарделись.
– Неужели все угомонились? – Сковородников пропустил Ренату перед собой в дверь ординаторской. – Это надо же, шесть часов подряд рожают как подорванные!
– В ближайшее время некому рожать, – улыбнулась Рената. – У Сергеевой только-только схватки начались. Прилягте, Павел Андреевич. Если что, я вас разбужу.
– Лучше ты приляг. – Он улыбнулся. – А я тебя разбужу, если что. – И, заметив, что Рената колеблется, повторил: – Ложись, ложись, не беспокойся.
Удивительно, как он умел говорить! Так, что ему невозможно было не подчиниться, и даже не то что невозможно, а хотелось ему подчиняться, хотелось делать именно так, как он говорит. Для Ренаты это было особенно удивительно, потому что у нее с детства был довольно независимый характер, и она это про себя знала.
Она достала из шкафа подушку и плед, положила их на кушетку и, сбросив туфли, прилегла не раздеваясь. Ей казалось, что спать совсем не хочется, но, как только голова коснулась подушки, сознание сразу же поплыло, поплыло и окуталось тьмой.
В последнем перед этой тьмою светлом пятне Рената увидела Павла Андреевича. Он стоял рядом с ней и сверху вниз смотрел на нее каким-то особенным взглядом. Что значил его взгляд? Понять она не успела.
Рената проснулась от ощущения мгновенной тревоги. Она быстро села на кушетке, огляделась. В ординаторской никого не было. Верхний свет был выключен, горела только настольная лампа, да и она была повернута так, чтобы свет не падал Ренате на лицо.
«Все проспала! – подумала она. – А там, может, случилось что-нибудь!»
Она нашарила ногами туфли, собираясь встать, но тут дверь открылась и вошел Сковородников.
– Что ты подхватилась? – сказал он. – Ложись.
– Сергеева рожает, да? – спросила Рената.
– Родила уже. Легко родила, акушерка сама справилась, я заглянул только. Спи, милая.
Он так неожиданно сказал ей «милая», что она вздрогнула. Конечно, он мог сказать просто так, вот как акушерки говорят роженицам: «Тужься, милая, тужься». Но глаза его блеснули при этих словах таким непонятным блеском, что Рената замерла, сидя на кушетке и изумленно, снизу вверх, глядя на него.
– Павел Андреевич… – пробормотала она.
Он быстро подошел к кушетке, остановился, словно не решаясь на что-то, и вдруг присел на корточки. Теперь его лицо было прямо перед Ренатиным. Она видела зеленую медицинскую шапочку, низко надвинутую на лоб, и сдвинутые густые, гладко поблескивающие брови, и, главное, глаза… Глаза смотрели на нее не отрываясь, и в них, всегда таких веселых и ясных, Рената вдруг заметила растерянность. Эта неожиданная растерянность так ее поразила, что она чуть не заплакала. Слишком все это было пронзительно. Пронзительная это была минута.
– Ложись. – Голос его прозвучал хрипловато. Он кашлянул, но это не помогло. – Ты не беспокойся.
Ей показалось, что он положил руку на ее колено, поверх пледа, именно чтобы ее успокоить, хотя и непонятно было, от чего. Но в его руке спокойствия не было совсем: пальцы вздрагивали, широкое запястье напряглось так, что щелкнул, расстегнувшись, браслет часов.
Этот щелчок прозвучал в тишине очень громко. Сковородников быстро убрал руку с пледа на Ренатином колене. Часы при этом скользнули по его кисти и упали на пол.
– Вот черт!.. – пробормотал он. – Никак браслет не отдам починить.
Он протянул руку, чтобы поднять часы, но сделал это так неловко, что они запустились дальше под кушетку. Он и руку за ними протянул дальше, Рената наклонилась, чтобы ему помочь, их руки каким-то странным образом соединились… И тут Рената почувствовала, что ее пронзил такой удар, будто она взялась за оголенный электрический провод. Никогда она не думала, что такое банальное сравнение может быть правдой! И этот сильный, невыносимый разряд начинался там, где ее рука соединялась с рукою Павла Андреевича…
От неожиданности этого ощущения, от мгновенного испуга она сжала пальцы. И сразу почувствовала, что они с Павлом Андреевичем сделали это одновременно. Они сидели рядом, Рената на кушетке, а Сквородников перед нею на корточках, сжимали руки друг друга и не могли пошевелиться от сильнейшего волнения, которое было одинаковым у обоих.
Павел Андреевич не поднимал на Ренату глаз.
– Ты так спала… – вдруг проговорил он.
Голос его прозвучал еще более хрипло, словно что-то мешало ему в горле и от этой помехи невозможно было избавиться даже самым сильным кашлем.
– Так крепко, да? – пролепетала Рената.
– Так… красиво. Как Спящая красавица.
– Я… – растерянно произнесла она.
– Ложись опять, а? – попросил он.
Она хотела спросить, зачем же ей ложиться, если спать уже совсем не хочется, но удержалась от такого глупого вопроса. Ее рука, сжатая его рукою, по-прежнему немела от сильных токов, идущих от него, и все тело от них немело тоже.
Сковородников наконец поднял на нее глаза. Рената быстро отвела взгляд.
Она послушно легла на кушетку, зачем-то натянула на себя плед – до шеи. Заметив этот испуганный судорожный жест, Сковородников усмехнулся. Кажется, он отошел от того необъяснимого напряжения, которое одновременно охватило их обоих. Да и руку Ренатину он отпустил.
Она лежала, глядя в потолок, боясь даже скосить на него глаза. Он сидел рядом на краешке кушетки и, наоборот, не отводил от нее взгляда. Потом он осторожно разомкнул ее пальцы, сжатые до белизны костяшек, и вынул из них плед. Потом наклонился к ней и поцеловал, не в губы, а почему-то в подбородок.
Что было бы с нею от поцелуя в губы, Рената и представить себе не могла. Если от прикосновения его губ к самому краю ее подбородка она чуть не вскрикнула…
Хотя она и не вскрикнула, но, наверное, сильно вздрогнула.
– Не бойся, – шепнул Павел Андреевич. – Никто не войдет.
Он быстро встал, подошел к двери, бесшумно повернул кругляшок замка и сразу же вернулся к кушетке. Но на этот раз не сел на ее краешек, а опустился рядом на колени – не опустился даже, а упал, будто обессиленный, и стал целовать Ренатино лицо.
Он целовал ее горячо, беспорядочно, в волнении, он почему-то по-прежнему не прикасался к ее губам, его руки лихорадочно метались по ее плечам, касались ее щек, один раз коснулись и груди, но тут же отдернулись, словно наткнулись на горячее… Соединенье уверенности и растерянности было в каждом его движении так ощутимо, что от этого у Ренаты кружилась голова и темнело в глазах.
– Ну не бойся, не бойся… – повторял и повторял он все с той же уверенностью и с той же растерянностью. – Никто не войдет… не помешает…
Она ничуть не боялась каких-то внешних, отдельных от нее и от него помех; она совсем о них не думала. Все ее существо находилось в таком смятении, что едва ли это смятение могло бы усилиться даже в том случае, если бы дверь распахнулась и в ординаторскую ворвалась бы толпа.
Павел Андреевич вдруг перестал ее целовать, отстранился и встал. Рената замерла: что случилось? Она подумала, что сделала что-нибудь не так, чем-то смутила или даже обидела его, и эта мысль ее ужаснула. И когда оказалось, что он просто хочет снять брюки – они были медицинские, легкие, и снимались легко, – Рената обрадовалась так, что сердце у нее забилось еще стремительнее.
Его лицо и фигура туманились в ее глазах, и она чувствовала одно лишь счастье, огромное, немыслимое. Такого счастья она не только никогда не испытывала в жизни, но даже не подозревала о том, что оно вообще возможно.
Он снова наклонился над нею и попросил:
– Подвинься, милая.
Рената подвинулась так поспешно, что ударилась плечом о стену. Он лег рядом на бок, притянул ее к себе. Даже сквозь юбку она почувствовала, какой горячий у него живот. Он взялся за подол ее юбки, потянул вверх… И тут в коридоре послышались быстрые шаги и раздался торопливый стук в дверь.
– Павел Андреевич! – Голос медсестры Марголиной звучал испуганно. – У Сергеевой кровотечение!
Сковородников вскочил как пружиной подброшенный и пробормотал:
– Ч-черт!.. С чего это вдруг? Иду! – крикнул он.
Еще через мгновение он уже распахнул дверь. Медсестра Марголина маячила в дверном проеме.
– Главное, непонятно же, из-за чего! – проговорила она. – Так легко родила…
– Иду, – повторил Сковородников.
Марголина с любопытством взглянула на Ренату, которая с растерянным видом сидела на кушетке. Павел Андреевич тоже посмотрел на нее.
– Поспала немного? – сказал он. – Одевайся скорее, вместе Сергееву посмотрим.
Его слова прозвучали так, будто ничего особенного не произошло и Рената в самом деле лишь прилегла в свободный часок, как делали все врачи и медсестры, когда этот самый часок выдавался во время ночного дежурства. Если и слышались в его голосе обеспокоенные интонации, то они относились лишь к неожиданному осложнению у только что родившей женщины. И эта его обеспокоенность была Ренате совершенно понятна.
Она поспешно вскочила, надела туфли и выбежала из ординаторской вслед за Сковородниковым, на ходу поправляя волосы – прическу она всегда делала незамысловатую, просто закручивала низкий узел.
Следующий час она провела в операционной рядом с Павлом Андреевичем – ассистировала ему. Конечно, ее внимание было сосредоточено на Сергеевой, которая так неожиданно устроила им всем такую тревогу. Но при этом Рената все время видела сильные, точные в каждом движении руки Павла Андреевича, украдкой следила за его сосредоточенным лицом, за наполненными цепким вниманием глазами, за капельками пота у него на лбу – и счастье, переполнявшее ее, не становилось меньше. Оно только усиливалось, ее счастье, все оно было в этом необыкновенном человеке, в этом единственном мужчине… Да, в единственном мужчине – осознание этого пришло к Ренате неожиданно, но было таким отчетливым, таким самоочевидным, что даже не удивило ее.
«Я люблю его больше жизни, – ясно подумала она. – Господи, какое счастье!»
Глава 6
Если бы не эта мысль, вернее, не это так ясно испытанное ощущение, что она любит Павла Андреевича Сковородникова больше жизни и что эта любовь – самое большое в ее жизни счастье, то Рената не сразу решилась бы на разговор с Колей. То есть все равно, конечно, решилась бы, потому что с детства не привыкла обманывать ни себя, ни тем более других, но, наверное, эта решимость далась бы ей труднее.
Теперь же она позвонила Коле сразу после ночного дежурства, которое перевернуло ее жизнь.
Коля был на работе; его позвали к телефону из палаты, где он, как сообщил взявший трубку врач, осматривал только что поступившего больного.
Ренате стало неловко, что она оторвала Колю от важного дела. Впрочем, и ее дело тоже казалось ей важным, и она не хотела его откладывать.
Неудивительно, что голос у Коли был недовольный. Правда, когда он выслушал Ренатину просьбу о немедленной, сегодня же, встрече, то голос у него стал слегка удивленный.
– А что случилось? – спросил он. – Срочное что-нибудь? Я, скорее всего, поздно освобожусь. И усталый буду как собака. Ну ты же сама знаешь, как оно после работы!
Конечно, она это знала. Но что ей было делать?
– Я вечером приеду на Обводный, к больнице, – сказала Рената. – Если ты будешь занят, подожду.
– Ну ладно, – совсем уже удивленно протянул Коля. – А что все-таки случилось-то?
Рената положила трубку. Перед Колей она чувствовала неловкость и стыд. Но какими же маленькими казались ей эти чувства по сравнению с тем главным чувством, которое наполняло ее всю! От одного воспоминания о том, как Павел Андреевич поцеловал ее в краешек подбородка, ее снова пронизывал такой сильный ток, что все тело шло дрожью.
Так она и дрожала то ли от воспоминаний, которые крутились и крутились у нее в голове, пока она ожидала Колю у больничных ворот, то ли от пронизывающего весеннего ветра. Алое тревожное закатное солнце мелькнуло в коротком разрыве туч над Обводным каналом и исчезло, и сразу же сгустились сумерки.
Наконец Коля появился в дверях больницы. Рената смотрела, как он идет по асфальтовой дорожке к воротам. Он тоже заметил ее, помахал издалека и ускорил шаг.
– Ты что такая? – улыбаясь, спросил он, подойдя к Ренате. И уточнил: – Перепуганная какая-то.
Испуга она не чувствовала, но, может быть, ее волнение выглядело в чужих глазах именно так.
«Да, он чужой, совсем посторонний мне человек, – глядя на Колю, подумала Рената. – Как же я раньше этого не понимала?»
– Коля, – сказала она, прямо глядя в его красивые удивленные глаза, – прости меня, если можешь. Я не могу выйти за тебя замуж.
– Что значит не можешь? – переспросил он. – Почему?
– Потому что я люблю другого человека.
Теперь удивление, даже изумление расширило его глаза так, что они стали просто огромными.
– То есть как?.. – проговорил он. – Какого еще другого?
– Павла Андреевича Сковородникова. Нашего врача.
Может быть, он спросил это просто так, не собираясь выяснять имя-отчество, но Рената все сейчас понимала буквально. Мир, который она до сих пор видела словно бы через матовую пленку – только теперь она это поняла! – стал для нее миром ярких чувств и явлений. В нем, в этом внешнем мире, как и у нее в душе, не осталось ничего неясного, смутного, вялого. Боже мой, какой же вялой была до сих пор ее жизнь! И как же она могла считать ту свою жизнь нормальной?
– Ты с ума сошла, что ли? – Коля покрутил головой, словно пытаясь освободиться от наваждения. – Мы же с тобой только вчера виделись! И никого ты не любила. В смысле, никакого Сковородникова. У тебя же ночью дежурство было!
Последняя фраза не имела видимой связи с предыдущими, но, в общем-то, Коля был прав. Еще вчера Рената действительно не любила Павла Андреевича Сковородникова. Хотя сегодня ей уже трудно было в это поверить.
– Я этого просто не понимала вчера, – сказала она.
И сразу успокоилась. Ведь это действительно было так! Конечно, она любила его давно, с самого начала, но только после того, что случилось сегодня ночью, поняла в себе это чувство.
– Да не может же этого быть! – воскликнул Коля.
– Почему не может?
Теперь уже удивилась Рената.
– Потому что! Не может с тобой такого быть! И… И мы же заявление подали!
В его голосе прозвучало отчаяние. Ей стало так жаль его, что защипало в носу. Но что она могла сделать?
– Коля, прости меня, – повторила Рената. – Я и правда не думала, что так… Что со мной такое может быть. Иначе я не пообещала бы выйти за тебя замуж. Но такое со мною стало. Я просто не знала раньше, что такое любовь, – тихо добавила она. – Даже не представляла…
– Ты просто дура! – закричал Коля. – Жизни не знаешь!
Наверное, это было слишком самонадеянно с его стороны, считать, будто бы она не знает жизни. В конце концов, она была всего на три года его моложе – из-за тех школьных лет, через которые так торопливо перешагивала в детстве… Но Рената готова была сейчас простить Коле любую самонадеянность, даже грубость. Она понимала, как сильно обидела его, и чувствовала перед ним просто-таки жгучую вину.
– Коля, может быть, не будем сейчас об этом говорить? – попросила она. – Встретимся потом, когда…
– Да никогда я не собираюсь с тобой встречаться! Ты подлая дура, больше никто!
Теперь в Колином голосе клокотала яростная, не выбирающая слов обида. Но она была так понятна, так объяснима, что сама Рената никакой обиды на него не чувствовала.
– Прости меня, – повторила она и, повернувшись, медленно пошла прочь.
Она шла медленно не потому, что хотела, чтобы Коля догнал ее, извинился за свою грубость, а лишь потому, что ей казалось, будто на ее ногах висят пудовые гири стыда. Да, именно так она и чувствовала, и ее не смущала даже пошлая многозначительность такого определения, хотя она всегда, с самого детства и, видимо, по наследству была чрезмерно чутка к любой пошлости, к любой расхожей истине.
Но гири стыда действительно были тяжелы, и ничего с этим уже было не поделать.
Счастье, которое Рената почувствовала в ту памятную ночь, ей приходилось носить в себе незаметно для окружающих. Если бы не природная сдержанность, может, ей это и не удалось бы, слишком уж ее счастье было велико. Но, с другой стороны, что она должна была делать? Бегать по больничным коридорам с радостными возгласами? Встречать приходящего на работу Сковородникова слезами восторга?
Возможно, и ему тоже приходилось сдерживать свои чувства; сказать это наверняка Рената не могла. Он вел себя по отношению к ней с явным расположением, но ведь он и раньше относился к ней именно так и с первого же ее рабочего дня держал Ренату Флори рядом с собою и всему учил; это и теперь не изменилось.
Но что-то все же изменилось. Рената не могла этого не замечать, вернее, не могла не чувствовать; вся она превратилась теперь в одно сплошное чувствилище.
Она замечала, она чувствовала, что при ежедневной встрече с нею Павла Андреевича охватывает смятение – краткое, потому что особо предаваться смятению не позволяет работа, но очевидное.
Она видела, что если он случайно касается локтем ее руки или коленом ее колена, например, во время общего обеда, то судорожно вздрагивает – так, как это бывает, когда невропатолог проверяет реакции, ударяя по локтю или колену молоточком.
А однажды он как-то неловко пропустил Ренату перед собой в дверь ординаторской, и ее грудь прижалась к его плечу. При этом Рената почувствовала, как по всему его телу прошла такая сильная волна, что она даже огляделась с испугом: ей показалось, все вокруг должны были это заметить. Но никто ничего не заметил, кажется.
За две недели, прошедшие после той ночи, этих несомненных знаков его к ней неравнодушия было немало; Рената дорожила каждым как редкой драгоценностью. И особенно дорожила она взглядами, которые связывали ее с Павлом Андреевичем прочнее, чем связали бы какие-нибудь шелковые парашютные стропы, или из чего там делаются стропы у парашютов… Как она любила эти его взгляды! Сердце у нее подскакивало к горлу, дыхание перехватывало, в глазах темнело, когда он смотрел на нее вот так… необъяснимо из-под своей низко надвинутой на лоб зеленой шапочки. Что он думал при этом, что чувствовал? Неужели такую же любовь, такое же счастье, как она? Рената боялась об этом думать, но и не думать не могла, ловя эти его с ума сводящие взгляды.
В таком трепете, счастливом и тревожном, она не замечала течения времени, и две недели пролетели, как две минуты.
А потом Павел Андреевич исчез. То есть не исчез, конечно, а просто взял неделю в счет отпуска, потому что у него заболела мама и пришлось срочно поехать к ней в Выборг. Но когда Рената пришла как обычно утром на работу и узнала, что Сковородникова сегодня не будет, ее охватил такой ужас, будто земля ушла у нее из-под ног. Как не будет?! Целую неделю… Как же она выдержит эту неделю, нет, это невозможно! Рената с трудом скрывала слезы, и только работа помогала ей держаться хоть в какой-то форме все эти бесконечные дни без него.
И чего ей стоило сдержать счастливый вскрик, когда через неделю она услышала его голос в телефонной трубке!
Сковородников позвонил в ординаторскую, и она ответила на звонок.
– Рената? – Он сразу, по первому же слову, узнал ее голос! – Привет. Это Павел. – Как будто она его не узнала, не по слову даже, а по одному лишь дыханию! – Как там у вас дела?
– Хорошо, – с трудом выговорила она. – Здравствуйте, Павел Андреевич.
– График у меня как, не изменился? Я сегодня вечером возвращаюсь, хочу в ночь выйти. Соскучился по работе.
Она расслышала в его голосе улыбку. И тут же увидела эту улыбку на его лице, и глаза его увидела, и руки, и… Всего его увидела пронзительным, сквозь расстояние, взглядом!
– Приезжайте, Павел Андреевич! – воскликнула она.
Наверное, это восклицание прозвучало совсем глупо, потому что Сковородников засмеялся.
– Ну-ну, – сказал он. – Конечно, приеду. Куда я денусь? Ждите.
И весь день Рената слышала у себя внутри одно только это слово – «ждите». Господи, да разве она могла делать что-нибудь еще?!
Кое-что она, правда, сделала вполне разумно: поменялась дежурствами с ординатором Алексеем Романовичем. По счастью, ему была удобнее как раз завтрашняя, а не сегодняшняя ночь, и он обменялся охотно.
Как вошел Сковородников в ординаторскую, как обрадовались его появлению врачи, как он здоровался со всеми, что рассказывал, – всего этого Рената не помнила. Все это общее, суматошное мелькнуло вокруг нее сплошным вихрем, ослепительным и мгновенным. Мелькнуло и схлынуло, как волна, и оставило ее наконец наедине с Павлом Андреевичем, будто на берегу морском после какого-то чудесного спасения.
Не было, конечно, никакого берега морского. Была самая обыкновенная ординаторская, в которой они стояли друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза.
В глазах Павла Андреевича плясали веселые огоньки. Рената думала, что он скажет сейчас что-нибудь очень простое, такое же общее, как пять минут назад… А вообще-то ничего она не думала! Не до мыслей ей сейчас было.
– Рената… – вдруг сказал он. – Милая ты моя… Как же я по тебе соскучился!
И она обмерла от этих слов. От единственных этих слов, вот именно простых, но совсем не общих, а только ей одной предназначенных.
Сама Рената ничего ему сказать не успела. Потому что сразу за этими словами он сделал шаг вперед и обнял ее.
– Господи ты боже мой!.. – выдохнул он при этом. – Ну и ну… Надо ж так!
Его голос прозвучал взволнованно и от волнения как-то слишком громко. Впрочем, может быть, ей это просто показалось, ведь в ординаторской стояла тишина. И в коридоре стояла тишина, и из родзала не доносилось ни звука – еще днем Ирина Аркадьевна, заведующая отделением, говорила, что ночью, по крайней мере часов до трех, наверняка никто рожать не соберется и дежурство будет спокойным.
А потом Павел Андреевич стал целовать Ренату с той же страстной торопливостью, что и тогда, в ту их единственную ночь, и она позабыла обо всем.
Он поспешно раздевал ее, раздевался сам, и она тоже раздевалась сама, и он, не выпуская ее из объятий, пятился к двери, запирая замок, и она пятилась с ним вместе, но во всей этой их общей поспешности не было никакой неловкости – все было между ними точно, счастливо, единственно!..
И когда они наконец оказались на кушетке, все их движения тоже были общими, едиными. Рената чувствовала каждое желание Павла Андреевича прежде, чем он сам успевал его почувствовать. Легкая робость, которую она всегда испытывала перед ним, теперь совершенно исчезла – она устремлялась к нему, льнула к нему всем телом, и все ее тело, вздрагивая, обнимало его снизу.
– Не бойся, милая… – почему-то шептал он. – Не бойся, все будет хорошо…
«Разве я боюсь? – мелькнуло у нее в голове. – Ничуть, нисколько!»
– Я не боюсь нисколько. – Она выговорила это прямо ему в губы. – Я так тебя люблю!..
Он как-то странно застыл при этих ее словах, на мгновение замер над нею, но тут же коротко застонал и весь выгнулся в такт своему стону. И тут же она почувствовала его у себя внутри – всего его почувствовала по тому, что все у нее внутри словно огнем вспыхнуло, и это был такой необыкновенный, такой долгожданный огонь, что она готова была сгореть в нем без остатка.
Но ей не надо было сгорать – Павел совсем этого не хотел. Он хотел быть в ней бесконечно долго, и, Рената чувствовала, если бы не боязнь привлечь чужое внимание, он стонал бы в голос, а не вот так вот, сдерживаясь из последних сил.
И она тоже хотела, чтобы он был с нею бесконечно. Только для нее не имело значения, будет ли это физическая близость, вот такая, которая происходит между ними сейчас, или они просто будут вместе. Рената не могла бы точно определить, что означают в ее понимании эти слова – «просто вместе». Да все они означали для нее! Всю ее неотделимость от этого единственного, любимого мужчины.
Тем временем Павел сильно выдохнул, потом несколько раз вздрогнул и сразу отяжелел, вдавил Ренату в кушетку. Она поняла, что внешняя, физическая часть близости закончилась. Но это не расстроило ее, хотя впервые в жизни все ее тело загорелось, отвечая телесному желанию мужчины. Но то, что должно было теперь последовать за первым телесным огнем, было важнее, значительнее…
– Ну как ты? – сказал Павел, приподнимаясь на локтях. Наверное, он почувствовал, что слишком сильно придавил Ренату своим телом. – А то я уж боялся.
– Почему боялся? – не поняла она.
– Да думал… – В его голосе послышалось что-то вроде смущения от собственной глупости. – Ну, думал, вдруг ты девушка еще.
Теперь смутилась Рената. Мало сказать смутилась – щеки у нее ярко вспыхнули, чего с нею вообще-то почти никогда не бывало.
– Я… – пролепетала она. – Я уже не…
И замолчала, не зная, что сказать.
Конечно, Павел сразу заметил ее смущение. Приподнявшись на локтях и коленях повыше, он сначала навис над Ренатой, а потом встал с кушетки.
– Ну-ну! – Он улыбнулся и ласково погладил Ренату по плечу. – Чего вдруг засмущалась? Ты же врач. Девственная плева – физиологическая особенность организма, больше ничего. Она привлекает только комплексантов да пожилых извращенцев, а нормальному здоровому мужчине куда приятнее зрелая женщина. Одевайся, милая, пойдем посмотрим, как там у нас дела.
И это его ласковое движение, и необыкновенная, единственная интонация, с которой он говорил «милая», наполнили Ренату таким счастьем, что смущение ее мгновенно исчезло. В самом деле, ну что она раскраснелась, как гимназисточка какая-то? Ей уже двадцать один год, она взрослая женщина. И любящая женщина, и – любимая… Что же другое может означать и его ласковый жест, и это прекрасное слово «милая»?
Они быстро оделись, то и дело задевая при этом друг друга – их одежда лежала вперемешку на стуле. Когда их локти или плечи невольно соприкасались, они оба нарочно продлевали эти мгновения, потому что это было им обоим приятно, и радостно переглядывались, и улыбались друг другу.
Потом Павел посмотрел в третьей палате женщину, у которой начались схватки, и велел перевести ее в предродовую, потом они вернулись в ординаторскую и выпили вместе чаю, и снова счастливо при этом улыбались, глядя друг на друга, и он спросил, не хочет ли Рената спать, а она, конечно, не хотела, и он поцеловал ее так крепко, так любовно…
Эта ночь длилась и длилась, и Ренатино счастье длилось и длилось тоже.
Глава 7
Оно длилось и длилось все ночи и дни напролет, ее счастье. Нет, не ее только – оно было теперь у них общим. И от того, что этим общим счастьем был наполнен каждый рабочий день, Рената чувствовала себя так, словно где-то у нее внутри все время горит бенгальский огонь, сыплет яркими искрами и сверкает, сияет…
Наверное, от этого и сама она теперь сияла, как никогда прежде. Во всяком случае, на работе сразу это заметили. Да и мудрено было не заметить: Рената всегда выглядела такой блеклой, такой какой-то прозрачной, что теперь, когда во всем ее облике вдруг появилось нечто яркое – она и сама это видела, причесываясь утром перед зеркалом, – это, конечно, всем сразу бросилось в глаза.
И все без труда определили причину, по которой произошло с нею такое преображение. Это было понятно уже по тому, что когда Рената разговаривала с Павлом в ординаторской, в коридоре, да неважно где, то и медсестра Марголина, и акушерка Нинидзе, и даже заведующая отделением Ирина Аркадьевна поглядывали на нее с понимающими улыбками. К пониманию добавлялись в этих улыбках и другие чувства, от доброжелательности до зависти.
Впрочем, Рената немного обращала на все это внимания. Она так была захвачена собственными чувствами, что чужие не вызывали у нее даже любопытства.
Правда, она замечала, что Павел, кажется, относится к этому иначе: и любопытные взгляды, и особенно понимающие улыбки его явно раздражали. Но вслух он об этом не говорил, и Рената тоже не заговаривала с ним об этом.
Да и вообще, до посторонних ли разговоров ей было! Она только и ждала, что тех счастливых, прекрасных общих часов, когда они оставались вдвоем на ночное дежурство.
Ренату прикрепили на время интернатуры к доктору Сковородникову, поэтому совпадение их дежурств было естественным. И, к счастью, каждый раз выдавался хотя бы часок, хотя бы полчаса, во время которых они могли остаться вдвоем в ординаторской… От одного лишь щелчка, с которым запирался замок, у Ренаты уже замирало сердце! И сладко, и счастливо билось оно потом, когда Павел торопливо целовал ее, раздевал, или даже не раздевал, а сразу прижимал к себе нетерпеливым и страстным движением…
Из всего внешнего мира только работа теперь вызывала у нее сосредоточенность, да и то – чтобы эту сосредоточенность в себе вызвать, ей требовалось большое усилие воли. Все же остальное вообще не имело значения.
Это счастливое невнимание ко всему, что не относилось к их с Павлом любви, могло бы длиться у Ренаты бесконечно. И лишь одно обстоятельство, неожиданное и ошеломляющее, отвлекло ее от собственного внутреннего состояния. И не только отвлекло, а привело в оторопь.
Она обратила внимание на это обстоятельство случайно. Мама вернулась как-то из аптеки и расстроенно сказала:
– Безумие какое-то! Уже записывают в очередь за ватой. И предлагают ходить отмечаться. Давать будут по одной пачке в руки независимо от пола и возраста. Особенности женской физиологии во внимание не принимаются. Ты хоть у Анны Гавриловны возьми сколько-нибудь, а то совсем без ваты останешься.
Анной Гавриловной звали роддомовскую сестру-хозяйку, которая работала еще с дедом Флори.
– Хорошо, – кивнула Рената.
И в эту самую минуту поняла, что вата для «женской физиологии» ей что-то давно уже не требовалась. Сосредоточившись, она припомнила, что последние месячные были у нее задолго до последнего же ее свидания с Колей. А было это… Ну да, три месяца назад. Господи, как же она могла упустить такое из виду?! То есть получается… Получается, срок у нее три месяца!
Мама ушла в кухню. Слышно было, как она вынимает из сумки принесенные из магазина свертки. Рената потерла ладонями мгновенно вспотевшие виски.