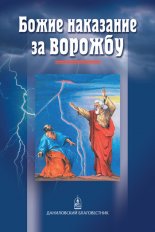Я, Мона Лиза Калогридис Джинн
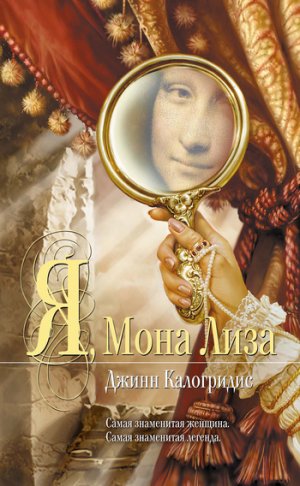
Лоренцо сидит на берегу Арно, кутаясь в одеяла. Он промок насквозь и дрожит, но он жив.
Джулиано облегченно выдохнул — это весь воздух, что остался у него в легких, — а потом начал погружаться на дно все ниже и ниже, где вода совсем черная.
VIII
«26 апреля 1478. Приорам Милана
Досточтимые господа! Убит мой брат Джулиано, над правителями города нависла серьезная опасность. Настал час, синъоры, помочь вашему слуге Лоренцо. Пришлите как можно больше солдат и велите им поторопиться. Они, как всегда, послужат щитом и опорой моему правлению.
Ваш слуга Лоренцо де Медичи».
28 ДЕКАБРЯ 1479 ГОДА
IX
Бернардо Барончелли ехал, стоя на коленях, в маленькой повозке, которая везла его на верную смерть.
Перед ним, на широкой площади перед Дворцом синьории, возвышалось огромное мрачное здание, где заседало правительство Флоренции и сердце ее правосудия. Испещренная бойницами крепость производила внушительное впечатление, это был прямоугольник почти без окон, со стройной башней-колокольней на одном углу. Всего за час до того, как Барончелли повели к повозке, он слышал ее звон, низкий и печальный, собиравший публику на зрелище.
В утреннем мраке каменный фасад дворца выглядел светло-серым на фоне темных облаков. Перед зданием, поднимаясь среди разноцветных богатых и бедных построек Флоренции, стоял наспех сколоченный эшафот с виселицей.
День выдался пронзительно-холодный; Барончелли видел собственное дыхание, зависавшее перед ним туманом. Верхние полы накидки разошлись, но он не мог их запахнуть, так как руки были связаны за спиной.
Вот в таком виде, качаясь всякий раз, когда колесо попадало на камень, Барончелли появился на площади. На его казнь пришли поглазеть не меньше тысячи горожан.
Стоявший с краю толпы мальчонка первым увидел приближающуюся повозку и заголосил детским фальцетом, выводя клич сторонников Медичи:
— Palle! Palle! Palle!
По толпе прошла волна истерии. Вскоре ее единый глас гремел в ушах Барончелли: «Palle! Palle! Palle!»
Кто-то швырнул камень, и тот загремел по булыжникам, не долетев до скрипучей повозки. После этого в заговорщика летели только проклятия. Синьория разместила нескольких конных стражников в стратегических точках, чтобы предотвратить беспорядки; по бокам Барончелли следовала вооруженная охрана.
Это было сделано для того, чтобы как следует провести казнь, иначе толпа могла растерзать приговоренного на части. Он уже слышал истории о мрачной участи других заговорщиков: как наемников-перуджианцев, нанятых семейством Пацци, столкнули вниз с высокой башни Дворца синьории, как они попадали в руки поджидавшей внизу толпы и та изрубила их на куски ножами и лопатами.
Даже старик Якопо де Пацци, всю жизнь пользовавшийся уважением сограждан, не избежал гнева Флоренции. При первых звуках, донесшихся с колокольни Джотто, он сел на коня и попытался поднять народ возгласом: «Popolo е liberta!»[8] Фраза служила бунтовским призывом к свержению правительства — в данном случае клана Медичи.
Но толпа ответила другим призывом:
— Palle! Palle! Palle!
Несмотря на совершенное преступление, Якопо де Пацци после казни похоронили как подобает — правда, так и не сняв с шеи петлю. Но в те дикие дни город переполняла такая ненависть, что он недолго пролежал в покое: синьория решила, что будет лучше перезахоронить его тело за городской стеной, в неосвященной земле. Франческо де Пацци и остальные заговорщики недолго дожидались приговора правосудия; пощадили одного Гульельмо де Пацци, да и то потому, что за него отчаянно просила у Лоренцо его сестра, Бьянка де Медичи.
Только одному настоящему заговорщику удалось бежать: Барончелли спрятался на колокольне собора, когда воздух все еще колыхался от звона колокола. Когда путь очистился, он, не сказав ни слова семье, умчался верхом на восточное побережье, в Сенигаллию. Оттуда он отбыл на корабле в экзотический Стамбул. Король Фердинанд и неаполитанские родственники заговорщика посылали ему достаточно средств, и он вел распутную жизнь. Барончелли скупал рабынь, делал их своими наложницами, предавался удовольствиям, пытаясь стереть из памяти те убийства, которые совершил.
Но во сне ему часто являлся образ Джулиано, окаменевшего в ту секунду, когда он, подняв глаза, увидел сверкающее лезвие ножа. Юноша с темными спутанными локонами, широко распахнутыми невинными глазами, простодушно и слегка недоверчиво смотрит на внезапно появившуюся Смерть.
Барончелли получил больше года на раздумья, чтобы найти ответ на вопрос: пошло бы на пользу городу устранение клана Медичи и замена его Якопо и Франческо де Пацци. Лоренцо отличался уравновешенностью, осторожностью; Франческо обладал взрывным темпераментом, действовал порою необдуманно. Он быстро превратился бы в тирана. У Лоренцо хватало мудрости внушить людям любовь, что было очевидно, судя по толпе, собравшейся теперь на площади; Франческо слишком высокомерен, чтобы думать о подобных вещах.
Но самое главное, Лоренцо был настойчив. В конце концов, его рука дотянулась и до Стамбула. Как только его агенты разведали, где прячется Барончелли, Лоренцо отправил к султану эмиссара, нагруженного золотом и драгоценностями. Таким образом, судьба Барончелли была решена.
Всех преступников повесили на городских воротах, а затем поспешно зарыли в неосвященную землю. После казни Барончелли похоронят в одной дыре с ними — но с учетом серьезности преступления казнь должна была произойти на главной площади Флоренции.
Сейчас, когда маленькая повозка с грохотом катила мимо толпы, приближаясь к эшафоту, у Барончелли вырвался громкий стон. Страх сковал его душу, причиняя муки, не сравнимые ни с какой физической болью; его бросало то в жар, то в холод, порой захлестывала дурнота, словно он тонул. Ему казалось, что еще немного — и он потеряет сознание, но забвение, как это ни жестоко, не приходило.
— Смелее, синьор, — раздался голос. — Бог не покинет вас.
Рядом с повозкой шагал его Утешитель. Этого флорентийца звали Лауро, и он был членом братства Санта-Мария делла Кроче, также известного как орден черных, потому что все его члены носили черные накидки с капюшонами. Цель ордена — дарить утешение и милость нуждавшимся, включая несчастные души, осужденные на казнь.
Лауро находился при Барончелли с первой минуты его появления во Флоренции. Он следил за тем, чтобы с пленным хорошо обращались, как следует кормили и одевали, разрешали посылать письма родным (Джованна так и не откликнулась на его призыв повидаться). Лауро выслушивал слезные покаяния Барончелли и оставался с ним в камере, чтобы за него помолиться. Утешитель взывал к Святой Деве, Христу, Всевышнему и святому Иоанну, покровителю Флоренции, чтобы они даровали Барончелли прощение, покой и позволили его душе попасть в чистилище, а оттуда — на небеса.
Барончелли не присоединялся к нему в молитвах, полагая, что Всевышний воспримет это как личное оскорбление.
Теперь Утешитель под черным капюшоном шагал рядом с ним и во весь голос произносил псалом, или молитву, или церковный гимн — из-за шума толпы Барончелли не мог разобрать ни слова, видел только белый пар изо рта. В ушах у него раздавалось лишь одно слово, оно пульсировало в такт сердцу: «Palle. Palle. Palle».
Повозка подкатила к ступеням, ведущим на виселицу. Утешитель взял Барончелли под локоть и неловко помог ему спуститься на холодный плитняк. У Барончелли от ужаса подкосились ноги; Утешитель опустился на колени рядом с ним и зашептал на ухо:
— Не бойся. Твоя душа воспарит прямо на небеса. Из всех людей один ты не нуждаешься в прощении. То, что ты совершил, было угодно Богу и не считается преступлением. Многие из нас называют тебя героем, брат. Ты сделал первый шаг на пути очищения Флоренции от великого зла.
Голос Барончелли так дрожал, что он с трудом понял сам себя:
— От Лоренцо?
— От распутства. Язычества. От нечестивого искусства.
Барончелли, стуча зубами, злобно взглянул на него.
— Если ты… если другие… верят в это, тогда почему вы не спасли меня раньше? Спасите сейчас!
Мы не смеем действовать открыто. Предстоит еще очень много сделать, прежде чем Флоренция, Италия да и весь мир будут готовы нас принять.
— Безумец, — выдохнул Барончелли. Утешитель улыбнулся.
— Все мы безумны перед Всевышним.
Он помог Барончелли подняться, но тот, вскипев, вырвал локоть и, спотыкаясь, самостоятельно взошел по ступеням.
На эшафоте палач, молодой, стройный мужчина, чье лицо было скрыто под маской, встал между Барончелли и висевшей петлей.
— Перед лицом Господа, — произнес палач, обращаясь к преступнику, — я прошу у тебя прощения за то, что поклялся совершить.
Во рту Барончелли пересохло, язык прилип к нёбу, когда он с трудом заговорил, и все же голос его звучал поразительно спокойно:
— Я прощаю тебя.
Палач облегченно вздохнул. Наверное, прежде обреченные на смерть стремились запятнать его руки в своей крови. Он поймал Барончелли за локоть и подвел к определенной точке на платформе, возле петли.
— Встань здесь.
Голос его звучал до странного нежно. Он вынул из складок плаща белый льняной шарф.
За секунду до того, как ему завязали глаза, Барончелли окинул взглядом толпу. Впереди стояла Джованна с детьми. Она находилась слишком далеко, поэтому Барончелли не был уверен, но ему показалось, что лицо у нее заплаканное.
Лоренцо де Медичи нигде не было видно — но Барончелли не сомневался, что он присутствует на казни. Следит откуда-нибудь с потайного балкона или из окна, а может быть, затаился в самом дворце синьории.
Внизу, у подножия эшафота, стоял Утешитель, на его суровом лице, как ни странно, блуждало довольное выражение. В секунду прозрения Барончелли понял, что он сам, Франческо де Пацци, мессер Якопо, архиепископ Сальвиати — все они поступили как глупцы, их мелкими амбициями воспользовались для того, чтобы осуществить более грандиозный план, внушавший ему теперь почти столько же ужаса, как и неминуемая смерть.
Палач завязал глаза преступника шарфом, затем накинул ему на шею петлю и туго затянул. За секунду до того, как платформа под ним упала, Барончелли прошептал два слова, обращаясь к самому себе:
— Получай, предатель.
X
Как только тело Барончелли перестало дергаться, молодой художник из первых рядов толпы сразу приступил к работе. Трупу предстояло висеть на площади несколько дней, до тех пор, пока он не сгниет и сам не вывалится из веревки. Но художник не мог ждать. Он хотел запечатлеть образ, пока в нем еще не угасло эхо жизни. Кроме того, молодые повесы вскоре затеют забаву — начнут швырять в повешенного камни, а потом непременно пройдет дождь и труп распухнет.
Он набросал эскиз на бумаге, прижатой для жесткости к доске из тополя. Он заранее срезал мягкий пушок со ствола пера, ибо так часто им пользовался, что любые колючки вызывали раздражение на длинных пальцах; острие пера он собственноручно заточил до тончайшего кончика и теперь то и дело погружал его в железный флакончик с чернилами, крепко привязанный к поясу. Рисовать, как следует в перчатках нельзя, поэтому он их и не надевал, и теперь руки ломило от холода, но он не обращал внимания на боль, не тратя зря времени. Точно так же он прогнал прочь грозившую захлестнуть его печаль — зрелище казни вызвало болезненные воспоминания — и сосредоточился на рисунке.
Люди всегда пытаются скрыть свои истинные чувства, но невольно выдают себя выражением лица, позой или голосом. То, что Барончелли испытывал сожаление, было очевидным. Даже в смерти взгляд его был потуплен, словно он лицезрел ад. Голова понурая, уголки тонких губ виновато поникли. Художник видел перед собой человека, переполненного презрением к самому себе, и постарался не поддаться собственной ненависти, хотя у него были все причины возненавидеть Барончелли. Но ненависть была против его принципов — в точности как ноющие от холода пальцы и сердце, — он не обращал на нее внимания и продолжал работать. Кроме того, он считал убийство неэтичным — даже казнь убийцы, такого как Барончелли.
По давней привычке он набросал несколько строк на листе, чтобы не забыть цвета и ткани, ибо ему представился отличный шанс позже сделать из наброска картину. Писал он слева направо, выводя буквы в зеркальном отображении. Несколькими годами ранее, когда он ходил в учениках у Андреа Верроккио, другие художники обвиняли его в неоправданной скрытности: когда он показывал им свои эскизы, они не могли разобрать его заметки. Но он всегда писал именно так, как было для него естественно, и никогда не добивался, чтобы, кроме него, записи никто не мог прочесть, — это получалось случайно.
«Шапочка каштанового цвета, — выводило перо по бумаге. — Куртка из черной саржи, фуфайка на шерстяной подкладке, синий плащ, подбитый лисьим мехом, бархатный воротник с черными и красными крапинами, Бернардо Бандино Барончелли. Рейтузы черные». В предсмертной агонии Барончелли сбросил туфли, на рисунке он был изображен с босыми ногами.
Художник нахмурился, глядя на то, как написал второе имя Барончелли. Он был самоучка, до сих пор не избавился от своего сельского диалекта, и правописание порою ставило его в тупик. Не важно. Лоренцо де Медичи интересовался образами, а не словами.
Внизу листа он сделал быстрый набросок, изображавший голову Барончелли под другим углом, — так, чтобы были видны искаженные черты лица. Довольный достигнутым результатом, он принялся за настоящую работу — рисунки лиц из толпы. Люди, стоявшие впереди — знать и богатые купцы, — начали расходиться, подавленные и угрюмые. Populo minuto, «тощий народ», плебс, задержался, продлевая развлечение, — им хотелось еще обрушить на труп град камней и ругательств.
Художник внимательно вглядывался в людей, покидавших площадь. Делал он это по двум причинам: во-первых, он всегда изучал лица. Те, кто его знал, давно привыкли к внимательным взглядам. Но главная причина была связана с его встречей с Лоренцо де Медичи. Художник искал одно лицо — то самое, которое видел всего несколько секунд чуть более полутора лет назад. Несмотря на талант физиономиста, он смутно помнил те черты, но сердцем чуял, что узнает их. На этот раз он решил не позволить эмоциям взять над собою верх.
— Леонардо!
От неожиданного оклика художник испугался и невольно дернулся, машинально прикрыв ладонью, пузырек с чернилами, чтобы тот не пролился. Старый друг из мастерской Верроккио собрался, было покинуть площадь, но теперь шел ему навстречу.
— Сандро, — сказал Леонардо, когда перед ним остановился его давнишний приятель, — ты выглядишь как приор.
Сандро Боттичелли заулыбался. В свои тридцать пять, будучи на несколько лет старше Леонардо, он находился в расцвете жизненной карьеры. И действительно, костюм на нем был великолепный — алый, подбитый мехом плащ и черная бархатная шапочка, закрывшая почти всю золотистую шевелюру. Он был подстрижен короче, чем диктовала мода: волосы лишь прикрывали уши. Как и Леонардо, он был гладко выбрит. Зеленые глаза под тяжелыми веками смотрели дерзко; впрочем, он всегда держался с вызовом. Тем не менее, он нравился Леонардо. Он обладал огромным талантом и добрым сердцем. За прошедший год Сандро получил несколько весомых заказов от Медичи и Торнабуони, включая огромную картину «Весна», которая должна была стать свадебным подарком Лоренцо его кузине.
Сандро хитро взглянул на эскиз Леонардо.
— Вот, значит, как. Пытаешься украсть у меня работу, понятно.
Он имел в виду недавно выполненную фреску на фасаде здания близ Дворца синьории, частично открывшуюся взору теперь, когда толпа начала редеть. В те ужасные дни, что последовали за смертью Джулиано, он получил заказ от Лоренцо изобразить каждого казненного заговорщика Пацци, когда те будут болтаться на веревке. Выполненные в натуральную величину изображения должным образом внушали ужас, как и было, задумано. Там был Франческо де Пацци, совершенно обнаженный, с запекшейся раной на бедре; был там и Сальвиати в сутане архиепископа. Оба мертвеца были изображены лицом к зрителям — эффектное, но не совсем точное воспроизведение действительности. Как и Боттичелли, Леонардо находился на площади Синьории в тот момент, когда Франческо, вытащенного из постели, выбросили из верхнего окна дворца и повесили на самом здании для всеобщего обозрения. Секундой спустя за ним последовал Сальвиати, который в последнее мгновение успел повернуться к сообщнику-заговорщику и — то ли от сильнейшего непроизвольного спазма, то ли в приступе ярости — впился зубами в плечо Франческо де Пацци. Это было дикое зрелище и столь неприятное, что даже Леонардо, поддавшись эмоциям, не занес его в свой альбом. Изображения остальных казненных, включая мессера Якопо, были частично завершены, но одного убийцы не хватало: Барончелли. Вероятно, в это утро Боттичелли тоже делал эскизы, намереваясь закончить фреску. Но при виде наброска Леонардо он пожал плечами.
— Неважно, — произнес он небрежно. — Если я настолько богат, что одеваюсь как приор, то, безусловно, могу позволить такому бедняку, как ты, завершить работу. Мне предстоят более важные дела.
Леонардо, одетый в тунику до колен, сшитую из дешевого потертого льна, и плащ из тускло-серой шерсти, сунул набросок под мышку и отвесил преувеличенный поклон, изображая благодарность.
— Вы слишком добры, господин. — Он выпрямился. — Ладно, иди. Ты наемный мазила, а я истинный творец, и мне предстоит многое завершить, прежде чем начнутся дожди.
Они расстались с Сандро, обменявшись улыбками и кратким объятием, и Леонардо сразу вновь обратился к изучению толпы. Он всегда был рад встрече с Сандро, но вынужденный перерыв его раздражал. Слишком многое поставлено на кон. Он задумчиво сунул руку в кошелек на поясе и принялся вертеть в пальцах золотой медальон размером с большой флорин. На одной стороне рельефно выступали слова «Всеобщая скорбь». Ниже был изображен Барончелли, занесший над головой длинный нож, в то время как Джулиано удивленно взирал на лезвие. Из-за спины Барончелли выглядывал Франческо де Пацци, держа наготове кинжал. Леонардо создал эскиз, максимально достоверно передав происшедшее и допустив ради зрителей одну-единственную неточность: Джулиано был повернут лицом к Барончелли. Верроккио затем отлил медальон по рисунку Леонардо.
Через два дня после убийства Леонардо отправил записку к Лоренцо де Медичи.
«Мой господин Лоренцо, мне нужно поговорить с Вами с глазу на глаз об одном чрезвычайно важном деле».
Ответа не последовало: Лоренцо, сокрушенный горем, укрылся во дворце Медичи, который превратился в крепость, окруженную десятками вооруженных людей. Визитеров он не принимал, письма с просьбами высказать мнение или оказать благодеяние копились горой, оставаясь без ответа.
Прождав неделю, Леонардо занял золотой флорин и отправился к дверям оплота Медичи. Он подкупил одного из стражей, чтобы тот немедленно доставил второе послание, а сам остался в лоджии в ожидании ответа, наблюдая, как по булыжной мостовой барабанит дождь.
«Мой господин, я пришел не с деловым визитом и благодеяний никаких не ищу. У меня есть важные сведения о смерти Вашего брата, предназначенные только для Ваших ушей».
Несколько минут спустя его пропустили во дворец, предварительно тщательно проверив, нет ли у него с собой оружия, — смехотворная мера предосторожности, ведь он отродясь не держал никакого оружия в руках и понятия не имел, как с ним обращаться.
Лоренцо принял его в своем кабинете — бледный и безжизненный, с забинтованной шеей, одетый в черное, он сидел, окруженный поразительной красоты произведениями искусства. Он взглянул на Леонардо глазами, затуманенными виной и горем, — однако в них все же проглядывал интерес к тому, что предстояло услышать.
Утром 26 апреля Леонардо находился в нескольких шагах от алтаря собора Санта-Мария дель Фьоре. У него накопились вопросы к Лоренцо относительно совместного заказа, полученного им и его бывшим учителем Андреа Верроккио на создание скульптурного бюста Джулиано. Леонардо надеялся перехватить старшего брата Медичи после службы. Художник посещал мессу, только если у него было какое-то дело. Мир природы он считал гораздо более вдохновляющим, чем рукотворный собор. Он был в очень хороших отношениях с Медичи и в последние несколько лет месяцами жил в доме Лоренцо в качестве одного из многочисленных семейных художников.
К удивлению Леонардо, в то утро в собор пришел и Джулиано. Он опоздал к началу службы и, когда, наконец, явился в сопровождении Франческо де Пацци и его работника, выглядел несколько встрепанным.
Леонардо находил и мужчин, и женщин в равной степени прекрасными, в равной степени достойными его любви, но для себя он выбрал жизнь, не освещенную любовью. Художник не мог позволить буре страстей прерывать его работу. Он тщательно избегал женщин, ведь жена и дети сделали бы невозможным изучение искусства, окружающего мира и его обитателей. Он не хотел стать тем, во что превратился его учитель Верроккио: мастер растрачивал свой талант, брался за любую работу, будь то создание масок для карнавала или золочение женских туфелек, — лишь бы накормить голодную семью. Верроккио никогда не хватало времени на эксперимент, наблюдение, самосовершенствование.
Впервые обо всем этом ему рассказал Антонио, приходившийся Леонардо дедушкой. Антонио глубоко любил своего внука, игнорируя тот факт, что он был незаконным отпрыском служанки. Когда Леонардо подрос, только дед подметил в нем талант и подарил внуку чистый альбом и уголек для рисования. Как-то раз семилетний Леонардо сидел на холодной траве, держа в руках серебряное перо и дощечку, — он изучал, как ветер теребит листья в оливковом саду. Антонио — энергичный старик, вечно находивший себе дело, несмотря на преклонный возраст, — остановился возле мальчика и взглянул вместе с ним на блестящие листочки.
Неожиданно, под влиянием минуты, он произнес: — Не обращай внимания на традицию, мой мальчик. Ты в два раза талантливее меня, конечно, но и я когда-то хорошо рисовал и стремился, подобно тебе, разобраться, как все устроено в этом мире. Но я послушался отца. Прежде чем оказаться на ферме, я поступил к нему в ученики в контору нотариуса. Вот кто мы есть — семейство нотариусов. Один породил меня, а я породил другого — твоего отца. Ну и что мы дали миру? Контракты, векселя, заверенные подписи на документах, которые неминуемо обратятся в прах.
Но я не сразу отказался от мечты. Даже изучая профессию нотариуса, я потихоньку рисовал. Наблюдал птиц, движение воды в реках, мне было любопытно, как все устроено. Но потом я встретил твою бабушку Лючию и влюбился. Худшего не могло случиться, ведь я забросил искусство, науку и женился. Потом пошли дети, и уже не было времени разглядывать деревья. Лючия как-то нашла мои наброски и швырнула их в огонь.
Но Бог подарил нам тебя, с твоим поразительным умом, глазами и руками. И твой долг не растерять все это. Обещай, что не повторишь мою ошибку. Обещай мне, что никогда не позволишь сердцу возобладать над разумом.
Юный Леонардо пообещал.
Но когда он попал в милость к Медичи, вошел в круг этого семейства, его потянуло, и физически и духовно, к младшему брату Лоренцо. Джулиано был безгранично прекрасен, и не столько из-за благородной внешности — Леонардо, гораздо более миловидный, часто слышал от друзей в свой адрес эпитет «красавец», — а скорее из-за чистой добродетели его души.
Свои чувства Леонардо держал при себе. Он не желал, чтобы Джулиано, любитель женщин, испытывал неловкость; к тому же ему не хотелось шокировать Лоренцо, его хозяина и патрона.
Когда Джулиано появился в соборе, Леонардо, стоявший всего через два ряда позади него (ибо постарался как можно ближе подобраться к Лоренцо, чтобы потом перехватить его), невольно приклеился к юноше взглядом. Он заметил, как грустен Джулиано, и испытал при этом не сочувствие и любовь, а жгучую ревность.
Накануне вечером художник направился к Лоренцо с намерением поговорить о заказе. Он вышел на виа де Гори, миновал церковь Сан-Лоренцо. Дворец Медичи располагался впереди и чуть левее, и Леонардо шагнул на улицу, ведущую к нему.
Смеркалось. На западе возвышались узкая башня Дворца синьории и огромный скругленный купол Дуомо, четко обрисованного на фоне светящегося кораллового горизонта, который постепенно начинал угасать до лилового, а затем серого цвета. В столь поздний час улица была пустынной, и Леонардо остановился посреди мостовой, наслаждаясь окружающей красотой. Он не мог оторвать взгляд от кареты, катившей в его сторону, любуясь четкими силуэтами лошадей на фоне яркого заката; животные, подсвеченные последними лучами солнца, казались совершенно черными. Закат был для Леонардо любимым временем суток: слабеющий свет придавал предметам и оттенкам цвета особую нежность, мягкую таинственность, которую выжигало полуденное солнце.
Весь уйдя в созерцание игры теней на спинах животных, перекатывающихся под кожей мускулов, любуясь их грациозно поднятыми головами, он даже не обратил внимания, что они оказались совсем близко, но вовремя пришел в себя и быстро убрался с дороги. Перейдя улицу прямо у них под носом, он оказался у южной стены дворца Медичи. Предстояло идти еще меньше минуты до виа Ларга. Возница кареты остановил лошадей на некотором расстоянии от художника, дверца открылась. Леонардо задержал шаг и увидел, что из кареты вышла молодая женщина. Сумерки преобразили белизну ее кожи, придав ей, сизый оттенок голубиного крыла, глаза казались совсем черными. Темное строгое платье и накидка, опущенное вниз лицо — все свидетельствовало о том, что перед ним служанка из богатого семейства. Украдкой бросив взгляд по обеим сторонам, она решительно зашагала к боковому входу во дворец и постучала в дверь.
Через какое-то время дверь открылась с долгим натужным скрипом. Служанка вернулась к карете и нетерпеливым жестом позвала кого-то. Оттуда выбралась женщина и легким шагом грациозно прошла в открытую дверь.
Леонардо невольно произнес ее имя вслух. Она входила в число друзей семейства Медичи и часто бывала во дворце. Несколько раз Леонардо с ней разговаривал. Еще не успев толком разглядеть, он узнал ее по походке, покатым плечам, наклону головы, когда она повернулась, чтобы посмотреть на него.
Он сделал шаг навстречу и, наконец, сумел различить ее лицо.
Длинный прямой нос с трепетными ноздрями, широкий и высокий лоб. Подбородок заострен, но скулы и щеки мягко округлены, как и плечи.
Она всегда была красива, но сейчас сумерки смягчили ее черты, придав им завораживающее очарование. Казалось, она вся растворилась в воздухе, и невозможно было сказать, где заканчивалась тень и начиналась живая женщина из плоти и крови. Ее лицо, открытая шея, руки словно плыли сами по себе в темноте, с которой слились платье и волосы. Она светилась затаенной радостью, в глазах читалась загадка, губы едва заметно изогнулись в улыбке.
В это мгновение она казалась не обычным человеческим существом, а посланницей Господней.
Он протянул руку, почти уверившись, что рука не коснется тела, а пройдет насквозь, словно перед ним привидение.
Женщина отпрянула, и он разглядел, несмотря на сумерки, вспышку страха в ее глазах. Она явно не хотела быть узнанной. Жаль, у него не было в руке пера, иначе он затушевал бы глубокую морщинку между ее бровей и вернул таинственный взгляд.
Он снова пробормотал ее имя, на сей раз вопросительно, но взгляд женщины уже был обращен к распахнутой двери. Леонардо проследил, куда она смотрит, и увидел на мгновение еще одно знакомое лицо — это был Джулиано. Он почти полностью скрывался в тени и сам не видел Леонардо.
Женщина, увидев Джулиано, расцвела.
В то мгновение Леонардо все понял и отвернулся, переполненный горечью. Дверь закрылась.
В тот вечер он не пошел на встречу к Лоренцо. Вернулся домой, в свою крохотную квартирку, и долго не мог заснуть. Уставившись в потолок, он видел, как из темноты выплывают полупрозрачные черты лица той красавицы.
На следующее утро, глядя на Джулиано под сводами собора, Леонардо только и мог думать, что о своей несчастной страсти. Он вновь и вновь вспоминал то болезненное мгновение, когда Джулиано с женщиной обменялись взглядами и он сразу понял, что их сердца принадлежат друг другу. И тогда Леонардо проклял себя за то, что поддался такому глупому чувству, как ревность.
Он весь оказался во власти своих дум, так что неожиданно начавшаяся суматоха перепугала его. Какой-то человек в балахоне из мешковины выступил вперед за секунду до того, как Джулиано обернулся и бросил на него взгляд, после чего раздался короткий крик.
Затем Барончелли что-то хрипло завопил. Леонардо, окаменев, уставился на поднятый блестящий клинок. В мгновение ока перепуганные прихожане бросились врассыпную, оттиснув художника назад. Он яростно сопротивлялся, стараясь выбраться из толпы, чтобы подбежать к Джулиано и защитить его от нового удара, — но все бесполезно, он не то, что не мог продвинуться вперед, ему не удалось даже удержаться на месте.