Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия Коллектив авторов
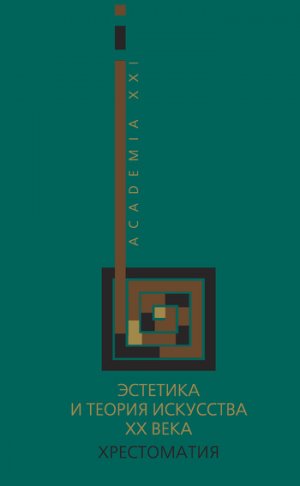
Введение
Эстетика и теория искусства XX века: альтернативные типы дискурсивности в контексте трансформации культуры. Н.А. Хренов
Предлагаемая читателю хрестоматия дополняет вышедшее ранее учебное пособие «Эстетика и теория искусства XX века», и предполагается, что включенные в нее тексты иллюстрируют положения, высказываемые авторами учебного пособия. Хрестоматия состоит из трех основных разделов: «Эстетика как философия искусства», «Эстетическая рефлексия в границах смежных дисциплин и научных направлений» и «Основные направления в теории искусства XX века». Первый раздел, «Эстетика как философия искусства», представлен фрагментами, извлеченными из работ представителей самых разных философских направлений. Ставя вопрос о мотивировке необходимости в таком разделе, сошлемся на представителя феноменологии М. Дюфрена, утверждающего, что эстетический опыт является исходной точкой для движения к деятельности и науке. «И это понятно: эстетический опыт пребывает в истоке, в той точке, где человек, перемешанный с вещами, испытывает свое родство с миром; природа в нем раскрывает себя, и он способен читать великие образы, которые она ему поставляет. Будущее Логоса готовится в этой встрече до всякого языка – здесь говорит сама Природа. Природа творящая, порождающая человека и воодушевляющая его на то, чтобы он следовал разуму. Теперь понятно, почему некоторые философские учения отводят эстетике особое место: они устремлены к истоку и все их искания ориентируются и освещаются эстетикой»1.
В первом разделе объединены философские тексты, позволяющие получить представление о так называемой «эксплицитной» эстетике, т. е. о тех подходах к эстетическим и искусствоведческим проблемам, что изложены на языке философии. Так, Х. Ортега-и-Гассет представляет поздний период «философии жизни». Тексты М. Мерло-Понти, Р. Ингардена, Г. Шпета и М. Дюфрена представляют феноменологию, интерес к которой в среде современных эстетиков нарастает. Русская религиозная философия представлена фрагментами из работ Н. Бердяева, П. Флоренского и В. Вейдле. Русская философская эстетика XX века представлена также фрагментом из ранней работы А. Лосева «Диалектика художественной формы» (1927). Ставшее в последние десятилетия исключительно популярным (чего не скажешь о времени его появления) сочинение В. Беньямина примыкает к проблематике Франкфуртской школы в философии. Современная американская философия, и в частности институционализм, представлена работами Д. Дики и Т. Бинкли. Столь сегодня популярная в России постмодернистская философия представлена фрагментами из работ Ж. Делеза, Ж. Дерриды и Ж.Ф. Лиотара.
Второй раздел, «Эстетическая рефлексия в границах смежных дисциплин и научных направлений», составлен текстами, демонстрирующими беспрецедентное в XX веке расширение сфер рассмотрения эстетической проблематики. Раздел открывается двумя текстами (З. Фрейда и К. Юнга), представляющими то, что П. Рикер называет «психоаналитической эстетикой». Важное место в изучении искусства занял структурализм, вдохновлявшийся методами лингвистики и этнологии. Как констатирует Ж. Деррида, «эстетика проходит через семиологию и даже этнологию»2. Это направление в хрестоматии представлено именами К. Леви-Строса, Р. Якобсона и Р. Барта. Естественно, что во втором разделе свое место нашла и работа представителя русской «формальной» школы Б. Эйхенбаума. Известно, что сегодня в мировой науке об искусстве русский формализм рассматривают предшественником структурализма. Рядом со статьей Р. Барта, посвященной вопросу об авторстве как ключевому вопросу в разных попытках построения в XX веке поэтики, публикуется статья М. Фуко, не склонного столь жестко формулировать вопрос об Авторе, как это делает Р. Барт, методология которого, как показывает данный текст, свидетельствует о его новых воззрениях, которые показательны уже для постструктурализма. Статья Я. Мукаржовского свидетельствует о том, что крупнейшие исследователи искусства, испытывая воздействие формализма и структурализма как наиболее репрезентативных направлений в теории искусства XX века, тем не менее оказываются в то же время их оппонентами. Отталкиваясь от ключевых идей в теории искусства своего времени, они выстраивают более диалектические и менее противоречивые системы. В момент формалистического ренессанса в отечественной теории искусства в еще большей степени оппонентом формализма явился М. Бахтин. Но, представая оппонентом формализма, М. Бахтин тем самым оказался уже и оппонентом будущего структурализма, что он и признает в отредактированной им позднее, уже в 60-х годах, в период повсеместного увлечения структурализмом, ранней своей статье «К методологии гуманитарных наук», также включенной в настоящее издание. Поскольку, критикуя формализм и структурализм, М. Бахтин тем самым уже закладывал основы постструктурализма, то стоит ли удивляться, что представители постструктурализма в лице Ю. Кристевой немало потрудились, чтобы ввести крупнейшего, но в свое время недооцененного и даже непонятого русского мыслителя в контекст мировой науки. Следует отдать должное Ю. Кристевой, статья которой «Разрушение поэтики» включена в настоящее издание, она высоко оценивает идеи М. Бахтина вовсе не только потому, что видит в них предвосхищение постструктурализма, но и потому, что отдает отчет в том, что это одна из наиболее фундаментальных теоретических систем об искусстве, уже оплодотворившая и продолжающая оплодотворять современную мировую гуманитарную мысль.
Таким образом, включенные во второй раздел тексты помогут представить широкий разброс идей и концепций, характерных для того направления науки об искусстве, которое в учебном пособии названо имплицитной эстетикой, актуализирующейся в границах разных гуманитарных дисциплин. Такое расширение обязано, во-первых, активизации уже существующих наук и научных направлений, а во-вторых, появлению новых наук и научных направлений.
Что касается третьего раздела, «Основные направления в теории искусства XX века», то он призван продемонстрировать одну из ярко выраженных тенденций теоретической рефлексии об искусстве, связанную с имеющим место разрывом между философско-эстетической рефлексией, традиция которой начинается в эпоху Просвещения, и собственно искусствоведческой рефлексией, стремившейся разработать специфические подходы к искусству. Не случайно среди теоретиков, представляющих в теоретической рефлексии об искусстве это направление, мы обнаруживаем имена самих творцов, в частности К. Малевича, В. Кандинского, А. Крученых, В. Хлебникова, А Бретона, Б. Брехта и других. В этих текстах проявилась также одна из тенденций теоретической рефлексии XX века, а именно: многие новаторские эксперименты в искусстве этого столетия сопровождались теоретическими комментариями и манифестами. Видимо, необходимость в этом была спровоцирована расхождением между искусством и реакциями на него публики или даже общества, которые нередко оказывались негативными, о чем в своих работах рассуждает Х. Ортега-и-Гассет. В этот раздел включены также работы некоторых теоретиков – историков искусства, оказавших колоссальное влияние на эстетическую и искусствоведческую мысль. Прежде всего это представители так называемой «венской школы», которую представляют исследователи разных поколений, – А. Ригль, Г. Вельфлин, М. Дворжак, Х. Зедльмайр и другие. Поскольку в России труды Г. Вельфлина издаются и переиздаются, то в хрестоматию включен текст А. Ригля, подход которого к искусству до сих пор представляет предмет дискуссий, а между тем его книги и статьи в России практически никогда не издавались и продолжают оставаться неизвестными. Это обстоятельство приводит к тому, что тезис А. Ригля о движении искусства от «осязающего» или «тактильного» к «оптическому» восприятию как главный для понимания логики развития истории искусства нам известен как тезис Г. Вельфлина. Эту логику А. Ригль проследил на материале античного искусства (Древний Восток, античная классика, римское искусство). Однако затем А. Ригль такую же логику смены систем видения обнаружил в западноевропейском искусстве Нового времени, что позволяет считать его основоположником циклического принципа в осмыслении логики истории искусства. Любопытно, что положивший в основу смены великих культур такой принцип О. Шпенглер продемонстрировал влияние именно искусствоведческих идей A. Ригля. Наше плохое знакомство с источниками по эстетике и теории искусства XX века (особенно с зарубежными, которые часто просто не переводились и в России не издавались) становится причиной того, что некоторые оригинальные идеи нам знакомы не в авторском варианте, а во вторичном воспроизведении. Это произошло, например, с идеями А. Крученых по поводу «заумного» слова в поэзии, которые оказались известными благодаря B. Шкловскому. Одна из самых известных статей В. Шкловского, посвященная ключевому, как настаивает О. Ханзен-Леве, понятию русского формализма – остранению, включена в данный раздел. В этот раздел вошли статьи выдающегося искусствоведа Э. Панофского и продолжателя идей венской школы искусствознания Э. Гомбриха. Обе эти статьи посвящены методологии анализа произведения искусства, а именно такому направлению в искусствознании, как иконология. В данном разделе представлен также текст В. Воррингера, первым обнаружившего в предшествующей истории живописи специфическую художественную систему, начавшую обращать на себя внимание в XX веке, а именно систему, связанную с беспредметным искусством. К сожалению в этот раздел не удалось включить текст Ф. Шмита, ощутившего еще в 20-е годы истекшего столетия необходимость в циклическом рассмотрении логики развития искусства на всем протяжении истории. Хотя имя этого теоретика к сегодняшнему дню оказывается почти забытым, тем не менее, подобно Г. Вельфлину, Ф. Шмит ставил вопрос о логике периодичности и прогресса как определяющей развитие искусства. Нам представляется, что необходимо восстановить справедливость и воздать должное отечественным теоретикам. В свое время вопрос о необходимости реабилитации циклической теории Ф. Шмита ставил еще В.Н. Прокофьев3. Идея Ф. Шмита представляет интерес еще и потому, что своим прямым предшественником в создании прогрессивной циклической теории культурно-исторического процесса Ф. Шмит считал Д.-Б. Вико, впервые изложившего основы такого подхода в своем труде «Основания новой науки об общей природе наций».
Таким образом, можно утверждать, что в истекшем столетии искусствоведческие и эстетические вопросы в большей степени рассматриваются не столько в традиционном философском плане, сколько в контексте науки – и той, что находится под сильным влиянием методологии естественных наук, и той, что демонстрирует бурное развитие гуманитарного знания. Активизация науки (высокий престиж естественнонаучного знания, с одной стороны, попытки его использования в гуманитарной сфере, с другой, и, наконец, решительная постановка вопроса о самостоятельности гуманитарного знания как такового и о его размежевании с естественнонаучным знанием), естественно, сказалась и на развертывающихся исследованиях искусства, на попытках и рассматривать его с естественнонаучных позиций, и с помощью специфических подходов, применяемых лишь в гуманитарных сферах. Однако независимо от того, каких методов придерживались исследователи, когда они обращались к искусству, очевидно одно: отныне рассмотрение искусства должно быть строго научным. Критерий научности применительно к искусству в XX веке явно становится определяющим. Поэтому очевидно, что каждая фиксируемая нами система рассмотрения искусства может быть понята лишь в своих отношениях с тем или иным научным направлением.
Второй раздел открывается текстами, представляющими такое авторитетное для всего XX века направление, как психоанализ. В небольшой по объему статье «Художник и фантазирование» З. Фрейд затрагивает сразу несколько проблем: и игровой характер художественного творчества, для доказательства которого З. Фрейд обращается к функции детской игры и ее отношению к фантазии, и связь творчества с неврозом, и обусловленность творчества художника травмами и переживаниями, имеющими место в детстве, и отношение авторского «я» к героям произведения, и даже катартическое воздействие искусства на воспринимающего, хотя термина «катарсис» З. Фрейд и не употребляет. Однако в данной статье не может не обратить на себя внимание суждение основоположника психоанализа о том, что нередко произведения индивидуального творчества актуализируют мифы, представляющие собой грезы целых народов, вековые мечтания юного человечества. Эту тему З. Фрейд подробно не развивает, поскольку под творчеством он подразумевает исключительно индивидуальное творчество, а под бессознательным лишь индивидуальное бессознательное. Однако другой, не менее авторитетный представитель психоанализа, К. Юнг, идеи которого З. Фрейд, как известно, не разделял, под бессознательным понимал не индивидуальное, а коллективное бессознательное. Он был убежден в том, что всякое проявление художественного творчества, в том числе и индивидуальное, является формой актуализации сохраняющихся в памяти народов вневременных формул в виде мифов и архетипов.
На протяжении всего XX века окажется актуальной дискуссия о радикальном изменении статуса автора. Наиболее радикальным образом этот вопрос был сформулирован Р. Бартом, буквально провозгласившим в истекшем столетии «смерть автора», о чем мы еще будем говорить подробно. Однако изменение статуса автора проходит лейтмотивом во многих исследовательских направлениях, и психоанализ, также претендующий на научность в интерпретации искусства, здесь не исключение. Так, З. Фрейду казалось, что творческий инстинкт связан с неврозом, и, следовательно, чтобы понять замысел автора, необходимо углубляться в личные, интимные переживания художника, не исключая и детские травмы. Но поскольку невроз – болезнь, то, с точки зрения З. Фрейда, творчество соотносимо с болезнью, по сути с клиническим актом. В этом случае произведение искусства становится средством изживания тех комплексов художника, которые не могут быть в жизни реализованы, ибо они несовместимы с моралью. Следовательно, в этом случае произведение искусства является материализацией вытесненного сознанием невротика бессознательного. Таким образом, творчество уподобляется сновидению. Как мы убеждаемся, методология интерпретации З. Фрейдом результатов художественного творчества приобретает врачебно-медицинский характер. Однако З. Фрейд был убежден, что именно это обстоятельство и придает такой интерпретации научный статус.
В этом вопросе оппонентом З. Фрейда стал К. Юнг. Пожалуй, именно К. Юнг, а вовсе не Р. Барт впервые формулирует «смерть автора» в одном из своих докладов 1922 года, текст которого включен в данную хрестоматию. Казалось бы, это странно, ведь высокий статус автора исследователи искусства связывают именно с психологией. Так, Ж. Базен фиксирует противоречие, связанное с методологией истории искусства. Очевидно, утверждает исследователь, что в искусстве колоссальную роль играет индивидуальный психологический фактор. «Между тем, – пишет он, – наука есть способ выявления общих начал, и потому история как наука призвана не довольствоваться перечислением отдельных наблюдений, но вскрывать причинную взаимосвязь между различными частными фактами. Видимо, ей надлежит игнорировать случайные события – но именно таковыми и являются par excellence результаты индивидуального творчества. Индивидуальное начало как бы выпадает в осадок исторического исследования и принадлежит уже не к сфере истории, а к другой науке – психологии»4. Однако, как свидетельствует представитель одного из направлений в психологии, К. Юнг, дело обстоит не столь просто. В самом деле, полемизируя с З. Фрейдом, поставившим акцент на личном содержании художественного творчества, К. Юнг формулирует: «Установка на личное, провоцируемая вопросом о личных побудительных причинах творчества, совершенно неадекватна произведению искусства в той мере, в какой произведение искусства не человек, а нечто сверхличное. Оно – такая вещь, у которой нет личности и для которой личное не является поэтому критерием. И особенный смысл подлинного произведения искусства как раз в том, что ему удается вырваться на простор из теснин и тупиков личностной сферы, оставив далеко позади всю временность и недолговечность ограниченной индивидуальности5. С коперниковским радикализмом К. Юнг впервые убирает с пьедестала автора, на который его успела поставить предшествующая культура и, в частности, культура Нового времени. По мнению К. Юнга, главным действующим лицом в творческом процессе является не личность художника. Определяющей силой творческого процесса является анонимная сила, перед которой творческая воля художника бессильна. Кажется, что не воля автора, а само произведение диктует художнику фиксировать образы. „Произведения эти буквально навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и она пишет вещи, которые ум его созерцает в изумлении. Произведение приносит с собой свою форму: что он хотел бы добавить от себя, отметается, а чего он не желает принимать, то появляется наперекор ему. Пока его сознание безвольно и опустошенно стоит перед происходящим, его захлестывает потоп мыслей и образов, которые возникли вовсе не по его намерению и которые его собственной волей никогда не были бы вызваны к жизни. Пускай неохотно, но он должен признать, что во всем этом через него прорывается голос его самости, его сокровенная натура проявляет сама себя и громко заявляет о вещах, которые он никогда не рискнул бы выговорить. Ему осталось лишь повиноваться и следовать, казалось бы, чуждому импульсу, чувствуя, что его произведение выше его и потому обладает над ним властью, которой он не в силах перечить“6.
Естественно, и тут К. Юнг не расходится с З. Фрейдом: этой стихией, перед которой сознание и воля художника оказываются бессильными, становится бессознательное. Но если в данном случае художник не является хозяином положения, не управляет творческим актом и бессилен его контролировать, то, следовательно, стоит ли удивляться тому, что в созданном произведении содержится много такого, что сам художник осознать бессилен. Получается, что „художник, намереваясь сказать нечто, более или менее явственно говорит больше, чем сам осознает“7. Как тут не констатировать, что К. Юнг приходит к тем же выводам, которые делают представители герменевтики, будь то В. Дильтей или Х.Г. Гадамер. Так, Х.Г. Гадамер, доказывая, что эстетика является важным элементом герменевтики, пишет: „Язык искусства предполагает прирост смысла, происходящий в самом произведении. На этом покоится его неисчерпаемость, отличающая его от всякого пересказа содержания. Отсюда следует, что в деле понимания художественного произведения мы не вправе довольствоваться тем испытанным герменевтическим правилом, что заданная тем или иным текстом истолковательная задача кончается на замысле автора. Наоборот, именно при распространении герменевтической точки зрения на язык искусства становится ясно, насколько не исчерпывается тут предмет понимания субъективными представлениями автора. Это обстоятельство, со своей стороны, имеет принципиальное значение, и в данном аспекте эстетика есть важный элемент общей герменевтики“8.
Однако как все же К. Юнг объясняет это вторжение в творческий процесс автономного и безличного комплекса? Откуда он берется? По мнению К. Юнга, в данном случае актуализируется и приходит в движение неосознаваемая часть психики. Любопытно, что, когда К. Юнг объясняет генезис этой неподвластной воле художника силы, он почти смыкается с культурно-исторической школой в психологии (Л.С. Выготский). Ведь активность автономного комплекса у художника сопровождается регрессивным развитием сознательных функций, т. е. сползанием на низшие, инфантильные и архаические ступени9. Но что означает этот регресс как механизм художественного творчества? Он означает незначимость личного содержания творчества, т. е. ту самую „смерть автора“. Поэтому К. Юнг рассуждает так. Источник художественного творчества следует искать не в бессознательном авторской личности (читай: не там, где его пытается найти З. Фрейд), а в сфере бессознательной мифологии, образы которой являются достоянием не отдельных индивидов, а всего человечества. Как мы можем отметить, к этому выводу близко подходил и З. Фрейд, о чем свидетельствуют процитированные нами выше строки из его статьи, подходил, но все же не развернул свое наблюдение так, как это сделает К. Юнг. Образы коллективного бессознательного, или первообразы (архетипы), сформированы всей предшествующей историей человечества. Вот как их характеризует сам К. Юнг. Утверждая, что в отличие от индивидуального бессознательного коллективное бессознательное никогда не вытеснялось и не забывалось, а потому и не образовывало слои психики под порогом сознания, К. Юнг пишет: „Само по себе и для себя коллективное бессознательное тоже не существует, поскольку оно есть лишь возможность, а именно та возможность, которую мы с прадревних времен унаследовали в виде определенной формы мнемонических образов или, выражаясь анатомически, в структуре головного мозга. Это не врожденные представления, а врожденные возможности представления, ставящие известные границы уже самой смелой фантазии, так сказать категории деятельности воображения, в каком-то смысле априорные идеи, существование которых, впрочем, не может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия. Они проявляются лишь в творчески оформленном материале в качестве регулирующих принципов его формирования, иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную подоснову праобраза лишь путем образного заключения от законченного произведения искусства к его истокам“10. Собственно, выявляя действие в творческом акте безличных сил, К. Юнг касается не только собственно творчества, но и воздействия результата творчества, т. е. произведения. К. Юнг даже употребляет выражение „тайна воздействия искусства“. Лишь провоцирование архетипа в творческом акте позволяет произведению трансформироваться в нечто общезначимое, а художник как мыслящий праобразами возвышает личную судьбу до судьбы человечества. Имея в виду социальную значимость искусства, К. Юнг пишет, что оно „неустанно работает над воспитанием духа времени, потому что дает жизнь тем фигурам и образам, которых духу времени как раз всего больше недоставало“11. Пожалуй, этот тезис детально и более глубоко раскрывает единомышленник К. Юнга – Э. Нойманн. Повторяя мысль К. Юнга о том, что вторжение коллективного бессознательного в процесс творчества кажется вторжением чего-то чужого, Э. Нойманн обращает внимание на возникающее особое состояние сознания, которое он называет трансформацией. В стабильные эпохи функционирование коллективного бессознательного контролируется культурным каноном и установками типа цивилизации. Культурный канон – сложное образование, включающее и индивидуальную психологию, и идеологию, и ориентации культуры. Возникновение его связано, видимо, с необходимостью формирования императивов сознания и поведения, столь важных для выживания больших человеческих коллективов. Однако помимо позитивной функции культурного канона можно констатировать его негативную сторону. Возникновение культурного канона связано с подавлением какой-то части психики, и, следовательно, „я“ индивида в этом случае не может свободно проявляться. Это обстоятельство способствует формированию „подпольной сферы“ в психике со свойственной ей опасным эмоциональным зарядом и деструктивностью. Однажды деструктивные силы могут выйти из „подполья“, и будут иметь место „сумерки богов“, т. е. культурный канон, способствующий выживанию цивилизации, окажется разрушенным. Когда-то культура воздвигла против деструктивных сил хаоса грандиозный бастион из мифа, религии, ритуалов, обрядов и праздников. Но в современной культуре все эти механизмы оказались утраченными. Поэтому их функции трансформировались в функции искусства, что значительно повысило его статус в культуре XX века. Однако несмотря на то, что искусство такие функции осуществляет, его компенсаторная природа все еще остается неосмысленной. Дело в том, что ради преодоления однобокости, узости культурного канона, преследующего практические цели, художник становится маргиналом, анархистом и бунтарем. По этому поводу сетует Ф. Ницше, сравнивая поэтов прошлого с современными. „Как это ни странно звучит в наше время, но бывали поэты и художники, душа которых была выше судорожных страстей с их экстазами и радовалась только самым чистым сюжетам, самым достойным людям, самым нежным сопоставлениям и разрешениям. Современные художники в большинстве случаев разнуздывают волю и поэтому иногда являются освободителями жизни, те же были укротителями воли, усмирителями зверя и творцами человечности, словом, они создавали, переделывали и развивали жизнь, тогда как слава нынешних состоит в том, чтобы разнуздывать, спускать с цепи, разрушать“12. Иллюстрацией разрушительной деятельности художника может служить, например, теория и практика сюрреализма. Тем более, что его вожди, и прежде всего А. Бретон, восхищались З. Фрейдом, о чем свидетельствуют и тексты. Так, во втором манифесте сюрреалистов А. Бретон комментирует тезис З. Фрейда из его работы „Пять лекций по психоанализу“ по поводу преодоления невроза с помощью его преобразования в художественное произведение»13. Однако А. Бретон склонен представлять бунт художника еще более радикальным. Ведь он уподобляет художника террористу. Так, в его манифесте не может не эпатировать такое утверждение: «Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе»14. Конечно, это эпатаж.
Однако следовало бы прислушаться к замечанию вспомнившего эту фразу А. Бретона А. Камю о том, что сюрреализм пришел к служению идеалам революции. Сюрреалисты прошли путь от Уолпола до Маркса. «Но ясно чувствуется, – пишет А. Камю – что отнюдь не изучение марксизма привело их к революции. Напротив, сюрреализм непрерывно силился примирить с марксизмом свои притязания, приведшие его к революции. И не будет парадоксом мысль, что сюрреалистов привлекло к марксизму то в нем, что сегодня они больше всего ненавидят»15. В самом деле, бунтарство и нигилизм сюрреалистов не ограничиваются призывом к разрушению языка, культом автоматического, т. е. бессвязного, языка, жизненным порывом, бессознательными импульсами и зовом иррационального. Как великое бунтарское движение оно дошло до восхваления убийства и политического фанатизма, до отказа от свободной дискуссии и оправдания смертной казни. Конечно, художественный акт не обязательно перерастает в акт насилия, как это провозглашается сюрреалистами, но, с другой стороны, это всегда отклонение от культурного канона, обычно воспринимаемое членами коллектива, а в особенности властью весьма болезненно. Ведь и манифест А. Бретона представляет собой сплошной диалог с теми, кто пытается опорочить и скомпрометировать сюрреализм, а таких охотников было много, в том числе и среди коллег – художников, имена которых А. Бретон называет. Бунт характерен и для такого художественного направления, как футуризм, сопровождавшийся эпатирующими критику и публику агрессивными и нигилистическими манифестами, в том числе, и по отношению к классическому искусству. Так, восхищаясь мюзик-холлом как способом разрушения традиций и привычных ценностей, Ф.Т. Маринетти писал: «Мюзик-холл уничтожает все торжественное, освященное, серьезное, что в искусстве с прописным И. И он участвует в футуристическом уничтожении бессмертных шедевров, плагиатируя и пародируя их, исполняя их без церемоний, без пышности и раскаянья, как какой-нибудь номер аттракциона. Вот почему мы вслух одобряем исполнение в 40 минутах Парсифаля, как его приготовляют в одном из лондонских музик-холлов»16.
Тем не менее, как это ни покажется парадоксальным, но в таком отклонении художника от культурного канона и заключается, по утверждению Э. Нойманна, позитивный смысл искусства. Такое отклонение от культурного канона получает поддержку в пробуждении именно коллективного бессознательного с присущей ему стихийной энергией. Если культурный канон, формируемый в границах какой-то цивилизации, всегда связан с архетипом отца, то художник сохраняет связь с материнским началом, которое тоже архетипично. Отрицая культурный канон в форме творческого акта, художник оживляет в коллективном бессознательном вытесненный сознанием материнский архетип, тоже необходимый человеческому сообществу. Хотя механизм адаптации противодействует активизации этого архетипа в жизни, тем не менее именно он может нарушить утраченное в рационалистических цивилизациях равновесие индивидов. Но если материнский архетип, способствующий связи сознания с бессознательным, невозможно восстановить в жизни, то искусство призывается для его актуализации в эстетических формах. В этом и проявляется позитивная компенсаторная функция искусства. В конечном счете, несмотря на одиночество художника, на обычную по отношению к нему агрессию со стороны общества, творец в не меньшей степени способствует выживанию человеческих коллективов, чем любая практическая деятельность. Таким образом, включенные в настоящее издание тексты представителей психоанализа и его ответвления – аналитической психологии – позволяют судить о результатах, связанных с вторжением в сферу искусства науки и с прокламируемым в XX веке тезисом о необходимости повышения критерия научности в исследовании искусства. В данном случае такой наукой предстает психоанализ. Однако решающей причиной явились далеко не только меняющиеся возможности науки. Пожалуй, основной причиной все же явилась трансформация самой сферы искусства. Может быть, точнее было бы сказать: трансформация условий функционирования искусства в обновляющихся обществах. Однако изменяющийся контекст функционирования, естественно, не может не оказывать влияния и на специфические творческие процессы. С рубежа XIX–XX веков стали возникать и множиться многие художественные течения и направления. В этой ситуации теоретизирование в искусстве трансформировалось в оправдание каждого из таких течений и направлений. Естественно, что в соответствии с каждым таким течением и направлением представлялась и логика предшествующего периода в истории искусства. Так, например, для Д. Мережковского предтечами символизма предстают многие художники XIX века17. Опыт символизма сопровождался мощным подъемом теоретической рефлексии об искусстве. Не менее мощным оказался подъем, спровоцированный футуризмом. Во всяком случае, русская «формальная» школа была вызвана к жизни именно экспериментами футуризма. М. Бахтин писал: «Это влияние футуризма на формализм было настолько велико, что, если бы дело закончилось сборниками Опояза, формальный метод стал бы объектом науки о литературе в качестве лишь теоретической программы одного из разветвлений футуризма»18.
Наше утверждение о природе теории искусства в XX веке можно было бы также иллюстрировать и конструктивизмом как художественным направлением, опыт которого все еще недостаточно осмыслен и прокомментирован. К сожалению, в хрестоматию не вошли тексты замечательного теоретика – искусствоведа Н. Тарабукина и исследователя социологического направления Б. Арватова. Основная идея конструктивистов заключалась в стремлении преодолеть опыт предшествующего искусства, порвавшего с жизнью и выражавшего вкусы аристократии и мещанско-предпринимательского слоя общества, упразднить индивидуализм в творчестве и придать ему коллективный, даже классовый смысл. В связи с этим то, что ранее в эстетике считалось художественными границами, должно быть расширенным. Художественная деятельность должна раствориться в производственной деятельности, а художник обязан превратиться в инженера, проектировщика. Лишь это обстоятельство позволит преодолеть разрыв между искусством и жизнью. Однако, ставя своей задачей преодоление индивидуализма и классово-сословного предназначения искусства, связанного с гедонистическими и развлекательными функциями, теоретики-конструктивисты все же находили в прошлом аналогии с тем, что они считали идеалом искусства. Так, Н. Тарабукин писал: «Идея производственного мастерства нова, как теоретическая проблема, но самый факт существования производственного мастерства имеет прецеденты в прошлом. Искусство первобытных народов (утварь, оружие, идолы), частично искусство Египта, Греции, наконец, народное и религиозное искусство являли собой форму производственного мастерства, хотя и в условном понимании»19.
Естественно, что, находя в прошлом, в том числе и в архаическом искусстве, синтез художественного и производственного, Н. Тарабукин предлагает пересмотреть историю искусства в ее традиционном понимании. При этом такой пересмотр касается как методологии исследования, так и всего накопленного за многие столетия фактического материала. «Если под углом зрения производственного мастерства мы взглянем на процесс эволюции художественных форм, то увидим, что чем дальше в глубину веков, тем более тесно было связано искусство с производством. Лишь со временем искусство, замыкаясь в станковые формы, становясь музейным, уходило от производства, пока приблизительно в XVIII столетии не произошел окончательный разрыв между ними. Искусство становится „чистым“, а производство – ремесленным»20. Кстати, ко времени такого разрыва теоретик приурочивает и зарождение эстетики, которую единомышленник Н. Тарабукина в отношении к производственной тенденции искусства Б. Арватов подвергает решительной критике. Ведь эстетика, возникшая в XVIII веке, не ставила и не стремилась ставить никаких практических задач. «Эстетика, попавшая в монопольное владение философов и психологов, окопалась в университетах, так же, как сейчас там засело искусствознание; но художников в университетах не было – они работали в мастерских, в том „святая святых“, куда буржуазный ученый, благоговея перед „священным“ творчеством, не смел войти с объективным орудием научного анализа»21. В частности, критике Б. Арватов подвергает даже И. Канта за его тезис о незаинтересованности, неутилитарности искусства, который, как он полагает, как раз и закрепляет в теории порочную практику искусства на поздних этапах истории и его фактическое вырождение22.
Соотносясь с каким-то художественным течением или направлением и выражая его установки, та или иная теоретическая система начинает претендовать на универсальность. Естественно, что возникающие течения и направления часто оказывались в конфликтных отношениях. Так, представители русской «формальной» школы, формулируя свои исходные методологические установки, полемически направляли их против символизма, что не удивительно, поскольку формалисты не скрывали того, что их школа возникла благодаря другому художественному направлению, а именно футуризму, утверждавшему себя в полемике с символизмом. Отсюда – отношение формалистов к символизму. Б. Эйхенбаум констатирует: «Определившееся к этому времени восстание футуристов (Хлебников, Крученых, Маяковский) против поэтической системы символизма было опорой для формалистов, потому что придавало их борьбе еще более актуальный характер»23. В этих условиях создается ощущение, что традиционная система представлений, сложившаяся в контексте европейской философии, в частности философии Просвещения, уже утеряла свойственную ей еще в XIX веке авторитетность. В какой-то степени это так и есть. Философская мысль Нового времени, столь авторитетная и многое определяющая на протяжении последних столетий, уже в XX веке оказывается в кризисе. Ясно, что возникшая в недрах этой философии эстетическая доктрина не могла сохранить за собой былую авторитетность. Можно даже утверждать, что, как философия Нового времени, так и эстетика этой эпохи оказалась в кризисе. И вот констатация В. Дильтея: «А наша эстетика хотя и живет еще на той или иной университетской кафедре, но уже отнюдь не в сознании ведущих художников или критиков, а ведь только тут бы ей и жить»24. Кстати, в такой же ситуации находилась и методология изучения истории искусства. Это особенно очевидно, когда она прилагается к изучению современного искусства, но не только. Например, Х. Бельтинг утверждает, что современное искусство взрывает рамки истории искусства как науки, поскольку традиционные нормы и концепции к нему неприменимы. По его утверждению, несостоятельность существующего искусствознания особенно очевидна в том случае, когда его приемы применяются при изучении искусства, существующего за пределами западного ареала. «Но даже и искусство Европы невозможно целиком описать в рамках традиционной истории искусства, поскольку оно выработалось на основе эстетических установок, характерных для весьма непродолжительного исторического периода, заключенного между Ренессансом и барокко»25.
Однако как эксперименты в самом искусстве, начавшие активно стимулировать теорию искусства, так, собственно, и теоретическая рефлексия явились следствием новых исторических процессов, радикальных изменений в отношениях человека и мира. Так, посвящая свою работу новаторской методологии М. Бахтина, Ю. Кристева отмечает, что, несмотря на применяемый новаторский инструментарий, формалистам, например, не удалось осмыслить своеобразие романной структуры Ф. Достоевского. Более глубокое проникновение в эти структуры имело место, когда возведенная формалистами система поэтики была разрушена. Собственно, работа Ю. Кристевой так и называется: «Разрушение поэтики», причем не только формалистской, но и структуралистской. Но удивительное дело, проникновение в строение романной структуры Ф. Достоевского М. Бахтиным своевременно не было ни замечено, ни оценено, и не только зарубежными исследователями, но и в России. Открытия М. Бахтина могли оценить лишь после того, как на Западе были заново открыты литературные конструкции, а главное, в новой литературе появились эксперименты, заставляющие вспомнить романные построения Ф. Достоевского. «Когда „новый роман“ принялся под микроскопом рассматривать всевозможные „неустойчивые состояния“, „подобные движению атомов“, исподволь расшатывающие линейную коммуникацию между двумя устойчивыми субъектами, то он указал именно на Достоевского как на первого человека, открывшего доступ в этот подпольный мир»26. Поэтому в данном случае вполне можно было бы согласиться с Ю. Кристевой по поводу того, что оригинальность того или иного теоретика (в данном случае М. Бахтина) заключается не только в конструктивности применяемой им методологии, но и в способности ощутить новые структуры. «Это значит, что разрушение формалистической и/или классицистической поэтики, предпринятое Бахтиным, оказалось результатом не только новой научной методологии, но и новой „реальности“: это не какой угодно повествовательный текст, нейтральный, существующий вне времени и пространства, но текст современный, заставляющий вспомнить и выделить определенную традицию (мениппейную, карнавальную, полифоническую), к которой эта поэтика никогда не могла подступиться»27. Естественно, что исследователи искусства, вдохновлявшиеся философской эстетикой Нового времени, не всегда могли осмыслить самые значительные художественные проявления. Однако существовал еще один аспект, свидетельствующий о «закате» такой эстетики. Этот ее «закат» В. Дильтей усматривал еще в западной городской культуре XIX века с присущими ей революционными и демократическими движениями, с тем, что позднее назовут «восстанием масс». «Как только, начиная со времен Французской революции, взор поэтов и публики стала все сильнее притягивать к себе небывалая реальность Лондона и Парижа – городов, в душах которых стала обращаться новая разновидность поэзии, – как только Диккенс и Бальзак приступили к созданию эпоса современной жизни, протекающей в этих столицах, окончательно прошла пора тех принципов поэтики, какие некогда обсуждались в идиллическом Веймаре в беседах между Шиллером, Гёте и Гумбольдтом»28. По сути дела, в мире Шиллера, Гёте и Гумбольдта представлена вся просветительская – и философская, и эстетическая – мысль, которая оттесняется на периферию. А что же можно было наблюдать в реальности уже во времена Бальзака и Диккенса? Прежде всего кризис эстетики как науки, предназначением которой является поддержание нормы в вопросах эстетического вкуса как в среде самих творцов, так критики и публики. Если иметь в виду ситуацию в России, то Б. Эйхенбаум констатирует: эстетика и теория искусства потеряли ощущение собственного предмета исследования. Теоретическое наследие Потебни и Веселовского продолжало оставаться мертвым капиталом. Таким образом, забвение академической науки способствовало расцвету так называемой науки «журнальной» и импрессионистической критики. Результатом такого кризиса оказывается анархия вкусов. Почему эта анархия стала возможной? Да потому, что уже не столько сами художники или вдохновлявшиеся прежде эстетикой критики стали законодателями высокого художественного вкуса. Уже во времена В. Дильтея вкусы начала навязывать толпа, массовая публика. И вот констатация В. Дильтея: «Царит публика. Толпы, собирающиеся и в колоссальных выставочных помещениях, и в больших и малых и каких угодно театрах, и в библиотеках – эти толпы создают художникам имя и растаптывают их»29. По сути дела, чем ближе к XX веку, тем все более становится очевидно, что элита в лице своих представителей, будут ли таковыми сами творцы или ими будут критики, вынуждена сдать свои былые позиции, перестать, вдохновляясь философской эстетикой, внедрять высшие образцы вкуса в общество и уступить свое привилегированное место массе. Однако было бы ошибкой считать, что возникновение массы является лишь следствием кризиса. Обсуждая омассовление в культуре XX века, Р. Гвардини утверждает, что масса не есть проявление упадка и разложения, она представляет собой историческую форму существования человека, раскрывающуюся как в бытии, так и в творчестве. По сути дела, Р. Гвардини, как бы продолжая суждения В. Дильтея, в то же время солидаризируется с Х. Ортегой-и-Гассетом, утверждая, что с некоторого времени уже невозможно говорить о личности и субъективности в прямом смысле. «Такой человек (человек массы. – Н.Х.) не устремляет свою волю на то, чтобы хранить самобытность и прожить жизнь по-своему, преобразовав окружающий мир так, чтобы он вполне соответствовал ему и по возможности ему одному»30. Такому созданному Новым временем типу личности противостоит безынициативный, безличный человек массы. «Инстинктивное стремление этой человеческой структуры – прятать свою самобытность, оставаясь анонимным, словно в самобытности источник всякой несправедливости, зол и бед»31. Естественно, что такая трансформация на искусство не может не влиять. Некогда существовавшая норма вкуса человеку массы противостоит. Последний любит сильные, захватывающие эффекты, требуя этого и от искусства. «Массы обрели голос и значение, и теперь они с легкостью стекаются к таким центральным пунктам, где могут требовать удовлетворения своего стремления к захватывающим воздействием, которые потрясали бы сердца»32. Это обстоятельство уже в первых десятилетиях XX века сделало актуальным другое научное направление, а именно социологическое направление, хотя возникновением оно обязано XIX веку, т. е. веку позитивизма, разновидностью которого является и социологическое знание. Не случайно Р. Гвардини говорит, что с некоторых пор новый тип массовой личности начинают исчислять статистически33. Но социологические признаки, по мнению философа, еще не позволяют пробиться к антропологии нового времени. Тем не менее культ коллективизма в 20-е годы, который был столь значим и для футуристов, и для конструктивистов, послужил основой для новой волны в истории позитивистской или функциональной эстетики, которой нами уделено достаточно места, в том числе и в учебном пособии. Функциональная эстетика – это и есть социология искусства. Интерес к ней в 20-е годы был значительным. В какой-то степени он был спровоцирован выходом книги В. Гаузенштейна «Искусство и общество». В. Гаузенштейн исходил из перехода от индивидуальных проявлений искусства в прошлой истории к коллективным, время которых наступает в XX веке. При этом последние он оценивал, как и отечественные конструктивисты, исключительно положительно. «Еще и теперь одна теория искусства, претендующая на признание, берет исходным пунктом индивидуальное. Как она сама тесно связана с буржуазным индивидуализмом, так и в искусстве она повсюду ищет выражения освобожденной личности, индивидуальных результатов эстетического либерализма. Находит приложение это воззрение на искусство по преимуществу там, где процесс индивидуализации выразился наиболее резко: в классических произведениях Античности, в эпохе Возрождения, в классической немецкой поэзии. Образцовые произведения этих эпох изучаются с особым вниманием. Все, что есть в них индивидуального, а нередко и неиндивидуального, прославляется и оценивается в духе гордого индивидуализма: как памятник власти безгранично свободной личности над миром явлений»34. Критически осмысляя индивидуалистическую тенденцию в эстетике и теории искусства, В. Гаузенштейн приходит к выводу о том, что эстетика, культивирующая индивидуализм, расходится с духом времени. Будущая культура должна изжить эту тенденцию. «Поколение младших историков искусства, – пишет он, – начинает чувствовать крайнюю относительность индивидуалистической и классической нормативной эстетики»35.
Функциональная эстетика 20-х годов имела в последующей истории продолжение. В связи с этим обратимся к Х. Ортеге-и-Гассету. Когда в своей известной работе «Дегуманизация искусства» он пытается понять изменившийся в XX веке статус искусства, он, фиксируя активность массы, призывает изучать искусство с социологической точки зрения, поскольку лидерство массы в художественной жизни необычайно понизило эстетическое значение искусства, как, собственно, и эстетики. В связи с этим он вспоминает одного из основоположников социологического подхода, М. Гюйо, и его трактат «Искусство с социологической точки зрения». Однако необходимость возродить социологическое истолкование искусства Х. Ортега-и-Гассет обосновывает бросающимся в глаза уже в начале XX века фактом: все новое искусство оказывается непопулярным и массой отторгается. Чтобы представить социологическое направление в истории эстетики и теории искусства, а точнее, функциональную эстетику, вспомним одну из лучших работ этого плана – «Введение в социологию музыки» Т. Адорно. Однако, когда В. Дильтей фиксирует процессы омассовления, он утверждает, что вкус человека массы воздействует на художественные ориентации самих творцов, вообще на искусство. «Под влиянием тех же факторов (демократизации общества. – Н.Х.) поэзия и переосмыслена, и сведена на землю. Великие гении повествовательной поэзии – Диккенс и Бальзак – слишком уж приспособлялись к потребности публики, жаждущей чтива. Трагедия же страдает от отсутствия такой публики, в эстетической рефлексии которой сохранялось бы ясное сознание высших задач поэзии. В этих обществах комедия нравов утратила тонкость ведения действия, благородство развязки; момент трагического, примешивавшийся к серьезной комедии Мольера, придававший ей глубину, вытеснен теперь плоской сентиментальностью, отвечающей вкусам толпы»36. При всей точности наблюдений В. Дильтея, а справедливость сказанного им продемонстрируют в XX веке и Х. Ортега-и-Гассет, и В. Вейдле, и Н. Бердяев, тексты которых включены в первый раздел настоящего издания, нельзя не констатировать, что В. Дильтеем глубинные мотивы происходящих радикальных в искусстве изменений оказались не осознанными. Сделанные философом наблюдения захватывают лишь поверхностный уровень осмысления развертывающихся процессов. Глубокий и проницательный мыслитель не ощутил смысла происходящего на уровне трансформации культуры. Вообще В. Дильтей ставит акцент на кризисе, не пытаясь понять сам кризис как необходимый элемент становления новой системы мышления. Но что не сделал В. Дильтей, то попытался обобщить Х. Ортега-и-Гассет. Приходится лишь удивляться тому, как совпадает диагноз, поставленный испанским философом, с диагнозом, который позволил себе «идеолог» супрематизма или беспредметности в живописи К. Малевич. Так, в связи с кубизмом К. Малевич констатирует: «Новое искусство большинством ученого и неученого общества и критики признано болезненным, а со стороны новых искусств, обратно, – большинство это признало ненормальным»37. Такое негативное восприятие новых художников возникает в силу того, что из произведения живописи исчезают признаки, по которым узнавались изображенные на картине вещи. Речь идет о беспредметной живописи. «Раздражение общества беспредметными живописными произведениями происходит оттого, что оно всегда видело в произведениях живописную гармонию размазанной по форме человека или предмета. Благодаря утере из виду образа, в силу новых живописных выражений установленные прежние звуковые, цветовые, формовые нормы отношений исчезают, новые считаются дисгармониями»38.
Конечно, известная статья «Дегуманизация искусства» Х. Ортеги-и-Гассета не претендует на культурологические обобщения. Философ не видит, какие трансформации культуры обязывают искусство измениться. Но зато он выделил несколько признаков, которые позволили ему описать искусство в его новых формах. Например, к таким признакам он относит тенденцию избегать живых форм. А что такое «живая форма», как не выражение принципа мимесиса? «Вероятно, не будет натяжкой, – пишет он, – утверждать, что пластические искусства нового стиля обнаружили искреннее отвращение к „живым“ формам, или к формам „живых существ“. Это станет совершенно очевидным, если сравнить искусство нашего времени с искусством той эпохи, когда от готического канона, словно от кошмара, стремились избавиться живопись и скульптура, давшие великий урожай мирского ренессансного искусства. Кисть и резец испытывали тогда сладостный восторг, следуя животным или растительным образцам с их уязвимой плотью, в которой трепещет жизнь. Неважно, какие именно живые существа, лишь бы в них пульсировала жизнь. И от картины или скульптуры органическая форма распространяется на орнамент. Это время рогов изобилия, эпоха потоков бьющей ключом жизни, которая грозит наводнить мир сочными и зрелыми плодами»39. В качестве иллюстрации этого тезиса испанского философа можно было бы сослаться на представителя театрального авангарда А. Арто, проявлявшего в своих утверждениях агрессию против принципа мимесиса в формах театра, в чем он был не одинок. Позднее к его призывам обращается Ж. Деррида. «Не является ли мимесис наиболее наивной формой репрезентации? Подобно Ницше (и параллели здесь не кончаются), Арто стремится покончить с подражательной концепцией искусства, то есть с аристотелевской эстетикой, в которой воплотилась западная метафизика искусства. Искусство не является подражанием жизни, но сама жизнь – это подражание некоему трансцендентному принципу, в контакт с которым мы вступаем благодаря искусству»40.
Работа Х. Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства» написана в 1925 году. Однако аналогичные заключения по поводу нового искусства уже были сделаны в России. Они высказаны в работе Н. Бердяева «Кризис искусства», опубликованной в 1918 году. Так, имея в виду кубизм, и в частности живопись Пикассо, философ приходит к выводу о дематериализации живописи, исчезновении из нее предметного мира. «Живопись, как и все пластические искусства, была воплощением, материализацией. Высшие подъемы старой живописи давали кристаллизованную, оформленную плоть. Живопись была связана с крепостью воплощенного физического мира и устойчивостью оформленной материи. Ныне живопись переживает небывалый еще кризис. Если глубже вникнуть в этот кризис, то его нельзя назвать иначе, как дематериализацией, развоплощением живописи. В живописи совершается что-то, казалось бы, противоположное самой природе пластических искусств. Все уже как будто изжито в сфере воплощенной, материально-кристаллизованной живописи. В современной живописи не дух воплощается, материализуется, а сама материя дематериализуется, развоплощается, теряет свою твердость, крепость, оформленность. Живопись погружается в глубь материи и там, в самых последних пластах, не находит уже материальности»41. Мы процитировали суждение философа не только потому, чтобы констатировать созвучность его выводов заключениям Х. Ортеги-и-Гассета, но и потому, чтобы зафиксировать имевшее место в начале XX века осознание угасания принципа мимесиса, оказавшегося столь болезненным, особенно для живописи. Не менее удивительно в статье Н. Бердяева то, что основной темой его работы является идея дегуманизации искусства, хотя в тексте его статьи этого словосочетания мы не обнаруживаем. Тем не менее философ констатирует здесь исчезновение из живописи не только предметного мира, но и образа человека, характерного для ренессансного и постренессансного искусства. «Человеческий образ исчезает в этом процессе космического распыления и распластования… Когда зашатался в своих основах материальный мир, зашатался и образ человека. Дематериализующийся мир проникает в человека, и потерявший духовную устойчивость человек растворяется в разжиженном материальном мире»42. Естественно, что кризис пластических искусств, проявляющийся в падении статуса принципа мимесиса, как выражение кризиса искусства в целом одной из актуальных задач теории искусства делал то, что М. Бахтин называет проблемой «зримости». Это настолько серьезная проблема, что именно она вызвала к жизни формализм в его более широком, точнее, европейском смысле, с точки зрения которого русская «формальная» школа, или русский формализм, предстает региональным его ответвлением. Однако, как свидетельствует философия Ж. Дерриды, эта проблема продолжает оставаться актуальной до сих пор. Причем «зримость» все еще продолжает оставаться предметом осмысления в сопоставлении с языком. К ее обсуждению возвращаются, чтобы преодолеть гипертрофию языка, а еще точнее, письма в поздней культуре, преодолеть отчуждение в формах письма с помощью деконструкции логоцентризма и рационализма в культуре. Так, Ж. Деррида возвращается к выражению Ж.-Ж. Руссо «Мы говорим скорее глазам, нежели ушам», т. е. делает предметом внимания язык взглядов и жестов43.
Значимость проблемы «зримости» возрастает еще и потому, что в эпоху культивирования лингвистики, как это ни странно, формировалось мнение, согласно которому зримость представляет особый тип познания, самостоятельный по отношению к собственно языку. Так, К. Фидлер считал, что визуальное восприятие представляет автономный тип познания, и его следует отличать от познания с помощью языка, который в силу своей авторитетности, казалось, совершенно заменил визуальное познание44. Правда, когда М. Бахтин этот вопрос обсуждает, он не склонен переоценивать имевшее место влияние западного формализма на русский, хотя сам Б. Эйхенбаум все же если не влияние, то соприкосновение с ним признает45. Однако любопытно отметить, что если великая венская школа в лице ее таких известных представителей, как А. Ригль, Г. Вельфлин, К. Фидлер и другие46 предметом исследования делает живопись, то русские формалисты таким объектом делают литературу. Видимо, в этом проявились разные культурные ориентации. Однако, поскольку проблема зримости становится в философии и теории искусства XX века (П. Флоренский, В. Кандинский, М. Мерло-Понти, Э. Жильсон и др.) одной из центральных, уделим этому некоторое внимание, поскольку она свидетельствует и о кризисе той традиции в теории и истории искусства, которая связана с принципом мимесиса, и о возможности выявления в логике развития искусства истекшего столетия циклической логики47. Хотя размышления культурологического плана у В. Дильтея по поводу кризиса отсутствуют, в его суждениях мы обнаруживаем весьма любопытные наблюдения, из которых, правда, сделаны не все конструктивные выводы, касающиеся уже новой, нарождающейся культуры. Преодолевая свои традиционные формы, культура XX века пытается в предшествующей истории человечества обнаружить формы и стили, созвучные ей самой. Вот как, например, В. Дильтей описывает анархию массовых вкусов, не обнаруживая в описываемом процессе конструктивного смысла. «Нас осаждает многообразие форм всех времен и народов, и оно, кажется, размывает любые разграничения поэтических видов, любые правила. Тем более что нас с головой затопляет идущая с Востока стихийная бесформенная поэзия, музыка, живопись, – полуварварские, однако наделенные грубой энергией тех народов, у которых борения духа еще совершаются в романах, да в живописных полотнах шириной футов в двадцать»48.
Такое прорвавшееся в эстетику и искусство многообразие форм всех времен и народов замечено не только В. Дильтеем, но, например, Ф. Ницше и А. Белым. Так, Ф. Ницше пишет, что современный человек «перегружает» себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, что превращает его в «ходячую энциклопедию»49. Конечно, по отношению к создавшейся ситуации Ф. Ницше критичен. Это ощущается в сопоставлении его современника, человека конца XIX столетия, с римлянином эпохи упадка. «Римлянин императорского периода, – пишет он, – зная, что к услугам его целый мир, перестал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и выродился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов и искусств; эта же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраивает себе при помощи художников истории непрерывный праздник всемирной выставки; он превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве только на одно мгновение»50. По сути дела, когда этого феномена касается А. Белый, то он почти пересказывает суждение Ф. Ницше, правда приспособляя его к мировосприятию символистов. «То действительно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как и Средневековье, – оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас эпохи, нам более близкие. Говорят, что в важные часы жизни пред духовным взором человека пролетает вся его жизнь, ныне пред нами пролетает вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего человечества пробил важный час его жизни. Мы действительно осязаем что-то новое; но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого – новизна так называемого символизма»51. Действительно, А. Белым фиксируется все то, что уже констатировали философы жизни В. Дильтей и Ф. Ницше. Однако, оценивая эту ситуацию как кризис, А. Белый видит и его вторую, позитивную сторону, связанную со становлением новой культуры. Он пишет: «В этом неослабевающем стремлении сочетать художественные приемы разнообразных культур, в этом порыве создать новое отношение к действительности путем пересмотра серии забытых миросозерцаний – вся сила, вся будущность так называемого нового искусства»52. Такая убежденность А. Белого помогает ему подняться над суждениями Ф. Ницше. Сложившаяся ситуация воспринимается А. Белым по аналогии с александрийством, т. е. поздним периодом античной культуры с присущими ему перекрещивающимися различными путями мысли и миросозерцаний. По мнению А. Белого, выразителем нового александрийства явился именно сам Ф. Ницше. Таким образом, кризис – амбивалентное явление. С одной стороны, он свидетельствует об угасании культуры чувственного типа, осмысляемом, например, О. Шпенглером и отождествляемом им с Западом вообще, а с другой, о возникновении и становлении новой культуры, которую П. Сорокин называл «культурой идеационального типа». С точки зрения последней констатируемый В. Дильтеем факт вторжения в эстетику множественности критериев, связанных с ассимиляцией опыта разных эпох и культур, может быть осмыслен как позитивный. В какой-то степени это можно рассматривать исцелением культуры модерна или культуры чувственного типа, что одно и то же. В самом деле, прерванная непрерывность истории в культуре модерна представляла опасность. Это ощутил Ф. Ницше, с которого и начался интерес к эпохе, уводящей не только за римско-христианский, но и за александрийский мир. «Модерн теряет свое исключительное положение; он всего лишь последняя эпоха в долгой истории рационализации, как она начинается с разложением архаической жизни и распадом мира» 53. Чтобы преодолеть негативные последствия модерна, необходимо было реабилитировать архаические эпохи. Философия и эстетика XX века не случайно культивирует дух Диониса, символизирующий выход за пределы традиционной культурной идентичности с ее гипертрофированным аполлонизмом или рационализмом. Ю. Хабермас, в частности, называет имена Ницше, Хайдеггера и Батая, возвращающих к временам до зарождения западноевропейской истории, к архаическим утрам, чтобы найти следы Диониса в мышлении досократиков или в возбужденном состоянии сакральных ритуалов жертвоприношений. Здесь, в этом пространстве важно идентифицировать утраченный, дерационализированный опыт, который сможет наполнить жизнью понятие «бытие» и «суверенитет»54. В самом деле, представляя для своего времени весьма прогрессивное явление, философская эстетика эпохи Просвещения слишком абстрагировалась от эстетического и художественного наследия предшествующих эпох и культур. Это касается не только Античности, Средних веков и Востока, но и архаического наследия человечества. Отвергая и отрицая этот опыт, эстетика модерна исключала столь важные для эстетики мифологические и символические системы мышления. Собственно, именно это обстоятельство и объясняет, почему в осмыслении опыта искусства в эстетике платоновский дискурс оказался в забвении. С другой стороны, именно это обстоятельство объясняет, почему существующая эстетика или эстетика, сформировавшаяся в Новое время, теряет контакт с нарождающимися в XX веке формами искусства. Основывая свои установки на принципе мимесиса, эстетика модерна, сталкиваясь с искусством XX века, оказалась бессильной его интерпретировать, поскольку в нем возрождался альтернативный принципу мимесиса принцип, а именно принцип первообраза, или эйдоса.
Когда Х. Ортега-и-Гассет констатирует отвращение нового искусства к живым формам, что способствовало контакту искусства во все времена с воспринимающей его публикой, то он улавливает как раз и угасание в искусстве принципа мимесиса. А что же приходит на смену этому принципу? Смог ли Х. Ортега-и-Гассет кроме кризиса этого принципа обнаружить что-то принципиально новое, приходящее ему на смену? Несомненно, философ ощутил, что на смену отрицающему богатство предметного мира искусству приходит заменяющий его мир идей. Имея в виду экспрессионизм и кубизм, Х. Ортега-и-Гассет констатирует: «От изображения предметов перешли к изображению идей: художник ослеп для внешнего мира и повернул зрачок внутрь в сторону субъективного ландшафта»55. Х. Ортега-и-Гассет констатирует и еще один очень важный признак нового искусства. Он связан с возрастающим интересом в XX веке к архаике. Вот как это явление описывает Х. Ортега-и-Гассет: «Большая часть того, что здесь названо „дегуманизацией“ и отвращением к живым формам, идет от этой неприязни к традиционной интерпретации реальных вещей. Сила атаки находится в непосредственной зависимости от исторической дистанции. Поэтому больше всего современных художников отталкивает именно стиль прошлого века, хотя в нем и присутствует изрядная доля оппозиции более ранним стилям. И напротив, новая восприимчивость проявляет подозрительную симпатию к искусству более отдаленному во времени и пространстве – к искусству первобытному и к варварской экзотике. По сути дела, новому эстетическому сознанию доставляют удовольствие не столько эти произведения сами по себе, сколько их наивность, то есть отсутствие традиции, которой тогда еще и не существовало»56. Однако точнее было бы все же утверждать, что в данном случае новое искусство архаика притягивает в силу того, что в ней принцип мимесиса еще не успел себя утвердить, а принцип первообраза предстает в зрелой форме. Когда философ пишет, что в архаическом искусстве имело место «отсутствие традиции», то под этим следует понимать отсутствие традиции мимесиса, а не вообще традиции. В данном случае можно говорить, что традиция первообраза уже имела место и она предшествовала традиции мимесиса. Удивительное дело, употребление выражения вроде «подозрительная симпатия к первобытному искусству» и вообще к «варварской экзотике» у Х. Ортеги-и-Гассета слишком выдает отношение философа к выявленному феномену. Не трудно догадаться, что это негативное отношение. Но так ли это на самом деле? К счастью, уже в начале XX века можно фиксировать стремление в этом тяготении к архаике обнаружить позитивный смысл. Правда, было зафиксировано, что такое тяготение к архаике в искусстве имело место на всем протяжении его истории. Так, опираясь на исследование А. Ригля, В. Воррингер, на которого В. Гаузенштейн опирается, разрабатывая социологическую теорию искусства, доказывает, что изучение в последние столетия истории искусства развертывалось под активным воздействием традиции Ренессанса, что не позволяло в этой истории фиксировать активность той традиции, которая слишком гипертрофировалась в XX веке, что и проявилось, например, в симпатии к так называемому геометрическому стилю, т. е. к той самой архаике. Аргументация В. Воррингера развертывается так. Основываясь на учении Т. Липпса об одухотворении, исследователь приходит к выводу, что, по сути дела, в предшествующих XX веку эпохах истории искусства доминировал именно принцип одухотворения, в соответствии с которым искусство воспринималось способом эстетического наслаждения. В таком понимании искусства проявляется так называемое «чувство мира», в данном случае оптимистическое, свидетельствующее о том, что между человеком и миром отсутствуют конфликтные отношения. Художник пытается запечатлеть мир, в котором ему, как и воспринимающему его искусство, комфортно. Это свое восхищение чувственным миром, с которым он себя отождествляет, он пытается передать воспринимающим его искусство. Однако, во-первых, как утверждает В. Воррингер, когда имеется в виду «чувство мира», то речь должна идти не об индивидуальном мировосприятии художника, как и вообще индивида, а о мировосприятии целых народов, а во-вторых, если внимательно вдуматься в логику истории искусства, то к принципу одухотворения ее свести невозможно. Новаторство В. Воррингера заключается в том, что он пытается аргументировать перманентное в истории проявление прямо противоположного принципа, а именно стремления на всем протяжении истории искусства стремления к абстракции. В этом стремлении также проявляется чувство мира, которое можно фиксировать, во-первых, в архаических культурах, а во-вторых, в тех регионах, которые не относятся к европейскому. Чем же отличается чувство мира, способствующее утверждению принципа абстракции? Прежде всего в основе этого мировосприятия лежит конфликт человека с миром, что проявляется в напряженности, беспокойстве, чувстве страха перед пространством. Такое чувство мира исключает оптимизм. Ему присуща, скорее, потерянность человека. Из этого чувства мира проистекает потребность не в восхищении перед материальным миром, а потребность увековечить отдельные его проявления посредством сведения их к абстрактным формам. «Сильнейшим их (народов. – Н.Х.) стремлением было стремление вырвать объект внешнего мира из природной взаимосвязи, из бесконечной игры существования, очистить его от всякой жизненной зависимости, всякой произвольности, сделать его необходимым и разумным, приблизить его к его абсолютной ценности»57. Если следовать А. Риглю, то можно утверждать, что в таком чувстве мира проявляется специфическая «художественная воля». Очевидно, что если искусство XX века проявляет интерес не к принципу одухотворения, а к принципу абстракции, то ведь речь должна идти не о каких-то частных элементах произведения, а об актуализации специфической художественной воли, присущей в том числе и людям XX века. Этот вопрос не обходит и В. Воррингер. Он убежден в том, что овладевающее искусством XX века новое чувство мира является совсем не новым. Современный человек ощущает такую же затерянность и беспомощность перед космосом и миром, как и архаический человек. К аналогичным выводам приходит также и Р. Гвардини. Констатируя позитивные изменения в самоощущении современного человека, он вместе с тем говорит о возникновении у него чувства оставленности. Это становится причиной возникновения у него страха, но страха, уже отличающегося от того, каким его знал, например, средневековый человек. «Страх средневекового человека был связан с незыблемыми границами конечного мира, противостоящими стремлению души к широте и простору; он успокаивался в совершаемой каждый раз трансцензии – выхождении за пределы здешней реальности. Напротив, страх, присущий новому времени, возникает не в последнюю очередь из сознания, что у человека нет больше ни своего символического места, ни непосредственно надежного убежища, из ежедневно подтверждающегося опыта, что потребность человека в смысле жизни не находит убедительного удовлетворения в мире»58. Поэтому второй принцип искусства вытесняет принцип одухотворения, превращаясь в истории искусства в доминантный. Пытаясь выявить эстетические предпосылки двух выявленных тенденций, В. Воррингер при аргументации принципа одухотворения опирается на концепцию Т. Липпса. Но совершенно очевидно, что В. Воррингер, не ссылаясь на Аристотеля, имеет в виду все тот же самый принцип мимесиса. Что же касается принципа абстракции, то он тоже, в свою очередь, может быть отождествлен с прообразом.
В. Дильтей (а вместе с ним Н. Бердяев и Х. Ортега-и-Гассет) связывает с кризисом, оценивая при этом его негативно, другими мыслителями, кстати менее связанными с философией и эстетикой и более – с практикой и теорией искусства, рассматривается как новая эпоха в искусстве с соответствующими ей конструктивными построениями. В этом смысле невозможно пройти мимо концепции В. Кандинского, ставящего акцент на позитивном истолковании того потенциала искусства, который в начале XX века лишь начинает приоткрываться, обещая в будущем плодотворную, творческую эпоху. До сих пор не обращается внимание на то, что, по сути дела, В. Кандинский восполняет пробел, имевший место в теории искусства начала XX века. Мы до сих пор убеждены, тем более что сам Б. Эйхенбаум это признает, что русские формалисты сильны в анализе литературных форм и что это вообще, видимо, присуще русской культуре как культуре литературо-центристского плана. На самом деле реальность далека от этого устоявшегося в литературе мнения. Ведь если в России не было своего Г. Вельфлина, то это не означает, что в теории пластических искусств отсутствовал мыслитель, способный серьезно ставить вопросы, которые поставлены, например, немецкими теоретиками-формалистами, т. е. вопросы «зримости». Таким значительным теоретиком «зримости» предстает В. Кандинский. Если его теория «зримости» была плохо известна, послужив основанием для ложных искусствоведческих обобщений, то этому были причины нехудожественного плана. В России малоизвестным было не только его теоретическое наследие, но и его творчество. Причиной этого послужило отрицательное, даже агрессивное отношение власти к той тенденции в искусстве, что В. Воррингером представлена как абстракционизм. Собственно, как и В. Воррингер, В. Кандинский ощущает радикальный поворот в живописи рубежа XIX–XX веков и пробуждающийся интерес в живописи к орнаменту и вообще геометрическому стилю, что и свидетельствует о возрождении в живописи XX века архаических принципов. Так, наблюдение за экспрессионизмом приводит его к выводу, что это направление является частичным возвращением к временам примитивов59. Что касается Пикассо, то его эксперименты, как он выражается, обязаны искусству негров, т. е. примитивному искусству. Эксперименты Пикассо показательны для кубизма в целом, для которого характерно выявление и подчеркивание конструкции предметов. Как и Х. Ортега-и-Гассет, с одной стороны, и Н. Бердяев, с другой, В. Кандинский тоже констатирует дематериализацию в живописи материального мира, но при этом он оптимистически смотрит на возможности новой живописи, преодолевающей кризис за счет повышения значимости конструкции. Правда, что касается Пикассо, то в его экспериментах В. Кандинский констатирует двойственность – и упразднение материального мира, и одновременно стремление его сохранить. «В своих последних вещах (с 1911 г.) он (Пикассо. – Н. Х.) приходит логически к разложению материи, но не путем ее уничтожения, а при помощи своего рода расчленения отдельных органических частей и их конструктивного рассеяния по картине: органическая раздробленность, служащая целям конструктивного единства. Странным образом он держится при этом крепко за материальную видимость. Он не останавливается в других отношениях ни перед каким средством, и если краска представляется ему помехой к разрешению проблемы чисто рисуночной формы, то он спокойно выбрасывает все для него в ней лишнее за борт, ограничиваясь ее минимумом, и пишет целый ряд вещей только грязно-коричневой и белой краской. Эти задачи и являются его преимущественной силой»60. Претензии, предъявляемые В. Кандинским к Пикассо, – совсем иные, чем претензии к нему цитируемых философов. По мнению В. Кандинского, исчезновение природных форм в живописи компенсируется объективным элементом формы – конструкцией ради композиции. Это обстоятельство свидетельствует о зарождении в истории живописи новой, созидательной эпохи. Что же касается оценки кубизма (как и многих других течений в искусстве XX века), то В. Кандинский полагает, что для переходной эпохи он показателен, ибо в своей основе противоречив. «Так, например, кубизм, – пишет он, – как одна из переходных форм показывает, насколько часто природные формы приходится насильственно подчинять конструктивным целям и какие ненужные препятствия в таких случаях такими формами создаются»61. Тем не менее «композиционные поиски „кубистов“ напрямую связаны с задачей создания чисто живописной сущности, с одной стороны, говорящей о предметном и через предметное, через различные комбинации с более или менее звучащим предметом, с другой стороны, переходящей к чистой абстракции»62. Что же, следовательно, стоит за этой конструируемой В. Кандинским в кубизме двойственностью? По сути дела, стоит жесткая теория, хотя, как и Б. Эйхенбаум, В. Кандинский не настаивает на том, что при всех обстоятельствах теория должна предшествовать любому наблюдению над процессами искусства. Он вовсе не имеет намерения представить свои наблюдения над становлением новой формы искусства универсальной теорией. Пытаясь аргументировать правомочность существования беспредметного искусства, В. Кандинский пишет: «Если и окажется возможным даже уже сегодня бесконечно теоретизировать на эту тему, то все же теория в дальнейших уже мельчайших подробностях преждевременна. Никогда не идет теория в искусстве впереди и никогда не тянет она за собой практику, но как раз наоборот»63. Если это суждение и не подходит ко всем эпохам теории искусства, то все же ситуацию начала XX века оно выражает точно. Тем не менее, как свидетельствует теоретическое сочинение В. Кандинского «О духовном в искусстве», в данном случае речь должна идти все же о теории, которую можно уподобить, с одной стороны, концепции В. Воррингера, а с другой, точке зрения Э. Панофского, обнаруживших действие на всем протяжении истории искусства двух противоположных принципов. Собственно, из этого исходит и В. Кандинский, утверждая, что логика развития искусства сводится одновременно к двум тенденциям: отрицательному и положительному. Отрицательный процесс, в соответствии с точкой зрения В. Кандинского, означает медленное очищение искусства от привходящих в него элементов, не соответствующих его чистой сущности64. Что касается положительного процесса, то он означает «медленное развитие элементов существенных, не только неотъемлемых от искусства, но обусловливающих его чистую сущность»65. В XX веке искусство демонстрирует сосуществование этих двух тенденций: реальной и абстрактной. Последняя тенденция внушает оптимизм. Ведь с некоторого времени искусство начинает оперировать формами, лишенными признаков предметности. Чтобы язык новой живописи понимать, необходимо создать «грамматику живописи»66. Собственно, проект В. Кандинского создать грамматику живописи, который отчасти в его сочинении и реализовался, роднит его с теми отечественными исследователями, которые такую грамматику создавали в сфере литературы, т. е. с формалистами. Их тоже интересовали конструктивные приемы строения произведения как первостепенные. В связи с этим нельзя не процитировать следующее высказывание В. Кандинского. «Из этих двух первоэлементов – краски и формы – их сочетания, взаимоподчинения, взаимопритяжения и взаимоотталкивания, – пишет он – и создается тот язык живописи, который мы изучаем нынче по складам и отдельные слова которого мы создаем по необходимости сами, как это делается особенно в периоды возникновения или возрождения и языков народов»67. Это чрезвычайно значимое высказывание, касающееся не только грамматики живописи, но, например, так называемого «заумного» языка, который культивировали не только формалисты, но прежде всего футуристы. Расшифровывая заумный язык, В. Хлебников говорит, что это язык, находящийся за пределами разума. Однако «то, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным»68. Обращение к заумному языку новой поэзии объясняется необходимостью вырвать его из привычной, бытовой логики, вернуть его к поэтичности и метафоричности, что было характерно для языка в момент его рождения. Чтобы преодолеть «книжное окаменение языка», необходимо «словотворчество». «Если современный человек населяет обедневшие воды рек тысячами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, что они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения»69.
Стремление В. Кандинского построить грамматику живописи по образцу грамматики естественного языка, правда, противостоит намерению Ж. Дерриды противопоставить живопись языку, а точнее, письму как системе произвольных и оторванных от означаемых знаков (означающих). Для Ж. Дерриды живопись всячески превозносится именно потому, что здесь означаемое не отделено от означающего и вообще свободно от означающего. В письме предметы и вещи заменены их знаками. Вещь заменяется безличным восполнением. Цитируя высказывание Ж.-Ж. Руссо по поводу того, что «знаки заставляют пренебрегать вещами», Ж. Деррида утверждает, что в своем гипертрофированном виде пренебрежение вещами предстает в фонетическом письме. Именно этой тенденции «прогресса» к произвольности знака противостоит живопись. «На более архаической ступени письма существовала некая естественная универсальность: живопись, подобно алфавиту, не связана с каким-либо определенным языком. Будучи в состоянии воспроизвести любой чувственно данный предмет, доступный чувственному восприятию, она выступает как своего рода универсальное письмо. Однако его свобода по отношению к конкретным языкам связана не с расстоянием, которое отделяет живопись от ее модели, но с подражательной близостью, которая привязывает живопись к модели. Под видом всеобщности живопись остается совершенно эмпирической, разнообразной, меняющейся – подобно тем чувственно воспринимаемым индивидам, которых она представляет вне рамок какого-либо кода» 70. Но, собственно, ведь именно это и характерно для формалистов, соотносивших эксперименты в новой поэзии с зарождением языка. Такое совпадение теоретических заключений как в сфере живописи, так и в сфере поэзии лишь подтверждает точку зрения, в соответствии с которой в начале XX века ориентация в культуре на грамматику становится доминирующей. В соответствии с Ю. Лотманом, существуют культурные эпохи, ориентированные на текст, т. е. имеющийся в прошлом образец, прецедент, и культуры, ориентированные на грамматику, т. е. на создание свода правил и норм, в соответствии с которыми можно создавать не имевшие в прошлом места тексты71. Совершенно очевидно, и об этом свидетельствует пафос теории первых десятилетий XX века, во всех культурах этого времени можно фиксировать ориентацию на грамматику, что и выражает возникшая в разных культурных регионах методология формализма.
С тех пор прошло много времени и, кажется, мысль об искусстве все больше свыкается с тем, что важно не только создавать принципиально новые тексты, но и уметь интерпретировать тексты традиционные. Во всяком случае, ренессанс во второй половине XX века герменевтики об этом свидетельствует. Тем не менее импульс модерна, ориентирующегося на создание структур, до некоторого времени в природе не существовавших, оказывается, возрождается в постмодернизме. Об этом свидетельствует следующее суждение Ж.-Ф. Лиотара. «Постмодернистский художник, писатель оказывается в ситуации философа: текст, который он пишет, произведение, которое он создает, в принципе не могут подчиняться установленным правилам, о них нельзя судить посредством детерминированных суждений, применяя к этому тексту или произведению известные категории. Произведение или текст как раз и заняты поиском этих категорий. Итак, художник и писатель работают без правил, ради установления правил того, что еще будет сделано. Поэтому произведение или текст обладают особенностями события, поэтому приходят к автору слишком поздно или, что одно и то же, их всегда используют слишком рано»72.
Что же касается теории В. Кандинского, по-своему откликнувшегося на разрешение актуальной для XX века проблемы зримости, то представляется любопытным зафиксировать возможную «поддержку» теоретических идей художника со стороны представителей феноменологии. Так, пытаясь показать роль тела в системе видения и аргументировать его значимость, М. Мерло-Понти пишет: «Усилия современной живописи и состояли не только в том, чтобы выбрать между линией и цветом или даже между изображением вещей и созданием знаков, сколько в умножении этих систем эквивалентов, в их освобождении от внешней оболочки вещей – что может потребовать издания новых материалов или новых выразительных средств, но иногда достигается посредством нового изучения и переосмысления тех материалов и средств, которые уже существовали»73. Собственно, ведь именно в этом и заключается проект грамматики живописи, который пытался осуществить В. Кандинский. Кстати, М. Мерло-Понти приходит к мысли провести инвентаризацию видимого по типу инвентаризации возможных употреблений языка. Глаз представляет того, кто, выйдя из состояния покоя под определяющим воздействием мира, возвращает это полученное впечатление с помощью проводящей линию руки. «В какой бы цивилизации она (линия. – Н. Х.) ни была рождена, какими бы верованиями, мотивами, мыслями, церемониями ни сопровождалась, даже тогда, когда она казалась предназначенной для другого, – со времен Ласко и до наших дней, чистая или прикладная, образная или абстрактная, живопись никогда не культивировала иной тайны, кроме загадки зримости»74.
Работа М. Мерло-Понти, включенная в хрестоматию, представляет интерес и с точки зрения того, что философ как истинный феноменолог устраняет гипертрофированную значимость субъективности в живописи и, разгадывая с помощью включения в процесс видения тела загадку зримости, приходит к выводу о воздействии не только художника как субъекта на предметный мир, но и самого предметного мира на художника. Один из выводов М. Мерло-Понти об относительности всех существовавших в истории искусства систем видения обязывает вернуться к теории зримости, принадлежащей П. Флоренскому. Так, по мнению М. Мерло-Понти, техника перспективного изображения, возникшая в эпоху Ренессанс, окажется ошибочной, если будет претендовать на единственно верный способ живописного изображения. Он пишет: «Сами же художники знали по опыту, что ни одна из техник изображения перспективы не может быть однозначным решением, что нет такой проекции существующего мира, которая учитывала бы все его аспекты и могла бы заслуженно стать фундаментальным законом живописи…»75. Как свидетельствует Ф. Шмит, человек Нового времени так привык к линейной перспективе, что ему стоит великого усилия понять, что «вся наша система перспективы условна, и что мы только в силу привычки не замечаем множества абсурдов, к которым она приводит»76.
Обращаясь к средневековой живописи, и в частности иконописи, П. Флоренский констатирует несоответствие строения пространства на иконе возникшей в эпоху Ренессанс линейной перспективе, которая с момента возникновения была признана единственно возможной и единственно верной. Так, анализируя построение пространства на иконе, П. Флоренский фиксирует разноцентренность. Изображение здесь строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя свое положение. «Тут одни части палат, например, нарисованы более или менее в соответствии с требованиями обычной линейной перспективы, но каждая – с своей особой точки зрения, т. е. со своим особым центром перспективы; а иногда и со своим особым горизонтом, а иные части, кроме того, изображены и с применением перспективы обратной»77. В связи с этим П. Флоренский задается вопросом: в самом ли деле линейная перспектива выражает природу вещей и должна рассматриваться как безусловная предпосылка художественной правдивости? Отвечая на этот вопрос, П. Флоренский возникновение перспективы связывает с процессом индивидуализации культуры, когда в истории утверждает себя взгляд отдельного лица с соответствующей ему особой точкой зрения. Когда линейная перспектива утверждает себя в эпоху Ренессанс, все предшествующие этапы в истории искусства, в том числе и средневековый с присущим ему видением, воспринимаются несовершенными. П. Флоренский приходит к выводу о том, что линейная перспектива – исторически преходящий прием, выражение лишь нового европейского миросозерцания. Между тем отношение к пространству средневекового человека менее схематично и более объективно. Каждый представленный на полотне объект имеет свою форму и свою реальность, и следовательно, приложение к их восприятию любой условной или, как выражается П. Флоренский, монархической схемы могло бы нанести лишь вред. Вообще, линейная перспектива весьма условна. Она представляет реальность остановившегося, неподвижного, а потому и мертвого взгляда.
Проблематика зримости в эстетике и теории искусства связана с переориентацией с принципа мимесиса на принцип первообраза. Последний выводил из небытия известного в истории философии установителя дискурсивности – Платона. Обсуждая проблему Автора применительно к XX веку, М. Фуко пришел к необходимости констатировать в истории особый тип автора, называемый им «основателем дискурсивности». «Особенность этих авторов состоит в том, что они являются авторами не только своих произведений, своих книг. Они создали нечто большее: возможность и правило образования других текстов»78. Суждение М. Фуко мы привели, чтобы продемонстрировать в реабилитации Платона в XX веке нечто большее, чем просто реабилитацию одной из философских доктрин, несовместимых с материализмом и в связи с этим не вписывающихся в идеологию. По сути дела, Платон как основатель или установитель специфической дискурсивности становится в XX веке актуальной фигурой в силу того, что его философская концепция соотносима с культурой идеационального типа. Однако это можно утверждать лишь сегодня, когда логика развития искусства XX века в большей или меньшей степени определилась и по отношению к ней возникла историческая дистанция. Что же касается начала этого столетия, то в этот период осмыслить все более обращающую на себя актуализацию платоновской дискурсивности практически было невозможно. Не случайно эта традиция в материалистическую и позитивистскую эпоху была совершенно забыта. Конечно, нельзя утверждать, что такая реабилитация платоновской дискурсивности касается лишь эстетики и теории искусства. Уже художественные процессы рубежа XIX–XX веков, обозначаемые иногда как «неоромантизм», для этой реабилитации давали все основания. В самом деле, весь опыт русского символизма свидетельствовал о новой вспышке интереса к сверхчувственному, что позволяло вспомнить практику романтизма, а следовательно, актуализация платоновской дискурсивности в это время связана именно с новым опытом искусства. Не случайно практика символизма как яркого художественного направления сопровождается обильными теоретическими и философскими трактатами, в которых постоянно имеет место сопоставление разных эпох в истории искусства и культуры, как и стремление ассимилировать некогда существовавшие, но успевшие угаснуть художественные формы. Но если сама практика искусства была основанием для восстановления платоновской дискурсивности, то естественно, что ни философия, ни эстетика к этому равнодушными не оставались. Если иметь в виду западный опыт, то здесь прежде всего следует говорить о появлении трактата Э. Кассирера «Философия символических форм» (1923–1929), а если ставить этот вопрос применительно к отечественной эстетике, то здесь невозможно пройти мимо работы А. Лосева «Диалектика художественной формы». Значение этой работы невозможно переоценить, ведь в ней идет речь об отношении художественной формы к первообразу. В данной работе А. Лосев оперирует понятием «первообраза» так, словно и не существовало многих столетий забвения платоновского дискурса. Здесь философ не только рассматривает художественную форму как синтез чувственности и первообраза, но и удивительно по-платоновски решает кассиреровскую проблему символизма. По его мнению, художественная форма связана с той частью первообраза, которая является выразимой. Но существует и другая, невыразимая часть первообраза, а потому искусство оказывается невыразимой выразимостью. Вот с этой-то неполной выразимостью первообраза и связаны символические формы мышления. В духе прямолинейности, свойственной дискуссиям 20-х годов, философ формулирует: «Если угодно меня понять, надо отбросить все то, что писалось и думалось о символе вообще, и принять этот термин так, как я его интерпретирую»79. Лосевская концепция символа связана с представлением о нем как о выражении первообраза, который до конца невыразим. Для философа символ является «совпадением невыразимости и выразимости первообраза в энергийно-выразительной подвижности невыразимого и в энергийно-невыражающей подвижности выразимого первообраза»80. Любопытно, что, реабилитируя платоновскую дискурсивность, А. Лосев пытается к тому же ее вписать в эстетику Нового времени, т. е. в новоевропейскую традицию в ее кантовском варианте, т. е. в традицию, во многом обязанную игре. Дело в том, что, в соответствии с представлением философа, первообраз в произведении пребывает в игре с самим собою. Этот вывод философа столь поразителен, он так перекликается со всеми новейшими теориями искусства, в том числе с герменевтикой и постмодернизмом, что его стоит процитировать. «Несомненно, художественная форма есть игра, ибо первообраз, оставаясь самим собою и не нуждаясь ни в чувственном становлении, ни в рассудочном осмыслении (ибо он уже есть все это и дальше гораздо больше этого), тем не менее при воплощении в конкретное произведение искусства вздымает опять целые вороха чувственного материала и осмысленных связей и с легкостью подчиняет их себе, так что как будто бы и нет ничего, кроме этого первообраза, хотя мы видим, что есть что-то и оно – произведение искусства. Первообраз производит массу перемен в чувственном и рассудочном мире, мобилизует огромные силы там и здесь, рождает целые бури в этих мирах. Но, вглядевшись, мы видим, что все это, все эти перемены и даже бури, есть не большее как зеркально-чистое отражение первообраза, т. е. пребывание первообраза в самом себе, в своей умно-блаженной тишине. Гром и рев вагнеровского оркестра есть не больше как умный и вечный покой в себе увиденных гением прообразов»87.
Во вступительной статье к собственно учебному пособию мы уже достаточно сказали о том, что погружение А. Лосева в античную эстетику – явление двойственное82. Во-первых, естественно стремление философа XX века вернуться к античной эстетике, ведь до этого по отношению к ней существовали столь несходные системы ее интерпретации: с одной стороны, винкельмановская, а с другой – столь владеющая умами отечественных теоретиков начала XX века ницшеанская. Естественно, что в соответствии с новыми научными системами и идеями важно было дать более актуальную интерпретацию античной эстетики, что и сделал А. Лосев. А во-вторых, нельзя не видеть, что искусство XX века, начиная с символизма, заметно, хотя и стихийно, реабилитировало платоновскую дискурсивность, теснившую царившую в Новое время аристотелевскую традицию. Концепция античной эстетики А. Лосева – это своего рода «социальный заказ», извлечение из небытия того рода дискурсивности, которая может помочь разобраться в практике современного искусства, а самое главное, соотносилась бы с процессами становления альтернативной культуры или культуры идеационального типа.
Любопытно, однако, что реабилитация платоновской дискурсивности развертывается не только по линии традиционной философии искусства и даже не только в силу художественных экспериментов, в данном случае практики символизма, но и в формах имплицитной эстетики или в контексте новых научных направлений, например психоанализа. Поэтому сейчас самое время вернуться к теории К. Юнга, которая, видимо, по-настоящему будет понятной (как понятным будет и ее вклад в изучение искусства) лишь в том случае, если ее соотнести с философско-эстетическим дискурсом Платона. Такую параллель, например, провел Р. Арнхейм. Он пишет: «Существует что-то общее между платонизмом и архетипами Юнга. В юнгианстве первичные матрицы лежат вне индивидуального мышления. И так же, как и в платонизме, все вещи являются подражанием неизменным идеям, так же и все понятия юнгианского ума определяются лежащими в их основе архетипами»83. Впрочем, уместны ли в данном случае догадки, если сам К. Юнг сознательно формулировал происхождение своей концепции от платоновского дискурса. Имея в виду творческую фантазию, К. Юнг пишет: «В продуктах фантазии становятся эти „праобразы“ явными, и здесь понятие архетипа обретает свое специфическое применение. То, что на эти факты следует обращать внимание, – вовсе не моя заслуга. Пальма первенства принадлежит Платону. Первым, кто указал на наличие определенных, распространенных повсеместно „прамыслей“ в области психологии народов был Адольф Бастиан. Потом были еще два исследователя из школы Дюркгейма – Юубер и Мосс, они говорили уже собственно о „категориях“ фантазии. Бессознательную преформацию в виде „бессознательного мышления“ обнаружил не кто иной, как Герман Узенер. Если мне и принадлежит частица в этих открытиях, то это доказательство того, что архетипы ни в коем случае не рассматриваются только лишь благодаря традиции, языку и миграции, но они способны спонтанно возникать – вновь и вновь, во всякое время и повсеместно, и именно в таком виде, который неподвержен влияниям извне»84.
Критикуя З. Фрейда, сводящего бессознательное к вытесненному либидо, т. е. к сексуальным влечениям, К. Юнг по-новому ставит вопрос о форме выявления бессознательного, т. е. о символике. Как известно, симптомы бессознательных процессов З. Фрейд называет символами. Тут-то и возникает расхождение между З. Фрейдом и К. Юнгом, ведь под символами последний подразумевает идеи, которые выразить каким-то иным, более совершенным образом невозможно. В этом месте К. Юнг не случайно вспоминает о Платоне, который под символом подразумевал вовсе не инфантильные фантазии, которые и являются предметом внимания З. Фрейда. Когда П. Рикер, касаясь интерпретации символов, сопоставляет подходы З. Фрейда и К. Юнга, предпочтение он явно готов отдать З. Фрейду, ибо его прием является более определенным и четким и в большей степени соответствующим критерию научности в аристотелевском смысле. Имея в виду подход З. Фрейда, П. Рикер пишет: «Этот кладезь символов доступен пониманию, опирающемуся на иные, нежели психоаналитическая, методологии: феноменологическую, гегелевскую и даже теологическую. В семантической структуре символа необходимо увидеть основу для других подходов и возможность их сравнения с психоанализом»85. Более того, П. Рикер утверждает, что с З. Фрейдом комфортнее. Естественно, даже привычнее, ибо позитивизм любит точность и определенность. Но трудности с подходом К. Юнга возникают лишь в том случае, если его оценивать в соответствии с позитивизмом, т. е. в соответствии с процедурами мышления, свойственного культуре чувственного типа.
Естественно, что иконология также сталкивается с острейшей проблемой интерпретации символа. Этот вопрос не обходит и Э. Гомбрих. Но когда он ставит вопрос о существующих в живописи разных традициях интерпретации символов, он указывает на те же два основных типа дискурсивности – аристотелевский и платоновский. Что касается расшифровки символа в соответствии с дискурсом Аристотеля, то, по мнению Э. Гомбриха, она фактически основывается на теории метафоры и становится основой того, что можно назвать методом изобразительного определения. Иначе говоря, этот дискурс основывается на идее конвенционального знака. Что же касается альтернативного типа дискурса, восходящего к Платону, то он является «мистическим» или религиозным. В связи с этим Э. Гомбрих напоминает о толковании символа Ф. Аквинским. По мнению Э. Гомбриха, «в этой традиции смысл знака не есть нечто, получившееся в результате соглашения, – смысл просто спрятан, и надо знать, где искать его»86. Обратим внимание на то, что Э. Гомбрих не дает четкого ответа на вопрос, какая система интерпретации символа является более истинной. Но при такой, неисторической постановке вопроса ответить на него и невозможно (мы вернемся к этому чуть позже, в связи с конструктивной мыслью Ю. Кристевой об исторических изменениях в отношениях между знаком и символом, о том, что кризис знака возвращает человечество к символической коммуникации Средних веков). Любопытна позиция по этому вопросу у Э. Жильсона. На наш взгляд, феноменолог Э. Жильсон, ставя вопрос о том, что является результатом творческого процесса, не сводит его, с одной стороны, к мимесису и конвенциональному знаку, но, с другой стороны, и не растворяет его в мистическом и религиозном сознании. В определении художественного образа он оказывается гораздо ближе платоновскому, нежели аристотелевскому дискурсу. По мнению Э. Жильсона, изображенное на полотне явно не является воспроизведением материального мира, оно не может возникнуть без «идеи». Расшифровывая стоящий за этим термином смысл, Э. Жильсон говорит, что идея – это не копия, а образец. Это означает, что Э. Жильсон воскрешает платоновский дискурс. «В этом отношении зачаточная форма, несомненно, является идеей; однако при использовании этого слова не следует воспринимать идею как своего рода понятие, как бы предшествующее вещи, а не следующее за ней. Понятие идеи восходит к Платону; как в его учении, так и в доктрине наследующих ему христианских теологов идея полностью отлична от концепта. На самом деле понятие идеи является непротиворечивым лишь применительно к Богу, в котором форма любого будущего произведения, действительно, предсуществует в полностью определенном виде. Ее сотворение Творцом не таит в себе никаких неожиданностей; не будучи становлением, форма не предполагает периода зарождения. В „Тимее“, где мифический Демиург в трудах своих подобен человеку, сотворение мира имеет начало и конец; дело в том, что Демиург в представлении Платона – сверхчеловек или, если угодно, один из богов, но не Бог»87. Опираясь на А. Шопенгауэра, Э. Жильсон формулирует: объектом искусства является вовсе не предметный мир, а платоновская идея. Художник не гонится за видимостью, а познание нацелено на таящееся за видимостью подлинное содержание. Таким образом, художественная способность проявляется в созерцании идеи. «Великий художник сначала отстраняется от субъективного, то есть от воли, направленной на собственную личность, и полностью посвящает себя объективному, внеличностному – Идее. В этом смысле гениальность „есть не что иное, как полнейшая объективность“88. Получается, что зрение художника обращено не к внешней реальности, а к всеобщему, Идее. Он способен видеть ее лучше остальных. То, что представлено на картине, – это не реальность, а Идея, очищенная от искажений, причиненных реальностью.
Что касается К. Юнга, то символизм, в его понимании (а мы склонны относить методологию К. Юнга к типу платоновского дискурса), возникает в том случае, когда в произведении содержится сверхличное содержание, выводящее его замысел за силовое поле сознательно вложенного в него понимания. „Здесь естественно было бы ожидать странных образов и форм, ускользающей мысли, многозначности языка, выражения которого приобретают весомость подлинных символов, поскольку наилучшим возможным образом обозначают еще неведомые вещи и служат мостами, переброшенными к невидимым берегам“89. В конце концов, в соответствии с К. Юнгом, под символом следует подразумевать возможность улавливать за пределами сиюминутной способности восприятия какой-то универсальный смысл и намек на такой смысл. Но в таком случае символ может быть отождествлен с праобразом. Символические формы – способы функционирования архетипов. Любопытно, что, несмотря на констатацию Х. Ортегой-и-Гассетом угасания принципа мимесиса и несмотря на юнговскую теорию, по сути дела давшую новую жизнь платоновскому символизму, все же платоновский дискурс ассимилируется в эстетике XX века с большим трудом, о чем и свидетельствует признание П. Рикера. Хотя новый опыт искусства соотносим именно с платоновским дискурсом, эстетика все еще исходит из аристотелевского принципа мимесиса. Это обстоятельство, разумеется, объяснимо, ведь в этом неприятии платоновского дискурса эстетикой XX века проявляется установка всей культуры Нового времени. Это обстоятельство объяснено А. Лосевым. В эпоху новоевропейской философии от Возрождения до немецкого идеализма эта традиция понималась плохо, более того, оценивалась весьма низко и пренебрежительно. „Но начиная с XVII века антично-средневековый, да заодно и возрожденческий неоплатонизм совершенно потерял всякий кредит, и те начальные элементы рационализма и эмпиризма, которые зародились в эпоху Возрождения, стали здесь расцветать в целые мощные школы или по крайней мере создавать вполне антинеоплатоническую проблематику“90. Возрождение платоновского дискурса произошло лишь у представителей немецкого идеализма, и прежде всего у романтиков. „Особенно озлобленными врагами неоплатонизма и вообще всего платонизма были, как это вполне естественно, представители Просвещения, прежде всего французского, но за ними и всякого другого. Поэтому расцвет злобы против неоплатонизма относится к XVIII веку. Тут же следует заметить, что немецкий идеализм, который был реакцией на французское просветительство, просуществовал не столь долго. Середина XIX века, вся его вторая половина, а в значительной мере и первые десятилетия XX века, что было расцветом европейского позитивизма, тоже в достаточной степени ненавидели неоплатонизм“91.
Такое отношение к идеациональному типу дискурсивности как раз и становится фоном, а точнее, контекстом увядания того, что В. Беньямин назвал „аурой“ произведения искусства. Если ауру соотнести с современным искусством, то очевидно, что в нем такой ауры больше не существует. Дело тут вовсе не во вторжении техники в искусство и не в возникшей возможности его тиражирования, а в типе сознания. В контексте культуры чувственного типа, выражением которой оказывается и омассовление, и тиражирование, аура и не может не угаснуть. Сохранению ауры может способствовать лишь одно – соотнесенность произведения искусства с культом, т. е. с сакральным. Но такая соотнесенность может иметь место лишь в контексте культуры идеационального типа. В культуре чувственного типа ритуальная или культовая функция произведения уступает место его экспозиционной и развлекательной функции. Именно это обстоятельство подчеркивает не столько В. Беньямин, сколько М. Хайдеггер, касающийся гипертрофии в современной культуре экспозиционной сущности произведения. „Творения расставлены и развешаны на выставках, в художественных собраниях. Но разве как творения, как таковые? Быть может, они уже стали здесь предметами суеты и предприимчивости художественной жизни? Творения здесь доступны и для общественного и для индивидуального потребления, для наслаждения ими. Эгинские мраморы Мюнхенского собрания, „Антигона“ Софокла в лучшем критическом издании – как творения они всякий раз вырваны из присущего им сущностного пространства. Как бы велико ни было их достоинство и производимое ими впечатление, как бы ни верна была их интерпретация, само перенесение в художественное собрание уже исторгло их из их мира. И как бы ни старались мы превозмочь такое перенесение их, как бы ни старались мы избежать его, приезжая, например, в Пестум, чтобы увидеть здесь стоящий на своем месте собор, – сам мир наличествующих творений уже распался“92.
Многие выводы, имеющие место в философии искусства XX века, связаны с констатацией не столько угасания ауры произведения искусства, сколько со смертью искусства вообще. В наиболее концентрированной форме эту идею сформулировал В. Вейдле. Вообще, для XX века идея смерти искусства не является новой. Впервые такой диагноз, как известно, поставлен еще в философии Просвещения, в частности Гегелем. Так, он писал: „Мы не считаем больше искусство высшей формой, в которой осуществляет себя истина… Можно, правда, питать надежду, что искусство и дальше будет расти и совершенствоваться, но его форма перестала быть высшей потребностью духа“93. Цитируя это место из „Эстетики“ Гегеля, М. Хайдеггер писал: „Но вопрос остается: по-прежнему ли искусство продолжает быть существенным, необходимым способом совершения истины, решающим для нашего исторического здесь – бытия, или же искусство перестало быть таким способом? Если оно перестало им быть, то встает вопрос, почему. О гегелевском приговоре еще не вынесено решения; ведь за ним стоит все западное мышление, начиная с греков, а это мышление соответствует некоторой уже совершившейся истине сущего“94.
Предметом своего размышления В. Вейдле сделал именно этот процесс умирания искусства, который, как выразился М. Хайдеггер, растянулся на несколько столетий. Естественно, как представитель русской религиозной философии В. Вейдле в качестве причины умирания искусства выдвигает тезис о разрыве искусства с религией. По его мнению, наиболее верный путь возрождения искусства связан с воссоединением искусства с религией. „Когда отвердевшая вера станет вновь расплавленной, когда в душах людей она будет вновь любовью и свободой, тогда зажжется и искусство ее собственным живым огнем. К этому в мире многое идет, и только это одно может спасти искусство. Другого пути для него нет и не может быть, потому что художественный опыт есть в самой своей глубине опыт религиозный, потому что изъявление веры не может не заключать в себе каждый творческий акт, потому что мир, где живет искусство, до конца прозрачен только для религии“95. Несмотря на то что исток этого утверждения В. Вейдле связан с одной из авторитетнейших систем в русской религиозной философии – с системой В. Соловьева, было бы все же точнее утверждать, что функционирование искусства в контексте культуры чувственного типа не было для него благоприятным в принципе. На протяжении всей истории этой культуры угасали многие проявления художественной стихии. Но это угасание искусства на самом деле не было полным его угасанием. Угасали лишь те его проявления, которые связаны с идеационализмом. Поэтому, собственно, платоновская традиция в эпоху модерна и оказалась забытой. Но очевидно, что в XX веке, когда возникает вопрос об актуализации культуры идеационального типа, вопрос о смерти искусства обретает новый смысл. Альтернативная культура как раз способствует возрождению тех граней искусства, которые угасали в контексте культуры чувственного типа. Следовательно, вопрос о смерти искусства снимается.
Поскольку художественный и эстетический опыт XX века невозможно соотнести с единственным дискурсом, то очевидно, что этот опыт соотносим не только с Платоном, т. е. не только с культурой идеационального типа. В этом опыте продолжает многое определять и система Аристотеля, соотносимая с культурой чувственного типа. Как мы успели показать, в XX веке культура тяготеет прежде всего к грамматике, культивирует грамматику, ибо слишком отрывается от традиции, обращаясь в будущее, и потому демонстрирует озабоченность созданием системы правил и норм, в соответствии с которыми можно создавать в прошлом еще не существовавшие структуры. Именно это обстоятельство способно объяснить, почему все же в XX веке, кажется, больше вспоминают не Платона, а Аристотеля, а последний соотносим скорее с культурой чувственного, нежели идеационального типа. Это можно утверждать даже применительно к феноменологии. Так, работая над вопросами поэтики, и в частности над обоснованием многоуровневости художественного произведения, Р. Ингарден решительно заявляет о своей причастности к аристотелевской дискурсивности, объявляя, что эта традиция должна быть продолжена и дополнена. „Множественность разнородных компонентов литературного произведения (в частности, трагедии) первым отметил Аристотель в своей „Поэтике“. Но уже и по тем компонентам, которые он перечисляет, можно видеть, что Аристотель еще не постиг структурной основы произведения, а лишь эмпирически уловил некоторые ее особенности, обратившие на себя внимание философа. Интересно, однако, что в числе компонентов произведения Аристотель называет и компоненты строго языкового характера (например, характер, способ мышления, фабула и т. д.). Несмотря на многовековое влияние „Поэтики“ Аристотеля, никто, к сожалению, не развил этих его наблюдений и не создал теории, которая могла бы быть подведена под эти конкретные суждения. Напротив, игнорировалось то существенное, чего Аристотелю удалось добиться, несмотря на упрощенность и примитивность своих рассуждений. „Поэтика“ Аристотеля должна получить новое освещение на основе теории двух измерений в структуре литературного произведения“96. Подобную решительную отнесенность основателей новой поэтики к аристотелевскому типу дискурсивности на уровне вербальной декларации применительно к русской „формальной“ школе зафиксировать нельзя. Но, по сути, русские формалисты исходят именно из Аристотеля. Это характерно также для Л. Выготского, который, отдавая должное новациям формалистов и предпринимая аргументированную критику их теории, все же при обосновании своей теории катарсиса из нее исходил. Удивительно, что формалисты остаются верными одним положениям Аристотеля, но оказываются нечувствительными к другим, т. е. к катарсису, хотя, как известно, этот феномен Аристотель обсуждает все в той же „Поэтике“. К сожалению, в хрестоматию не включен текст Д. Лукача о катарсисе, который должен был подчеркнуть, что эстетика XX века не утрачивала интереса к тому, что Д. Лукач называет „аристотелевской теорией катарсиса“. При этом Д. Лукач убежден, что катартическое переживание искусства характерно не только для античной трагедии, оно характерно для воздействия любого истинного произведения искусства97.
Культ Аристотеля в теории XX века, в данном случае в отечественной теории искусства, констатирует в своем фундаментальном исследовании о русском формализме О. А. Ханзен-Леве. „Поэтика“ Аристотеля не случайно была одним из наиболее читаемых и обсуждаемых произведений в области теории литературы в 10-20-е годы XX века (в России в том числе), более того, можно говорить о ренессансе аристотелевского наследия в современном искусствознании и эстетике, правда приведшем к достаточно различным новым оценкам. Так, русских формалистов интересовала не столько теория мимесиса, сколько признание Аристотелем конструктивной автономии поэзии и следующей из этого необходимости имманентного анализа, который бы разбирал, подобно логике и риторике, поэтические произведения в их целостности и цельности на предмет соответствующих технических приемов. В этом смысле и Шкловский в своей теории сюжетосложения возводит фундаментальное различение фабулы и сюжета (или материала) к аристотелевскому понятию „сказания“ („мифа“, mithos), выражающему сложение отдельных частей действия в конструктивное единство, которое определяется не содержательно-тематически, а через закономерности его построения и его „технику“. Классически-формалистическое определение „прекрасного“ у Аристотеля следует понимать таким же образом, поскольку оно объясняется не качествами изображаемых предметов, а взаимными отношениями („размер“ и „порядок“) используемых элементов»98.
В конце концов, Аристотель – мыслитель, которого тоже можно называть учредителем особой дискурсивности, а именно миметической дискурсивности, реальной для всех эпох. Тем не менее, когда В. Дильтей пытается уловить основные тенденции эпохи кризиса, т. е., как выразились бы мы, кризиса культуры чувственного типа, то проявление этого кризиса он усматривает именно в критерии научности в сфере теоретизирования в искусстве. «Так и получается, – пишет он, – что искусство становится теперь демократическим, как и все вокруг, и жажда реальности, жажда прочной научной истины насквозь пропитывает и его»99. Очевидно, что критерий научности не может быть выражением кризиса искусства и культуры, хотя В. Дильтей под ним именно это и подразумевает. В хрестоматию включен фрагмент из работы В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Одно из положений этой работы касается того, как научность является не только внешней, но и внутренней стихией искусства, во всяком случае стихией новых, так называемых «технических» искусств, что философ склонен оценивать как несомненный прогресс. По его мнению, зафиксированная фотокамерой и кинокамерой реальность заслуживает внимания не только художника, но и ученого. Основываясь на психоанализе, В. Беньямин фиксирует, как визуальное содержание фильма связано с тем, что З. Фрейдом названо «оговоркой». Воспроизводя физическую реальность, кино приковывает внимание к таким вещам, которые в обычной жизни оказывались незаметными и практически не воспринимались. Но, привлекая наше внимание, кино уподобляется науке, свидетельствуя о проникновении научного мышления в художественное100. Тем не менее можно констатировать, что наука иногда не только приближает к подлинному истолкованию искусства, но и оказывается способной отдалять от такого истолкования. На эту сторону дела обращает внимание М. Мерло-Понти. По его мнению, наука манипулирует вещами, отказываясь в них вживаться. Она создает разные модели и комбинации реальности, она оперирует ими, не испытывая стремления соотноситься с действительным миром. В связи с этим представитель феноменологической философии говорит даже об опасности, исходящей от чрезмерного увлечения наукой в сфере искусства. «Если подобного рода мышление, – пишет он, – берется трактовать человека и историю и, полагая возможным не считаться с тем, что мы знаем о них благодаря непосредственному контакту и расположению, начинает их конструировать, исходя из каких-то абстрактных параметров, то, поскольку человек в самом деле становится тем manipulandum, которым думал быть, мы входим в режим культуры, где нет уже, в том, что касается человека и истории, ни ложного, ни истинного, и попадаем в сон, или кошмар, от которого ничто не сможет пробудить»101. Чрезмерное увлечение наукой в ее приложении к искусству уязвимо главным образом потому, что искусство и только оно сообщается с тем слоем первоначального, нетронутого смысла, с которым наука не соприкасается. Не случайно Ж.-П. Сартр говорит, например, что живопись «сообщает нам нечто, что никогда не может быть до конца растолковано, для пересказа чего понадобилось бы бесконечное множество слов»102.
Но о какой науке в данном случае идет речь? Видимо, о науке, становление которой развертывается в контексте культуры чувственного типа. Закономерности этой науки во многом представлены расцветом естественных наук, которые господствуют и в осмыслении опыта гуманитарных сфер. Но поскольку в связи с кризисом принципа мимесиса мы касается того опыта искусства, что имеет место в контексте становления культуры идеационального типа, то здесь возникает вопрос о форме науки, соответствующей альтернативной культуре, о той самой форме, что способна черпать свои методы в естественных науках, но к ним не сводится. Вообще, в соответствии с П. Сорокиным, культивирование научности является одним из универсальных признаков культуры чувственного типа. То обстоятельство, что весь XX век развертывается под знаком обоснования научных критериев в изучении искусства, свидетельствует о том, что на всем протяжении этого столетия, несмотря на возникновение и становление альтернативной культуры, свидетельствующих о смене культурных циклов103, культура чувственного типа своих позиций не сдает. Собственно, вторжение науки в постижение смысла искусства следует признать позитивным фактом. Однако нельзя все же здесь не констатировать и негативных проявлений этой тенденции. Одну из уязвимых сторон этого процесса констатировал М. Бахтин, фиксируя вторжение в сферу гуманитарных наук естественных наук, результатом чего оказывается утрата персонализации. Может быть, кстати, и столь болезненная проблема эстетики и теории искусства XX века, к какой относится проблема понижения статуса авторства как следствие преувеличения значения лингвистики в постижении закономерностей искусства, тоже порождена этим обстоятельством. «Два предела мысли и практики (поступка) или два отношения (вещь и личность). Чем глубже личность, то есть ближе к личностному пределу, тем неприложимее генерализующие методы, генерализация и формализация стирают границы между гением и бездарностью. Эксперимент и математическая обработка. Ставит вопрос и получает ответ – это уже личностная интерпретация процесса естественнонаучного познания и его субъекта (экспериментатора). Процесс овеществления и процесс персонализации. Но персонализация ни в коем случае не есть субъективизация. Предел здесь не Я, а Я во взаимодействии с другими личностями, то есть Я и Другой, Я и Ты. Есть ли соответствие „контексту“ в естественных науках? Контекст всегда персоналистичен (бесконечный диалог, где нет ни первого, ни последнего слова) – в естественных науках объектная система (бессубъектная)»104.
О том, что весь XX век развертывается под знаком применения научных критериев в исследовании искусства, свидетельствует, например, исследование авторитетного теоретика искусства Х. Зедльмайра «Искусство и истина. О теории и методе истории искусства», в которой автор приходит к выводу о существовании двух разных наук об искусстве. Исходя из убеждения, что объектом научного изучения искусства является прежде всего произведение, Х. Зедльмайр говорит, что первой, или описательной, науке удается избежать многих трудностей и противоречий потому, что именно произведения искусства она не касается, ограничиваясь вопросами, связанными с выявлением места появления произведения, времени его создания, происхождения, установления авторства и т. д. Иначе говоря, первая наука не касается всего того, что не связано с пониманием произведения и актуализацией в нем художественных смыслов, отнесения его к определенному стилю, поскольку стиль может быть выявлен лишь через понимание внутренней структуры произведения. С подлинными трудностями сталкивается лишь вторая, т. е. понимающая или интерпретирующая, наука, в которой главное – это интерпретация произведения. Чтобы дать его глубокое истолкование, необходимо владеть строгими научными подходами. Вместо научных критериев, позволяющих выявить объективные признаки произведения, часто приходится сталкиваться с проекцией на произведение произвольных и субъективных истолкований, выдаваемых за научные. В реальности вместо строгой науки процветает литература об искусстве. Собственно, данный Х. Зедльмайром анализ ситуации в науке напоминает то, что проделал другой крупный теоретик и историк искусства, Э. Панофский, выделяя, с одной стороны, описательную науку, целью которой является классификация, установление дат и происхождение картины, и науку интерпретирующую – с другой. Если первую науку он называет иконографией, то вторую – иконологией105. Несмотря на множество методов истолкования смысла произведения искусства, заимствуемых в других науках, положение в науке об искусстве таково, что можно лишь констатировать: исследование пока находится лишь на подступах к настоящей науке. Иначе говоря, науки об искусстве, предметом которой должны быть произведения искусства и их интерпретация, не существует. Как же мыслит эту находящуюся в становлении науку сам Х. Зедльмайр? Если А. Ригль, а вслед за ним и В. Воррингер пытались постичь таинственный процесс творчества посредством использования в исследовании понятия «художественная воля», то Х. Зедльмайр, ассимилируя достижения наук, в частности, эпистемологии, гештальттеории, экспериментальной и феноменологической эстетики (о чем свидетельствует цитирование им Коффки, К. Левина и других представителей психологии), вводит понятие «художественная установка». Он убежден, что предмет науки об искусстве обретает определенность лишь в том случае, если его воспринимать сквозь призму художественной установки. Это весьма любопытная постановка вопроса. Во всяком случае, она свидетельствует о подвижности критериев художественности. Отсутствие такой установки затрудняет идентификацию художественного произведения. Ее смена тоже способствует радикальному изменению в его интерпретации и восприятии. Прибегая к понятию «художественная установка», Х. Зедльмайр пытается противостоять субъективному произволу в интерпретации произведения. Он убежден, что такая установка способствует выявлению именно его объективных признаков. Такая установка – ключ к истинному пониманию произведения. Правда, таких установок может быть множество, в том числе неадекватных произведению. В этом случае исследователь отдает предпочтение той, что способствует объяснению моментов, остающихся непонятными до тех пор, пока в них всматривались посредством другой установки106. При таком раскладе нельзя, однако, избежать вопроса, откуда все же приходит художественная установка: извне или изнутри. Поскольку это не вообще установка, а именно художественная, то она вроде бы должна быть выведенной из внутренних свойств произведения. Однако на этот счет у Х. Зедльмайра существует свой ответ, и, кстати, весьма актуальный. Чтобы аргументировать свою точку зрения, он вводит еще одно понятие, а именно «событие». Установка детерминирована пониманием структуры события и его протекания. Событие, по Х. Зедльмайру, это «большое целое», а под ним следует понимать культуру. Последняя есть событийное целое и, следовательно, органическое единство со специфической структурой и внутренней закономерностью. «Правильная установка по отношению к произведению должна не только „подходить“ этой структуре, но и функционировать во взаимосвязи с целым»107. Лишь соответствие произведения культуре позволяет обнаружить в нем целостность или определенность гештальта. Тогда будет более понятным строение произведения, соотношение в нем частей и целого. Это, так сказать, представления Х. Зедльмайра о синхронном аспекте функционирующих произведений. А как же быть с их диахронным аспектом, которым теоретики озабочены в связи с исключением его из поля исследований структуралистами. У Х. Зедльмайра существует суждение и на этот счет. Вторая наука об искусстве во внимание должна принимать принцип историзма. Операция наделения произведения гештальтом или интерпретация его в соответствии с художественной установкой и событием должна осуществляться не только в культурном, но и в историческом контексте. Тогда-то, по утверждению Х. Зедльмайра, и станет очевидно, что историю искусства свести к истории стилей невозможно. Вместо стиля предметом истинной науки об искусстве должно стать именно произведение. В связи с этим Х. Зедльмайр делает удивительно глубокое наблюдение: «…Сохраняя эстетическую замкнутость, образование несет в себе следы своей предыстории и контуры будущих преобразований. Его свойства (по крайней мере, достоверные) понимаются на основании того, что данное состояние достигнуто благодаря уже прошедшему и одновременно является переходом к другим, более поздним состояниям»108. Это высказывание Х. Зедльмайра перекликается с тем, что М. Бахтин скажет о закономерностях понимания текста. «Понимание как соотнесение с другими текстами и переосмысление в новом контексте (в моем, в современном, в будущем). Предвосхищаемый контекст будущего: ощущение, что я делаю новый шаг (двинулся с места). Этапы диалогического движения понимания: исходная точка – данный текст, движение назад – прошлые контексты, движение вперед – предвосхищение (и начало) будущего контекста»109.
Делая такой вывод, Х. Зедльмайр, по сути дела, приходит к удивительному парадоксу: его суждение можно использовать аргументом в пользу идеи Р. Барта о трансформации в современной культуре произведения в текст. Утверждая, что единственным предметом науки об искусстве должно быть произведение, он, по сути дела, само произведение упраздняет. Впрочем, этого Х. Зедльмайр не утверждает. Но если интерпретировать смысл им сказанного с точки зрения другой установки и, соответственно, теории, то такой вывод напрашивается. В самом деле, ведь что доказывает Р. Барт в статье «От произведения к тексту»? То, что в отличие от произведения, в котором между означаемым и означающим нет противоречия и где знак представляет собой нечто застывшее (и тогда его, разумеется, можно легко классифицировать и идентифицировать стиль, к которому он принадлежит), текст не имеет объединяющего центра, он открыт. «Тексту присуща множественность. Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая – множественность неустранимая, а не просто допустимая. В Тексте нет мирного сосуществования смыслов – Текст пересекает их, движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеяние смысла. Действительно, множественность Текста вызвана не двусмысленностью элементов его содержания, а, если можно так выразиться, пространственной многолинейностью означающих, из которых он соткан (этимологически „текст“ и значит „ткань“)»110. Это суждение, кроме всего прочего, показательно еще и тем, что представляет его автора уже не как классика структурализма, а именно как исследователя, успевшего отойти от того метода, с которым еще недавно его имя ассоциировалось, а именно как постструктуралиста. Это высказывание Р. Барта показательно еще и тем, что выдает в нем сторонника грамматологии Ж. Дерриды. Последний констатирует, что когда-то линейный принцип вытеснил символические формы мышления. Но в современной культуре утверждает себя нелинейное письмо. «Конец линейного письма – это конец книги, даже если еще и сегодня именно в виде книги так или иначе собираются воедино новые формы письма – литературного или теоретического. Впрочем, речь идет не столько о том, чтобы собрать под обложкой книги неизданные письмена, сколько о том, чтобы наконец прочитать в этих томах то, что издавна писалось между строк. Вот почему начало нелинейного письма потребовало перечесть все прежде написанное – но уже в другой организации пространства. Проблема чтения – это сейчас передний край науки именно потому, что мы находимся сейчас в подвешенном состоянии, между двумя эпохами письма. Коль скоро мы начинаем писать, и писать по-новому, мы должны учиться иначе читать»111. Когда Р. Барт говорит о тексте, сотканном из многолинейных означающих или о «ткани», то, по сути дела, под ним он подразумевает ту самую ризомную структуру, о которой пишут Ж. Делез и Ф. Гаттари.
Любопытно, что разные исследователи, создающие свои концепции в разные эпохи и в разных культурах, тем не менее приходили к похожим выводам. В этом смысле хочется сопоставить некоторые суждения Х. Зедльмайра и Ю. Лотмана, отчасти приходящих при всем несходстве предметов их исследования (живописи, с одной стороны, литературы – с другой) к сходным выводам. По сути дела, Ю. Лотмана также волнует вопрос об идентификации художественного произведения. Согласно логике его размышлений, историческое функционирование произведений искусства связано с перманентными трансформациями. Произведение, некогда осуществлявшее в границах определенной культуры эстетическую функцию, т. е. воспринималось как художественное, способно это качество утрачивать и восприниматься как нехудожественное. С другой стороны, классифицируемое и оцениваемое до некоторых пор как существующее за границей художественных текстов произведение втягивается в центр художественной жизни, наделяясь со стороны коллектива, в котором оно функционирует, эстетическими или художественными качествами. Разве мы не узнаем в этом парадоксе установки в ее понимании Х. Зедльмайром? Ведь когда тот или иной нехудожественный текст начинает оцениваться как художественный, то это совсем не означает, что мы имеем дело с произвольным его толкованием, с приписыванием ему художественного смысла, которым он может объективно не обладать. Дело в другом, а именно: изменившаяся установка ориентирует на восприятие таких уровней и смыслов текста, которые при предшествующей установке быть воспринятыми не могли, хотя в произведении они и имели место. Как Ю. Лотман объясняет этот сдвиг в интерпретации произведения? Хотя исследователь не употребляет ни понятие «установка», ни понятие «событие», но решающим в этом процессе для него, как и для Х. Зедльмайра, становится контекст культуры. Именно культура детерминирует наличие комплекса функций, которые искусство призвано осуществлять. «Между функцией текста и его внутренней организацией нет однозначной автоматической зависимости: формула отношения между двумя этими структурными принципами складывается для каждого типа культуры по-своему, в зависимости от наиболее общих идеологических моделей. В самом общем и неизбежно схематическом виде соотношение это можно определить так: в период возникновения той или иной системы культуры складывается определенная, присущая ей, структура функций и устанавливается система отношений между функциями и текстами»112. Такая логика рассуждений приводит исследователя к выявлению искусства как определенной иерархизированной структуры, в частности существования в нем верхнего и нижнего уровней, как и менее определенного промежуточного уровня. В ходе исторической эволюции эти уровни могут меняться местами, а следовательно, иерархия строения искусства способна изменяться. Собственно, утверждая так, Ю. Лотман в то же время продолжает традицию русской «формальной» школы, сформировавшуюся на позднем ее этапе, когда ее представители перешли к осмыслению диахронического аспекта литературы. Когда Ю. Лотман говорит о литературе как многоуровневой и самоорганизующейся системе, в ней он находит место и теории искусства, закрепляя за ней специфические функции. «На самой высокой ступени организации, – пишет он, – она (литература. – Н.Х.) выделяет группу текстов более абстрактного, чем вся остальная масса текстов, уровня, то есть метатекстов. Это нормы, правила, теоретические трактаты и критические статьи, которые возвращают литературу в ее самое, но уже в организованном, построенном и оцененном виде. Организация эта складывается из двух типов действий: исключения определенного разряда текстов из круга литературы и иерархических организаций и таксонометрической оценки оставшихся»113. Приходится лишь удивляться тому, как сходные теоретические представления возникают одновременно в разных искусствах. Так, теоретические построения Ю. Лотмана, размышляющего о том, как подвижна граница между художественным и нехудожественным и как она зависима от социальных ориентиров и культурного контекста, в некоторых своих моментах заставляют вспомнить институциональную теорию искусства в ее американском варианте. В хрестоматию включены два текста, представляющие американскую философию искусства, – один принадлежит главному теоретику институционализма, Д. Дики, и второй – Т. Бинкли, разработавшему особый вариант институциональной теории искусства. Суть институционализма в американской философии искусства заключается в относительности внутренних, т. е. художественных и, соответственно, эстетических, признаков произведения и в значимости этого подынститута искусства (в данном случае под ним институционалисты подразумевают мир искусства, что-то вроде профессионального сознания или художественной среды). Это означает, что критерием художественной ценности произведения и, соответственно, его художественного статуса является отношение к нему, т. е. либо положительная, либо отрицательная оценка со стороны общества и его специальных институтов. В основе отношений между творцами и воспринимающими произведения искусства оказывается исторически изменчивая художественная конвенция. Очевидно, что институциональная теория искусства, представляющая философию искусства, испытала влияние возрождающегося во второй половине XX века во всем мире социологического, или позитивистского, мышления.
Связывая возникновение интереса к научному постижению искусства, сам В. Дильтей провозглашал, что задачу преодоления кризиса, в том числе и кризиса науки об искусстве, может разрешить уже не столько эстетика в ее традиционных формах, сколько менее отвлеченная и более приближенная к конкретным явлениям искусства, к его сиюминутной практике поэтика. Хотя, судя по всему, проект новой поэтики мыслился так, что, собственно, именно она должна, с одной стороны, заменить старую эстетику, а с другой – послужить основой для создания новой, более соответствующей возникшей в культуре ситуации. Таким образом, если к философии, эстетике и психологии у формалистов было осознанное негативное отношение, то зато у них можно констатировать культ лингвистики. Заимствование лингвистического подхода как раз и подтверждает введение в науку об искусстве критерия научности. Иллюстрацией такого культивирования лингвистики может служить построение поэтики русскими формалистами. В каком состоянии в начале XX века оказалась поэтика? Б. Эйхенбаум констатирует, что к этому времени она успела выйти из употребления, и ее нужно было возрождать. Мы еще более уясним положение с поэтикой, если снова обратимся к В. Дильтею. Дело в том, что поэтика в любом ее проявлении, в том числе и в своих поздних формах, отсылает к Аристотелю. Но дело в том, что аристотелевский дискурс не только в начале истекшего столетия, но еще и в XIX веке, как мы уже отмечали, казался отжившим.
В. Дильтей жестко констатирует: «Созданная Аристотелем поэтика мертва. Уже перед лицом прекрасных поэтических чудовищ, создававшихся Филдингом и Стерном, Руссо и Дидро, формы и правила поэтики Аристотеля превращались в бесплотные тени чего-то ирреального, в шаблоны – снимки художественной манеры прошлого»114. Однако поэтика в меньшей степени, чем эстетика, обособлена от искусства. Таким образом, задачу преодоления кризиса в исследовании искусства способна преодолеть лишь поэтика. Вот как об этом пишет В. Дильтей: «Задача поэтики, проистекающая из живой сопряженности ее с художественной практикой, такова: может ли она обрести общезначимые законы, которые можно было бы применить в качестве правил творчества и норм критики? И в каком отношении техника данной эпохи и науки находится к этим всеобщим правилам? Как преодолеть ту трудность, что тяжким бременем лежит на всех науках о духе, а именно трудность выведения общезначимых положений из различного рода внутреннего опыта – столь ограниченного, неопределенного и сложносоставного, но притом и неразложимого на части? Перед нами вновь встает прежняя задача поэтики, и только спрашивается, может ли она быть решена теми вспомогательными средствами, какие предоставляет нам расширившийся научный кругозор. Свойственные же современности эмпирические и технические точки зрения позволяют подняться от поэтики и сопутствующих ей отдельных эстетических дисциплин ко всеобщей эстетике»115. По сути дела, поэтика мыслится как дисциплина, способная на какое-то время, а именно переходное время, когда традиционная эстетика утратила свой авторитет, заменить эстетику при решении универсальных задач творчества. Следует констатировать, что сочинение «Воображение поэта. Элементы поэтики», написанное В. Дильтеем в 1887 году, в котором высказано данное суждение, оказалось пророческим. На протяжении всего XX века фоном для угасания философской эстетики явился возрастающий интерес к научности, что проявилось в привлечении к объяснению искусства всех существующих научных дисциплин, но только не философской эстетики. Именно это обстоятельство продиктовало выделение в хрестоматии отдельного раздела, который бы эту тенденцию демонстрировал. Следовательно, нельзя не констатировать, что на протяжении всего XX века исследователи пытались подтвердить прогноз В. Дильтея о нарастающем интересе к поэтике, способной заменить собой эстетику, в том числе и интересе со стороны разных наук и научных направлений. Этот интерес к построению поэтики связан прежде всего со структурализмом. Однако движение к нему можно констатировать достаточно рано, а именно усматривать его уже в практике так называемой русской «формальной» школы, которую с некоторых пор представляют как структурализм до собственно структурализма, что, разумеется, справедливо. Такое восприятие формалистов следует признать верным, поскольку в своих подходах к искусству они действительно структурализм предвосхитили.
Когда Ю. Кристева представляет зарубежному читателю методологию М. Бахтина она не случайно возвращается к русским формалистам, оценивая их опыт как опыт структурализма, предшествующий собственно структурализму, во всяком случае в его французском варианте. Но при этом, что примечательно, и опыт собственно структурализма, и опыт формалистов она рассматривает в русле преодоления традиционной эстетики и движения к научности, которой столь озабочена теория искусства истекшего столетия. «Изучая внутреннюю организацию „произведения в себе“, выделяя внутри повествования составляющие его единицы и устанавливая связи между ними, следуя тем самым дедуктивным путем, который в целом восходит к Канту, а в конкретных особенностях – к структурной лингвистике первой половины XX века, – пишет Ю. Кристева – работы формалистов привнесли то, чего недоставало ни истории литературы, ни импрессионистическому эссеизму, столь характерному для французской традиции, а именно подход, стремящийся к теоретичности; отвоевывая себе место, этот подход находил отзвуки или аналогии в тех процессах овладения „гуманитарным“ и „социальным“ знанием научного статуса, которые обычно именуются структурализмом»116. Однако что касается научности в исследовании искусства, то у учителя Ю. Кристевой, Р. Барта, имеют место свои соображения. Представляя структурализм и будучи одним из его вождей, Р. Барт тем не менее считал, что радикальные сдвиги в отношениях автора, воспринимающего и критика в XX веке обязаны не только структурализму, но в том числе марксизму и фрейдизму. Однако, может быть, в теории искусства остается непрокомментированным факт близости идей Р. Барта к теоретическим положениям Б. Брехта, которого можно было бы, видимо, считать посредником между Р. Бартом и К. Марксом. Существуют признания самого Р. Барта о том, что идеи Б. Брехта на него продолжают воздействовать на протяжении всей его научной биографии117. Не случайно даже в статье «Смерть автора», анализируя изменение статуса автора в современном искусстве, он основывается на брехтовской концепции очуждения. В самом деле, созданная Б. Брехтом концепция очуждения представляет исключительно значимую страницу эстетики театра (и не только XX века, поскольку для Б. Брехта, например, прием исполнения женских ролей актерами-мужчинами в восточном, и в частности в традиционном японском, театре является иллюстрацией эффекта очуждения). Фрагмент из статьи Б. Брехта «Малый органон для театра» мы планировали включить в настоящее издание еще и потому, что эстетика театра не только не присутствует в имеющих место хрестоматиях, но и вообще не разработана. Но, имея намерение включить текст Б. Брехта в данное издание, мы в то же время руководствовались особой значимостью брехтовской идеи, и имеющей широкий резонанс в теории и эстетике XX века, и, с другой стороны, самостотельно и независимо от других эстетических и теоретических концепций появившись, с ними перекликающейся. Во всяком случае, открытие Б. Брехта можно соотносить одновременно и с идеей остранения, принадлежащей русским формалистам, и с идеей карнавальности, принадлежащей их оппоненту М. Бахтину. Прежде чем ставить вопрос, в чем именно Р. Барт следует Б. Брехту, затронем вопрос о созвучности брехтовской идеи и теории В. Шкловского, и теории М. Бахтина. В исследовании о диалогической структуре романов Ф. Достоевского М. Бахтин показывает, что ориентация при построении поэтики лишь на лингвистику недостаточна. Он даже говорит о необходимости обращения к металингвистике. Формалисты, которых М. Бахтин критикует, исходят из языка, но при этом упускают из виду диалогические формы его функционирования. Как утверждает М. Бахтин, «язык живет только в диалогическом общении пользующихся им»118. Во всех формах (бытовой, научной, деловой и т. д.) проявления языка пронизаны диалогическими отношениями. Но лингвистика как раз эти формы существования языка и не рассматривает. Собственно, именно это обстоятельство и объясняет, почему теория формалистов оказывается уязвимой, а создаваемая ими поэтика хотя и вносит много нового и новаторского в теорию искусства, все же окончательно проблемы не решает. Что же касается самих диалогических отношений, то в реальном существовании языка, и в особенности художественного языка, они выражают себя с помощью позиций разных субъектов. Чтобы языковые тексты стали диалогическими, они должны предстать в высказываниях, т. е. получить субъективное оправдание или иметь автора, т. е. создателя высказывания, с помощью которого получает выражение определенная позиция. Диалог пронизывает и формирует и высказывание, и слово, становящееся, в силу этого, двуголосым, чего лингвистика не учитывает. Это особенно проявляется в несовпадении авторского высказывания и высказывания героя. В данном случае слово героя предстает «чужим» словом. Это «чужое» слово – значимый элемент в разрушении монологической коммуникации. Когда М. Бахтин в текстах романов Ф. Достоевского фиксирует «чужое» слово, он делает такой вывод: «Основные для Достоевского стилистические связи – это вовсе не связи между словами в плоскости одного монологического высказывания – основными являются динамические, напряженнейшие связи между высказываниями, между самостоятельными и полноправными речевыми и смысловыми центрами, не подчиненными словесно-смысловой диктатуре монологического единого стиля и единого тона»119. Любопытно следить, как одна и та же мысль, явленная в какой-то речевой форме, в слове, у Ф. Достоевского проговаривается разными персонажами, придерживающимися несовпадающих жизненных ориентаций. В данном случае слово или группа слов – одна и та же, а вот его значения каждый раз будут иными, ибо они произносятся лицами, придерживающимися разных жизненных позиций. «Отношение героя к себе самому неразрывно связано с отношением его к другому и с отношением другого к нему. Сознание себя самого все время ощущает себя на фоне сознания о нем другого, „Я для себя“ на фоне „Я для другого“. Поэтому слово о себе героя строится под непрерывным воздействием чужого слова о нем»120.
Наконец, на наш взгляд, решающее для сравнения открытия М. Бахтина и открытия Б. Брехта суждение М. Бахтина о том, что слово и противослово как элементы диалогического общения могут не просто следовать друг за другом и произноситься разными людьми, но способны сливаться в высказывания, принадлежащие одному человеку. Теперь от этого вывода перейдем к брехтовскому приему очуждения. Смысл его заключается в деконструкции аристотелевской формы, когда театр превращается в форму гипноза, с помощью которого публике навязывается какая-то единая точка зрения на происходящее. Такая точка зрения часто воплощена в поведении персонажа. Б. Брехт имеет намерение разрушить эту суггестивную силу театрального монолога и внедрить в восприятие спектакля дистанцию между актером и персонажем, даже если ради этого ему пришлось бы подвергнуть сомнению правомочность столь влиятельного не только во времена Б. Брехта, но и во все времена истории театра принципа перевоплощения. Но как можно такую дистанцию в спектакле реализовать? Видимо, лишь одним способом: с помощью того, что М. Бахтин называет «чужим» словом. Актер отделяет себя от исполняемого им персонажа. Возникает критическое отношение к точке зрения героя. Это означает, что актер, играющий героя, произносит его текст как цитату. «Если актер отказался от полного перевоплощения, то текст свой он произносит не как импровизацию, а как цитату. Ясно, что в эту цитату он должен вкладывать все необходимые оттенки, всю конкретную человеческую пластичность; также и жест, который он показывает зрителю и который теперь представляет собой копию, должен в полной мере обладать жизненностью человеческого жеста»121. Чтобы способствовать эффекту очуждения, т. е. неполной перевоплощаемости, можно использовать такие средства, как перевод в третье лицо, перевод в прошедшее время и чтение роли вместе с ремарками и комментариями. Но, конечно, эффект очуждения в актерском исполнении вовсе не является частным приемом. Собственно, этот прием должен пронизывать строение спектакля в целом. Это означает, что воплощенное в фабуле течение событий способно прорываться, включать в себя какие-то фрагменты, не имеющие отношения к действию. В общем, спектакль может быть смонтирован подобно газете. Это делается с целью разрушения вживания зрителя в действие. Необходимо стимулировать критическое восприятие действия, оценивать создаваемое с его помощью состояние мира как преходящее, временное, несовершенное, а следовательно, нуждающееся в изменении. Собственно, за подобной позицией Б. Брехта улавливается не только идея «чужого» слова М. Бахтина, но и другая, не менее ценная идея автора концепции диалогичности, а именно идея карнавализации, поскольку с его точки зрения зарождение европейского романа связано с вторжением в литературу карнавально-площадной фигуры шута или трикстера, приходящего из иного, более разумного и справедливого мира, с точки зрения которого этот мир является неподлинным и заслуживающим уничтожения. Возникновение понятия «текст» у Р. Барта, отличное от традиционного понятия «произведение», тоже во многом обязано брехтовской теории очуждения. Может быть, лишь брехтовский эффект очуждения позволит этот тонкий нюанс прояснить. Дело в том, что по самой своей сути произведение монологично, ибо внушает читателю определенную систему поведения, т. е. идеологию. Через монолог в произведение вторгается идеология, которую и пытается разрушить своим эффектом очуждения Б. Брехт. Идеология – обладающий мощной суггестивной силой механизм для внушения императивов определенной культуры и нужных этой культуре для регулятивных целей. Кстати, если с этим положением Р. Барта согласиться, то в данном случае между произведением искусства и мифом можно поставить знак равенства. Восприятие такого произведения требует, в соответствии с идеей Б. Брехта, эмоционального погружения, вживания и растворения воспринимающего в действии. По мнению Р. Барта, у текста, в отличие от произведения, другое предназначение. Текст не внушает и не устраняет критическое сознание воспринимающего, он направлен на преодоление отчуждающей функции произведения. Текст разрушает суггестивную, идеологическую функцию произведения. Хотя когда Р. Барт именно так видит текст и его предназначение, то под ним хочется подразумевать то, что М. Бахтин считал карнавалом, т. е. актуализацией игрового, смехового комплекса, противоречащего погружению и вживанию, т. е. тому, от чего и предостерегал Б. Брехт. Подобная аналогия между Р. Бартом и М. Бахтиным не является искусственной, поскольку у М. Бахтина тоже, как и у Р. Барта, имеет место осознанная нетождественность произведения и текста. Он писал: «Текст – печатный, написанный или устный – записанный – не равняется всему произведению в его целом (или „эстетическому объекту“). В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его. Произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения)»122.
Само собой разумеется, что разрушение суггестивного потенциала произведения означает и понижение статуса автора с его стремлением пронизать свой замысел единой идеей, свести его к монологической структуре, иначе бы он не смог реализовать весь суггестивный потенциал произведения. Но естественно, что строение текста со свойственным ему эффектом очуждения роль воспринимающего в контексте с текстом усиливает. Однако как это ни покажется странным, но эффект очуждения Б. Брехта перекликается не только с идеями М. Бахтина, но и с идеями формалистов, в частности с идеей В. Шкловского. В самом деле, вот что пишет Б. Брехт: «Эффект очуждения» состоит в том, что вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой разумеющееся в известной степени становится непонятным, но это делается лишь для того, чтобы потом оно стало более понятным. Чтобы знакомое стало познанным, оно должно выйти за пределы незаметного; нужно порвать с привычными представлениями о том, будто бы данная вещь не нуждается в объяснении. Как бы она ни была обычна, скромна, общеизвестна, теперь на ней будет лежать печать необычности»123. По сути дела, смысл этой цитаты из Б. Брехта относит к известной теории остранения В. Шкловского, утверждавшего, что целью искусства является достижение ощущения вещи как видения, а не как узнавания («…Приемом искусства является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен: искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»124. Для чего же искусство должно осуществлять эту функцию восстановления истинного, но уже утраченного видения вещи или явления? Потому, что мы привыкаем к ним и уже перестаем их видеть. Поэтому нужно вернуть их подлинное видение, а следовательно, сделать так, чтобы вещь вывести из автоматизма и создать новый способ ее восприятия, как это, например, показано в «Холстомере» Л. Толстого или в «Собачьем сердце» М. Булгакова. В поэзии, например, существуют особые способы выведения восприятия из автоматизма. Так, В. Шкловский приводит высказывание все того же Аристотеля о поэтическом языке, который должен уподобляться необычному или даже чужеземному. Ну и наконец, перекличка между Б. Брехтом и Р. Бартом. Р. Барт пишет: «Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл („сообщение“ Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются – и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель подобен Бувару и Пекуше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя „сущность“, которую он намерен „передать“, есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности»125. Структура теста, как ее представляет Р. Барт, предстает тем самым монтажом сценического представления Б. Брехта, противостоящим последовательному развертыванию фабулы, в которую зритель вписывается. Собственно, смысл эффекта очуждения и заключается в этом противостоянии, в этой логике линейности и последовательности.
Поскольку и формализм, структурализм и даже постструктурализм озабочены проблемами поэтики, а сама поэтика в XX веке, в силу создавшейся ситуации, берет на себя функции эстетики, то можно утверждать, что в истекшем столетии вопросы поэтики занимают значимый раздел теоретической рефлексии об искусстве. Если иметь в виду русский формализм, то для его представителей характерно стремление к научности и, как следствие, отрицательное отношение к существующей в эстетике и теории искусства ситуации. Так, во включенной в хрестоматию статье Б. Эйхенбаума, в которой он пытается в конце 20-х годов обобщить опыт формализма и одновременно обособиться от эпигонов, стремящихся создать из него что-то вроде официальной системы, чем в нашей стране увлекались, провозглашается принципиально новая наука о литературе и одновременно негативное отношение к существующей эстетике, что в эпоху формалистов было типичным, но за что формалистов критиковали. Вот как этот негативизм создателей новой поэтики по отношению к философской эстетике понимает сам Б. Эйхенбаум: «Представителей формального метода неоднократно и с разных сторон упрекали в неясности или в недостаточности их принципиальных положений – в равнодушии к общим вопросам эстетики, психологии, философии, социологии и т. д. Упреки эти, несмотря на их качественные различия, одинаково справедливы в том отношении, что они правильно схватывают характерный для формалистов и, конечно, не случайный отрыв как от „эстетики сверху“, так и от всех готовых или считающих себя такими общих теорий. Этот отрыв (особенно от эстетики) – явление более или менее типичное для всей современной науки об искусстве. Оставив в стороне целый ряд общих проблем (вроде проблемы красоты, цели искусства и т. д.), она сосредоточилась на конкретных проблемах искусствоведения»126. Однако провозглашаемый отрыв от эстетики и философии для формалистов не означал отрыва от теории искусства. В этой же статье Б. Эйхенбаум не случайно упоминает о существовании в Германии опыта анализа стиля и приемов, правда в сфере изобразительного искусства. Собственно, в России «формальная» школа заняла такое же положение и стала столь же авторитетной, правда, аналогичные исследования здесь, как уже отмечалось, развернулись в сфере литературы. Как немецкой, так и русской формальной школе свойственно обращение не к эстетике, что их представителями осознавалось, а к теории искусства в ее новом проявлении. Однако под теорией искусства в ее новой форме формалисты подразумевали прежде всего поэтику. Не случайно Б. Эйхенбаум заключает: «Возрождение поэтики, совершенно вышедшей из употребления, имело поэтому вид не простого восстановления частных проблем, а набега на всю область искусствознания. Положение это создалось в результате целого ряда исторических событий, из которых самые главные – кризис философской эстетики и крутой перелом в искусстве»127.
Негативное отношение представителей «формальной» школы дополнялось неприятием ими психологического фактора искусства, вообще всего, что связано с личным, индивидуальным или авторским аспектом творчества. Короче говоря, для формалиста биография автора не существует. Б. Эйхенбаум пишет: «Мы не вводим в свои работы вопросов биографии и психологии творчества, полагая, что эти проблемы, сами по себе очень серьезные и сложные, должны занять свое место в других науках. Нам важно найти в эволюции признаки исторической закономерности – поэтому мы оставляем в стороне все то, что с этой точки зрения представляется „случайным“, не относящимся к истории. Нас интересует самый процесс эволюции, самая динамика литературных форм, насколько ее можно наблюдать на фактах прошлого. Центральной проблемой истории литературы является для нас проблема эволюции вне личности – изучение литературы как своеобразного социального явления»128. Естественно, что здесь сразу же бросается в глаза созвучность с одним из наиболее очевидных и взрывных признаков будущего структурализма, который был сформулирован и обозначен Р. Бартом как «смерть автора». Эта его написанная в 1968 году статья стала одной из самых известных в современной теории искусства. Чтобы проделать жестокий акт сбрасывания с пьедестала автора, один из вождей структурализма пытается охарактеризовать предысторию, как, почему и когда образ Автора в культуре занял столь привилегированное место. «Фигура автора, – пишет он, – принадлежит Новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием Средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, „человеческой личности“. Логично поэтому, что в области литературы „личность“ автора получила наибольшее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма. Автор и поныне царит в учебниках истории литературы, в биографиях писателей, в журнальных интервью и в сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою личность и творчество в форме интимного дневника» 129.
Однако по поводу недооценки Б. Эйхенбаумом, да, собственно, и всеми остальными представителями русской «формальной» школы авторства, следовало бы привлечь не столько Р. Барта, сколько «формальную» школу в ее немецком варианте. Когда М. Бахтин как оппонент формалистов пытается дать характеристику формального метода как в его русском, так и в немецком варианте, в качестве одного из наиболее очевидных его признаков он называет недооценку Автора130. Собственно, именно от немецкого формализма, а вовсе не от Р. Барта и даже не от Б. Эйхенбаума необходимо вести счет процессу деиндивидуализации искусства. Не случайно Г. Вельфлина как представителя немецкой формальной школы называют предтечей структурализма131. Пытаясь дать характеристику лозунга «история искусства без имен», М. Бахтин пишет: «Под этим лозунгом скрывается совершенно правомерное требование построить объективную историю искусств и историю художественных произведений. Необходимо вскрыть специфическую закономерность смены художественных форм и стилей. У этой смены своя внутренняя логика»132. Любопытно, что впервые сформулировавший этот ставший известным методологический лозунг Г. Вельфлин позднее комментировал так: «Не знаю, где я подхватил это выражение, но в ту пору оно висело в воздухе»133. Однако если Г. Вельфлину трудно объяснить происхождение своего принципа, то это делает философ Р. Гвардини, связывая этот процесс с трансформациями культуры. Изменения в статусе автора для него – следствие переходности в культуре. «Наступает период отчуждения, отторжения, тем более острого, чем догматичнее было первое одобрение – до тех пор, пока следующая эпоха не выработает из своих новых предпосылок нового отношения к автору и его созданию»134.
Однако когда мы, имея в виду констатацию падения статуса автора, называем Г. Вельфлина и вообще формалистов, то все же здесь невозможно избежать исторической точки зрения. По сути дела, в связи с формалистами следовало бы говорить о первой волне дискуссии об авторстве. Вторая же волна возникает в связи со структурализмом, т. е. уже во второй половине истекшего столетия. Ее-то и выражает известная статья Р. Барта. Но то, что формулирует один из лидеров структурализма, формировалось постепенно под воздействием тех идей, что к этому времени оформились в сфере этнологии. Крайность в констатации падения престижа Автора, которую, кстати, М. Фуко в своем докладе, включенном в хрестоматию, не разделяет, порождена наблюдением К. Леви-Строса над мифом, которое, собственно, и переносилось на исследование искусства. Кстати, этому в немалой степени способствовал и сам К. Леви-Строс, не скрывающий своего восхищения перед тем, как открытая им в процессе анализа мифов методология эффективно работает в сфере искусства. Это восхищение авторитетного ученого зафиксировано в его статье о стихотворении «Кошки» Бодлера, написанной им совместно с Р. Якобсоном. Он пишет: «В поэтическом произведении лингвист обнаруживает структуры, сходство которых со структурами, выявленными этнологом в результате анализа мифов, поразительно»135. Но ведь что означает приложение методологии анализа мифа для искусства? А именно то, что при такой процедуре авторство произведения действительно сходит на нет. Такое наше утверждение требует более аргументированного высказывания К. Леви-Строса о мифе. «Мифы не имеют авторов, – пишет он, – при первом же восприятии их в качестве мифов, каково бы ни было их происхождение, они уже существуют только воплощенными в традиции. Когда миф рассказан, индивидуальные слушатели получают сообщение, которое приходит, собственно говоря, ниоткуда. По этой причине ему приписывают сверхъестественное происхождение. Понятно, что единство мифа проецируется на некое виртуальное средоточие: вне сознательного восприятия слушателя вплоть до точки, где излучаемая энергия будет поглощена бессознательной работой переогранизации»136.
Такое заключение К. Леви-Строса не прошло не замеченным Р. Бартом, что не удивительно, поскольку применительно к художественному произведению он делает аналогичное заключение. Раз в мифе невозможно обнаружить четкую структуру и невозможно отделить один миф от другого («Мифические темы способны варьироваться до бесконечности. Едва только возникнет впечатление, будто удалось их распутать и отделить друг от друга, как замечаешь, что они, в силу неожиданного сродства, вновь неразрывно сплелись между собой. Отсюда следует, что единство мифа – это всего лишь проект и тенденция, что оно ни в коем случае не отражает какого-либо состояния мифа или момента в его развитии»137, то размывается и вообще исчезает понятие Автора. Ж. Деррида не случайно выписывает эту цитату из К. Леви-Строса. Она позволяет ему проецировать строение мифа на художественное произведение. Раз в нем отсутствует автор, то, следовательно, оно не имеет и центра, а раз так, то потому и появляется у него текст вместо произведения, структура которого мыслится исследователем по принципу строения мифа.
Однако тему Автора не только как одну из частных тем в методологии «формальной» школы и структурализма, но и как одну из универсальных тем культуры XX века138, необходимо осмыслять в соответствии с установками приходящей на смену культуре чувственного типа альтернативной культуре. Для истории теории искусства все же важен также вопрос о том, какие аргументы находятся у Р. Барта, когда он решает ниспровергнуть Автора с того пьедестала, на который его поставили предшествующие великие эпохи в истории культуры. С точки зрения Р. Барта, фигура Автора уменьшается по мере того, как мы обнаруживаем в произведении значимость языка и письма. Впрочем, не меньшее значение в феномене «смерти автора» приобретает и читатель, вообще воспринимающий искусство. Вопрос этот важен не только для постструктурализма, но и для феноменологии. Так, М. Дюфрен пишет, что эстетический объект завершает себя лишь в восприятии. «Зритель, – пишет он, – не только увековечивающий произведение свидетель, но в определенном смысле и завершающий его исполнитель: чтобы явить себя, эстетический объект нуждается в зрителе»139. С этим трудно спорить. Однако настоящая проблема заключается в том, чем же все-таки руководствуется воспринимающий произведение? Как утверждает Э. Гомбрих, организующей восприятие силой может быть лишь сознательное намерение творца. Однако при этом Э. Гомбрих вынужден признать, что открытие бессознательного это условие подорвало. Тем не менее первоочередной задачей интерпретатора остается восстановление первоначального смысла произведения или смысла, сознательно вкладываемого в произведение его автором. Чтобы облегчить выполнение этого необходимого условия в интерпретации произведения, исследователю, по Э. Гомбриху, необходимо восстановить культурный контекст. Э. Гомбрих формулирует жестко: «Нет таких образов, которые могут быть правильно интерпретированы, если вырвать их из контекста»140. Любопытно, что соображения Э. Гомбриха о значении в интерпретации произведения преднамеренного начала, т. е. вкладываемого автором в произведение смысла перекликаются с идеями Я. Мукаржовского, высказанными им в работе «Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве». Как и Э. Гомбрих, Я. Мукаржовский также уделяет большое значение бессознательному, требующему постановки вопроса о непреднамеренном в художественном творчестве. Правда, оригинальность постановки вопроса Я. Мукаржовским заключается в утверждении, что бессознательное также обладает преднамеренностью. С другой стороны, непреднамеренность нельзя свести к бессознательному. В связи с этим Я. Мукаржовский выходит к обсуждению вопроса о том, что в художественном творчестве субъектом является не творец, а воспринимающий, что превращает произведение в знак или систему знаков. Когда воспринимающий произведение проявляет активность, то отсюда вытекает, что возможно вкладывать в произведение преднамеренность, отличную от той, что подразумевал творец. То, что для автора было непреднамеренным, для воспринимающего предстает преднамеренным. В данном случае заключение Я. Мукаржовского совпадает с тем, что утверждает рецептивная эстетика: публика является активным сотворцом произведения. Подобные заключения позволяют утверждать, что увеличивающийся в XX веке интерес к проблематике восприятия не случаен. Выводы Я. Мукаржовского об актуализации непреднамеренности в процессе восприятия, что может трансформироваться в художественный прием, интересны еще и тем, что отчасти они совпадают с принципами постструктурализма. По мнению Я. Мукаржовского, несмотря на то, что произведение искусства включено в социальную коммуникацию и функционирует как знак, оно постоянно выходит за границы существующей коммуникации, а следовательно, и знака, прекращая быть предметом семиотики. Причиной такого выхода является культивирование непреднамеренности в произведении. Но такое частичное выпадение произведения из коммуникации и понижение его знакового уровня нельзя при этом считать явлением негативным, или, иначе говоря, негативным оно оказывается лишь с точки зрения поздней эстетики. Поскольку наличие в произведении непреднамеренного позволяет отождествить его с природным началом, то само произведение уподобляется тому, что Я. Мукаржовский называет «корневищем».
То, что структурализм придает в конституировании текста особую значимость языку, означает требование научности как главное в построении новой поэтики. В данном же случае, если иметь в виду структуралистское понимание научности, то последняя связана с оттеснением всех наук, и прежде всего эстетики, на периферию и с ориентацией на такую науку, как лингвистика, постепенно, уже в проекте Ф. де Соссюра, перерастающую в семиотику как общую науку о функционировании в обществе знаковых систем, для которой лингвистика оказывается лишь образцом. Однако в XX веке лингвистика выдвигается в центр гуманитарного знания, о чем свидетельствует ее проникновение в методы изучения искусства, еще и потому, что она предлагает ключ к овладению того столь обращающего на себя внимание и даже пугающего феномена, каким является бессознательное. Дело в том, что, как открыли структуралисты, интерпретация бессознательного поддается определенным правилам. Оно структурно упорядочено в соответствии с теми же нормами, что имеются в естественном языке. Что же касается эффекта культивирования лингвистики на статус автора, то здесь срабатывает следующая закономерность. Структуралисты пришли к выводу, что в современной культуре значение субъективности вообще преувеличивается. Изучение языка показывает, что не мы пользуемся языком, а он – нами. Парадокс заключается в том, что лишь язык позволяет человеку объективировать свою субъективность. Однако язык предшествует индивиду, следовательно, до и независимо от индивида он уже определенным образом организует, классифицирует, предлагая готовые формулы, в которые отливается наша субъективность и, соответственно, в них растворяется. Все эти положения, естественно, распространяются и на субъективность творца. Впрочем, культ лингвистики к появлению структурализма в теории искусства был уже знаком по «формальной» школе, ведь это именно формалисты, реализуя свой проект новой поэтики, провозгласили лингвистику единственной наукой, способной помочь им такой проект реализовать. Обобщая опыт формалистов, Б. Эйхенбаум указывает на лингвистику как самое эффективное средство построения поэтики. «Так, вместо обычной для литературоведов ориентации на историю культуры или общественности, на психологию или эстетику и т. д. у формалистов явилась характерная для них ориентация на лингвистику как на науку, по материалу своего исследования соприкасающуюся с поэтикой, но подходящую к нему с иной установкой и с иными задачами»141.
В связи с концепцией М. Бахтина мы уже касались вопроса о том, почему возведение поэтики формалистами не оказалось до конца удовлетворительным. Уязвимость формализма верно констатировал М. Бахтин. Смысл этой уязвимости он сформулирует позднее в статье «К методологии гуманитарных наук», эскиз которой, правда, существовал уже в конце 30-х – начале 40-х годов. В этой статье он отвечает на вопрос о своем отношении к структурализму. Но этот ответ был дан уже в отношении М. Бахтина к формализму. М. Бахтин выступает против деперсонализации как структурализма, так и формализма. Такой деперсонализации названных направлений как раз и способствует лингвистика, освобожденная от принципа диалогизма. С помощью диалога М. Бахтин восстанавливает персоналистический смысл языка или, наоборот, персоналистический смысл языка восстанавливает через диалог. При этом, возвращая к персонализму и субъективизму, М. Бахтин отнюдь не возвращает к психологии, от которой формалисты успели отречься. «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический минимум). Это персонализм не психологический, но смысловой»142.
Следующим, кроме языка, фактором, нейтрализующим авторское начало в тексте, по Р. Барту, является введенное им понятие «письма», которому он посвятил специальную раннюю работу «Нулевая степень письма». Откуда берется множественность входящих во взаимодействие в тексте кодов? Она связана с расслоением единого языка на множество «социолектов», или типов письма. Последний означает способ знакового закрепления социокультурных представлений. Таким образом, получается, что письмо означает опредметившуюся в языке идеологическую сетку, используемую определенной социальной группой или субкультурой в интерпретации окружающей действительности. Такая сетка оказывается между человеком и миром, именно она определяет, фиксирует или не фиксирует человек какие-то явления и как их оценивает. Культура представляет внушительный фонд таких типов письма. Но использование этого фонда избирательно, оно производится индивидом в соответствии с принадлежностью к определенной среде. Как пишет глубокий истолкователь французского структурализма Г. Косиков, в феномене письма Р. Барт разглядел социальный институт, обладающий принудительной, т. е. идеологической силой143. Проблема заключается в том, что письмо проявляет активность как в творческом акте, так и в процессе восприятия.
Важным аргументом в констатации понижения статуса Автора у Р. Барта явился тезис об активизации в контакте с произведением читателя. Р. Барт исходит из понимания произведения как текста, представляющего вовсе не линейную цепочку слов (кстати, с этим бы согласился еще один теоретик искусства XX века – М. Маклюен). Для Р. Барта текст представляет многомерное пространство, где вступают во взаимодействие различные виды письма. Получается, что текст состоит из отсылающих к множеству культурных источников цитат144. Что же в таком случае должен делать Автор? Р. Барт говорит: автор устраняется, точнее, превращается в приходящего ему на смену скрипотора, а последний «несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности»145. Но поверженный Автор в лице скриптора для Р. Барта – оборотная сторона активизировавшегося читателя. И вот в том месте, в котором Р. Барт провозглашает господство читателя, его выводы удивительно напоминают теоретические положения М. Бахтина, это не случайно, ведь сверхзадачей Р. Барта, как и М. Бахтина, было стремление дискредитировать и разрушить язык идеологии как язык монологический, что делало популярным его работы в среде левых западных интеллектуалов. «Так обнаруживается, – пишет он, – целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель»146






