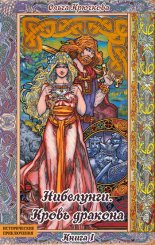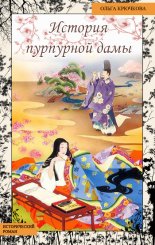Крепостной остывающих мест Кенжеев Бахыт

декаденты мои, как вам было печально и сладко
до войны! Как сквозь благоуханный табак
рассуждалось о вечном, о царстве Любви и Софии!
Не смешно. Я ведь тоже успел позабыть, идиот,
что чернеют весною снега, что на каждой стихии
человек – сами знаете кто и куда, ослеплённый, бредёт.
«Устал, и сердце меньше мечется. Ещё и крокус не пророс…»
Устал, и сердце меньше мечется.
Ещё и крокус не пророс,
ещё морковным соком лечится
весенний авитаминоз,
но стоит в предрассветной панике
вообразить грядущий год,
где дудка квантовой механики
над белокаменной плывёт —
легко работать на свободе ей,
охватывая наугад
опустошающей мелодией
кинотеатр и детский сад,
игорный дом и дом терпимости,
музей, таверну и собор —
знать, наступило время вымести
отживший мир, постылый сор —
и жалко, жалко той скамеечки
с подстеленной газетой «Труд»,
где мы, целуясь неумеючи,
печалились, что не берут
ни в космонавты, ни в поэты нас,
и, обнимаясь без затей,
играли в мартовскую преданность
нехитрой юности своей —
пальто на вате, щука в заводи,
льняная ткань, простейший крой —
лишь позабытый звездоплаватель
кружит над тёмною землёй..
«Один гражданин прям, а другой горбат…»
Один гражданин прям, а другой горбат,
один почти Магомет, а другой юрод,
но по тому и другому равно скорбят,
когда он камнем уходит во глубь океанских вод,
и снова, бросая нехитрые взгляды вниз,
где ладит охотник перья к концу стрелы,
трёхклинным отрядом утки летят в Белиз —
их хрупкие кости легки, а глаза круглы.
Один не спешит, а другому и звезды – блиц —
турнир в сорок девять досок, сигарный чад,
но зависти нет к двуногим у серых птиц,
которые в небе, чтоб силы сберечь, молчат.
Когда бы отпала нужда выходить на связь,
как вольно бы жил разведчик в чужой стране!
И я помолчу, проигрывая, смеясь
над той бесконечной, что больше не снится мне.
«Заснул барсук, вздыхает кочет…»
Заснул барсук, вздыхает кочет,
во глубине воздушных руд
среди мерцанья белых точек
планеты синие плывут.
А на земле, на плоском блюде,
под волчий вой и кошкин мяв
спят одноразовые люди,
тюфяк соломенный примяв.
Один не дремлет стенька разин,
не пьющий спирта из горла,
поскольку свет шарообразен
и вся вселенная кругла.
Тончайший ум, отменный практик,
к дворянам он жестокосерд,
но в отношении галактик
неукоснительный эксперт.
Движимый нравственным законом
сквозь жизнь уверенно течёт,
в небесное вплывая лоно,
как некий древний звездочёт,
и шлёт ему святой георгий
привет со страшной высоты,
и замирает он в восторге:
аз есмь – конечно есть и ты!
Храпят бойцы, от ран страдая,
луна кровавая встаёт.
Цветёт рябина молодая
по берегам стерляжьих вод.
А мы, тоскуя от невроза,
не любим ратного труда
и благодарственные слёзы
лить разучились навсегда.
«…как чернеет на воздухе городском серебро невысокой пробы…»
…как чернеет на воздухе городском
серебро невысокой пробы
и алеет грубый кумач на недорогих гробах —
так настенное зеркало с трещиной
слишком громоздко, чтобы
уместиться в помойный бак.
Говорят, отражения – от рождения – где-то копятся,
перепутаны правое с левым и с низом верх.
Зря ли жизнь, несравненная тварь, семенит, торопится,
задыхаясь – поспеть на прощальный свой фейерверк
(или просто салют, по-нашему). Только в речную воду
не заглядывай – утечёт, ни почина нет у неё, ни конца.
Хочешь выбросить зеркало —
надо его разбить молотком, с исподу,
чтоб ненароком не увидеть собственного лица.
«Витязь, витязь, что же ты напрасно замер на скрещении дорог?..»
Витязь, витязь, что же ты напрасно
замер на скрещении дорог?
Сахар, соль, подсолнечное масло,
плавленый сырок.
Фляжка с вмятиной, щербатый носик
чайника, о Ленине рассказ.
Град, где содержимое авосек
выставлено напоказ.
Город алый, где даётся даром
ткань – х/б, б/у – стиха,
и летят, и тлеют по бульварам
рыжих листьев вороха,
и восходят ввысь, клубами дыма
охватив Стромынку и Арбат…
Ну конечно, неисповедимы.
Кто же спорит, брат.
«„А вы, в треволненьях грядущего дня, возьмётесь ли вы умереть за меня?“…»
«А вы, в треволненьях грядущего дня,
возьмётесь ли вы умереть за меня?»
Он щёлкнул по чаше – запело стекло.
Неслышно кровавое солнце плыло.
И ласточка в небе пылала, легка,
но Симон смолчал, и смутился Лука.
Один Иегуда (не брат, а другой)
сказал, что пойдёт ради вести благой
на крест. Снятся мёртвому сны о живом,
шепнул – и утёрся льняным рукавом.
И если хамсин, словно выцветший дым,
к утру обволакивал Иерусалим, —
печёную рыбу, пустые рабы,
мы ели, и грубые ели хлебы,
чуть слышно читали четвёртый псалом,
вступая в заброшенный храм сквозь пролом, —
молились солдаты мечу и копью,
мурлыкали ветхую песню свою,
доспехами тусклыми страшно звеня…
Возьмётесь ли вы умереть за меня?
Продрогла земля, но теплы небеса,
тугие, огромные, как паруса,
и плотный их холст так прозрачен, смотри, —
как мыльный пузырь с кораблями внутри,
как радуга, радость всем нам, дуракам,
спешащий к иным, да, к иным облакам.
И ангелу ангел: ну что ты забыл
внизу? Ты и там погибать не любил.
И в клюве стервятник воды дождевой
приносит распятому вниз головой.
«Она была собой нехороша…»
Она была собой нехороша:
сухое, миловидное лицо
коль присмотреться, отражало след
душевной хвори. Были и другие
симптомы: лень, неряшливость, враждебность
во время приступов. С ней было страшновато.
«Никто меня не любит, – утирая
слезу несвежим носовым платком,
твердила, – всё следят, хотят похитить,
поработить.» Но это, повторюсь,
не всякий день. Бывали и недели
сплошного просветления. Она
была филолог, знала толк в Бодлере
и Кузмине, печаталась, умела
щекой прижаться так, что становилось
легко и безотрадно. С белой розой
я ожидал ее в дверях больницы,
при выписке. В асфальтовое небо
она смотрела оглушенным взглядом,
и волосы безумной отливали
то черным жемчугом, то сталью вороненой,
когда она причесывалась, то есть
нечасто. Вдруг – солидное наследство.
от неизвестной бабки в Петергофе,
из недобитых, видимо. Леченье
в Детройте. Визу, как ни странно, дали.
Стоял февраль, когда я вдруг столкнулся
с ней в ресторане Пушкинъ. Меценат,
что пригласил меня на ужин, усмехнувшись,
не возражал. Я запросто подсел
за столик, и воскликнул: «Здравствуй, ангел!»
Тамарин спутник, лет на семь моложе
моей знакомой, поглядел не слишком
приязненно, но все-таки налил
мне стопку водки. «Серый гусь, – сказала
она. – Сто сорок долларов бутылка,
но качество! Умеют же, когда
хотят!» Я пригляделся. Легкий грим.
Горбинка на носу исчезла. Стрижка
короткая проста, но явно не из
соседней парикмахерской. «Терпи! —
сказал ее товарищ, – упадут,
куда им деться. Точно, упадут!»
«Давай за это выпьем,» – засмеялась
она. Мы дружно выпили. Тамара
представила меня. Мы помолчали. «Ладно, —
сказал я бодро, – мне пора в свою
компанию.» «ОК. Все пишешь?» «Да,