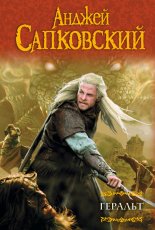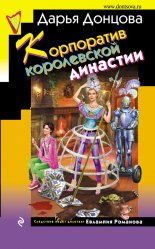Сказки старого Вильнюса II Фрай Макс
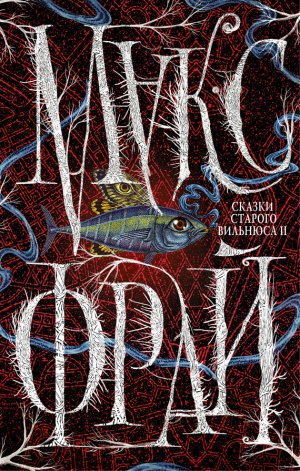
Нет, ну в самом деле.
Спросил:
– А как вы можете меня наказать, если это мой сон?
– А нам и не надо вас наказывать. Наше дело – пресечь нарушение. Раньше за такие штучки полагалась немедленная депортация, а теперь… Ушам своим не поверил.
– Депортация? То есть человека высылали из страны, если ему что-то не то приснилось?
– Ну что вы такое говорите, – улыбнулась женщина. – При чем тут страна? Депортация в данном случае означает пробуждение, неужели не очевидно?
– Мне сейчас ничего не очевидно. Я же сплю. А во сне может случиться все что угодно.
– Да, это распространенное мнение, – согласился мужчина. – В любом случае после присоединения к Евросоюзу, правила изменились. Нас обязали проводить с нарушителями разъяснительные беседы в целях профилактики дальнейших рецидивов. Давайте начнем. Присаживайтесь, пожалуйста.
Хотел спросить – куда, собственно? – но не успел, потому что обнаружил себя почти утонувшим в огромном кресле-мешке. Полицейские же разместились на высоких кухонных табуретах, выкрашенных в оранжевый цвет. Сидели со строгими лицами и идеально прямыми спинами, но при этом болтали ногами, как дошкольники.
– Моего коллегу зовут Альгирдас, – сказала женщина. – А меня – Таня. Простите, что сразу не представились и не показали удостоверения. Впрочем, вы их и не потребовали.
Невольно ухмыльнулся.
– Это кем же надо быть, чтобы во сне – во сне! – первым делом требовать у всех удостоверения?
– Уж не знаю, кем для этого надо быть, но требуют регулярно, – флегматично заметил Альгирдас. – Сам порой удивляюсь. Казалось бы, спит человек, видит сон, себя почти не помнит, родную мать по имени вряд ли назовет, а все туда же – документы ему подавай. Поразительно.
– Кто будет говорить? – нетерпеливо спросила Таня.
– Начинай ты. Я за это дежурство уже сам себе надоел. Не удержался, спросил:
– А что, так много туристов страшные сны про Вильнюс видит?
– Много – не то слово, – вздохнул полицейский. – Как будто нарочно за этим приезжают.
– Теперь сосредоточьтесь, – строго сказала Таня. – И слушайте меня внимательно. Во сне это иногда бывает довольно трудно, но вы, пожалуйста, постарайтесь.
Кивнул:
– Договорились.
– Дело обстоит так, – начала она. – Вопреки распространенным представлениям о том, что сны являются исключительно порождением индивидуального сознания спящего, пространство сновидения не только объективно существует, но и до известной степени совпадает с участком так называемой реальности, фигурирующем в сновидении. Это понятно?
Из вежливости согласился:
– Понятно.
И честно добавил:
– Но не очень.
– Да, с непривычки это довольно трудно понять, – вздохнула Таня. – Что ж, считайте умственный труд чем-то вроде исправительного наказания за правонарушение. Ладно, попробую еще раз, на конкретном примере. Вот, предположим, сейчас вам снится, что вы находитесь в Вильнюсе. Это, безусловно, является прямым следствием ваших персональных впечатлений, полученных во время прогулки по городу. Но одновременно это означает, что существует участок сновидческого пространства, в той или иной степени соответствующий так называемому реальному Вильнюсу. То есть все, кому снится Вильнюс, попадают именно сюда, к нам – даже те, кто лег спать в Токио или, скажем, Нью-Йорке.
– О. Теперь, наверное, понятно.
– Вот и хорошо. Пошли дальше. То, что с вами происходит во сне – это сумма работы вашего сознания и особенностей того участка пространства сновидений, на котором вы в данный момент находитесь. То есть место действия, безусловно, влияет на ход вашего сновидения. Но и содержание вашего сновидения влияет на место! И когда ваше сознание – вот как сегодня – выплескивает на нашу территорию ваши персональные страхи, это… Ну все равно, как если бы вы привезли с собой полный чемодан этих неприятных инопланетян. И оставили их тут жить. Строго говоря, именно это вы и сделали, – и Таня укоризненно покачала головой.
Ответил, как первоклассник строгому завучу:
– Но я же нечаянно!
– Ну разумеется. В противном случае с вами разговаривали бы не мы. Теми, кто осознанно и намеренно причиняет ущерб пространству сновидений, занимается совсем другая организация. И порядки у них очень суровые. Уж я-то знаю, у меня сводный брат там служит.
– При этом хорошие и даже просто нейтральные сны про Вильнюс мы только приветствуем, – сказал Альгирдас. – Некоторые расцениваем как прямую благотворительность. В прошлом году мэрия Вильнюса даже учредила специальные награды для особо отличившихся сновидцев. В то же время, находясь у нас в гостях, вы имеете полное право видеть сколь угодно страшные сны, местом действия которых являются другие обитаемые и необитаемые пространства. Нас это не касается.
Буркнул:
– Вот спасибо.
– Мы также не станем вмешиваться, – бесстрастно продолжил полицейский, – если вам приснится страшный сон про Вильнюс в ходе пребывания за пределами нашего города. Ну и право местных жителей на любые кошмары с любым местом действия тоже никто не оспаривает, зато защищать их по мере сил мы, разумеется, обязаны. Не такие уж строгие у нас порядки, как видите.
Кивнул:
– Да, ничего так. Вполне можно жить.
К счастью, полицейские не уловили иронии.
– Теперь, когда вы более-менее представляете себе причины, вынуждающие нас ограничивать для приезжих свободу субъективного восприятия негативных онейрологических образов, мы обязаны предупредить вас, что при повторной попытке контрабанды кошмаров вы будете депортированы без дополнительных предупреждений, – бодро закончила Таня.
– То есть проснусь?
– Совершенно верно.
Вздохнул, не веря своему счастью:
– Как же это хорошо!
– Ну, вы учтите, пожалуйста, что мы не всегда можем успеть вовремя, – заметил Альгирдас. – Работы очень много, город велик, а людей не хватает.
– Это Вильнюс-то велик?
– В той своей части, которая является пространством сновидений, он огромен, – серьезно подтвердила Таня. – Вы даже не представляете, насколько.
– В общем, мы, конечно, справляемся, – сказал Альгирдас. – Но с большим трудом. Вся надежда, что после наших разъяснительных бесед хотя бы некоторые нарушители станут более ответственно относиться к своим сновидениям.
– «Более ответственно» – это как? Если бы от меня хоть что-то зависело, я бы ни единого кошмара в жизни не увидел. Неужели вы думаете, будто мне нравится видеть страшные сны?
– Ну, кто вас знает, – пожала плечами Таня. – Некоторым, говорят, нравится. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило.
Сказал:
– Ладно, предположим. Я уснул, и мне снова начинает сниться этот дурацкий сон про инопланетян, устроивших резиденцию в Святой Анне. И что я могу предпринять? Какие действия?
Полицейские растерянно переглянулись.
– Да откуда же мы знаем, – наконец ответила Таня. – Это ваше сознание. Как-то вы с ним, наверное, договариваетесь, если захотите. Вам видней.
Чуть не заплакал. Издеваются они, что ли?
– Да ни черта я с ним не договариваюсь. Чуть ли не каждую ночь всякая дрянь снится, устал от нее – сил нет. Как будто наяву мало проблем и бед. Так еще и во сне! И что делать?!
– Не надо так расстраиваться, – мягко сказал Альгирдас. – Мы правда не знаем. Мы же не психотерапевты. И даже не шаманы. Простые полицейские. Строго говоря, мы вообще – ваш сон. Не забывайте об этом, пожалуйста.
Опешил.
– Я-то думал, вы объективно существуете.
– Конечно, объективно, – согласилась Таня. – Объективней не бывает. Но это совершенно не мешает нам быть вашим сном. Нет никакого противоречия.
Помолчали.
– Вы говорили, что вам и наяву хватает бед, – внезапно сказала Таня. – Я, конечно, не специалист. Но на вашем месте я бы начала именно с этого.
– С чего – «с этого»?
– С той части вашей жизни, о которой вы говорите: «наяву». Попробуйте превратить ее в хороший сон – для начала. Возможно, больше ничего и не понадобится.
– Как, интересно, можно превратить дурную явь в хороший сон?
– Я, конечно, не специалист, – повторила Таня. – Но на вашем месте я бы просто постоянно твердила себе наяву: «Какой хороший сон».
Буркнул:
– Боюсь, это прозвучит не слишком искренне.
– Возможно, – согласилась Таня. – А все-таки имеет смысл попробовать. Потому что по сравнению с ночными кошмарами почти любая человеческая жизнь выглядит совсем неплохо, согласитесь.
Пожал плечами. Так-то оно так, но…
– Я очень сожалею, но время нашей беседы подошло к концу, – внезапно сказал Альгирдас. – У вас звонит будильник. Кстати, прекрасная музыка. Обычно люди под такие жуткие звуки просыпаются, что хоть сразу, с утра, чаю не попив, вешайся. А вы, выходит, небезнадежны.
Собирался огрызнуться, что-то вроде: «Ну слава богу, а я-то переживал», – но телефон, поставленный на половину седьмого и правда принялся исполнять один из «Венгерских танцев» Брамса, поди проигнорируй такой концерт. Пришлось просыпаться.
Конечно, не выспался. Однако настроение было вполне ничего, а после первой чашки кофе выправилось окончательно. Приступая к завтраку, сказал себе: «Какой хороший сон», – и был искренен, как никогда. Действительно хороший, просто отличный сон про блинчики и омлет с ветчиной, всегда бы так.
Следующий хороший сон был про залитую солнцем улицу Бернардину, по которой так приятно идти пешком, сколь бы досадные хлопоты ни поджидали в конце пути.
Сон про деловые переговоры оказался, как и следовало ожидать, нервным и довольно утомительным. Но на кошмар он, слава богу, совершенно не походил. И люди при этом снились на редкость симпатичные, особенно в сравнении с давешними инопланетянами. И вид из окна переговорной – двадцать третий этаж! – мог бы сделать честь любому сновидению.
После неожиданно приятного сна о телефонном звонке домой окончательно признал метод полицейского Тани рабочим. И торжественно объявил очередным хорошим сном долгую прогулку по ветренной набережной – в пиджаке нараспашку, с ванильным мороженым в дурацком вафельном рожке. Перспектива в ближайшее время увидеть малоприятный сон о простуде не пугала – причинно-следственные связи почти без сбоев работают, пока бодрствуешь, а во сне все иначе. Никогда заранее не знаешь, каких последствий ждать, и это хорошая новость. Гораздо лучше, чем можно было подумать еще вчера, наяву.
Два дня спустя, когда пришло время смотреть увлекательный сон об отъезде домой, уже по дороге к вокзалу увидел припаркованную на углу полицейскую машину. У сидевшей за рулем молодой женщины была роскошная копна каштановых волос, ее плотно сбитый седой коллега курил, стоя снаружи. Хотел подойти, поздороваться, поблагодарить за отличный совет. Но в последний момент почему-то застеснялся. Подумал: а вдруг это только они мне снились, а я им – нет? Неловко получится.
– Вот этот дядька в костюме, – задумчиво сказала Таня. – С черной дорожной сумкой. Слушай, откуда-то я его знаю. Очень знакомое лицо. Обычно всегда могу вспомнить, а тут – никак. А ты не?.. Ай, ладно, неважно, он уже за угол свернул.
Улица Вильняус (Vilniaus g.)
Оставайтесь с нами
Кто-то должен ходить за хлебом, и пусть это буду я, потому что всякий раз, когда я говорю себе: хорошо бы погулять, – непременно выясняется, что времени нет совершенно. Даже жалкие полчаса – немыслимая роскошь для человека, у которого столько работы. Зато выйти за хлебом – нужное, полезное, практически богоугодное дело, кто хочешь подтвердит. И работа милостиво соглашается немного потерпеть. За хлебом – это же двадцать минут туда-обратно, не больше.
«И даже меньше, – успокаиваю я себя, шнуруя ботинки. Сколько там идти до ближайшей пекарни, ерунда, ну».
Внутренний надсмотрщик, впрочем, уже подозревает неладное. Насупившись, наблюдает, как я одеваюсь. Дай ему волю, посадил бы меня на цепь, да руки коротки, и я выскакиваю на улицу, победно размахивая невесомой тряпичной сумкой.
А пробежав пару кварталов, вкрадчиво говорю себе: ничего страшного не случится, если я пойду не в ближайшую лавку, а в ту, которая чуть подальше. Какие-то лишние десять минут, зато прогулка. Весна, здоровье, движение, голову проветрить, жопу растрясти, ну же!
Внутренний надсмотрщик пронзительно верещит: «Нееееет!» Но на таком расстоянии от письменного стола и прочих орудий производства его возражения совсем несложно игнорировать. А когда я, благополучно добравшись до лавки-подальше, с лицемерным негодованием разглядываю полки – все не то, какая-то ерунда, а не хлеб, ну что ты будешь делать, – внутренний надсмотрщик уже лежит на внутреннем полу, в отчаянии закрыв внутреннюю голову внутренними руками. Он прекрасно знает, чем это закончится. И ничего не сможет поделать, когда я рассудительно скажу: ну уж нет, такой хлеб мы ни за что не станем есть. Ничего не попишешь, придется идти в центр.
Дело сделано, очередной побег удался. К письменному столу я теперь вернусь нескоро, и как же это, честно говоря, хорошо.
И быстро, быстро вниз с холма, спотыкаясь о нерастаявшие комья позавчерашнего снега, останавливаясь лишь затем, чтобы приглядеться к мелким синим брызгам на склоне – пролески? уже? не померещились? не померещились! – и бегом дальше, мимо каштанов, роняющих на землю сухие прошлогодние листья, ощущая, как совершенно по-летнему припекает макушку. Все времена года смешались на нашем холме в густой весенний коктейль, словно все братья-месяцы собрались здесь, помогают непутевому младшему устроить нам небывалую весну, вот и молодцы, давно пора.
А добежав до проспекта Гедиминаса, можно свернуть направо и перевести дух. Перейти на шаг. Сказать себе, что порция миндального кофе определенно не помешает праздно прогуливающемуся – то есть что это я, целеустремленно мчащемуся за хлебом – организму наслаждаться ароматом весеннего ветра. В смысле организованно продвигаться в сторону булочной. Хулы не будет.
Пройти несколько кварталов и снова свернуть направо, на Вильняус, где призывно пылает оранжевый ромб «Coffee-in», обрадоваться, обнаружив, что за дверь уже выставлены два круглых стола и несколько стульев – первые вестники весны, долгожданные, как подснежники. Еще вчера их не было, а нынче – стоят, и теперь будут вечно, то есть, до самого ноября, в существование которого лично я сегодня не верю. И, похоже, вообще никто.
Несколько минут спустя я выхожу из кафе, сжимая в руках горячий картонный стакан, кладу все еще пустую тряпичную сумку на холодный металлический стул – вот и пригодилась. Усаживаюсь, осторожно, чтобы не обжечься, делаю первый глоток кофе, щурюсь от яркого солнечного света, лезу в карман за портсигаром, заодно достаю телефон и решительно выключаю звук. Ближайшие десять минут я проведу в раю, и пусть весь мир подождет.
Весь мир укоризненно качает головой и тоже достает сигареты. Если уж все равно ждать.
По случаю теплого весеннего дня дверь кафе распахнута настежь, и слышно, как в зале играет музыка. В данный момент – Queen. Надо же. Кофейня все-таки скорее студенческая, и бариста – ровесники своей целевой аудитории, достаточно время от времени пить здесь кофе, чтобы быть в курсе самых актуальных музыкальных новинок. И вдруг Queen, прекрасный, как весенние небеса над нашими головами. И почти столь же древний. Но я-то, собственно, только за.
«Ride the wild wind[4], – поет Фредди Меркьюри. – Ride the wild wind», – настойчиво повторяет он, как будто кого-то надо уговаривать. Как будто все мы, здешние, сегодняшние весенние люди, не стоим уже на цыпочках в состоянии безмятежной готовности оседлать любой воздушный поток, способный унести нас туда, не знаю куда. За пределы называемого словами. На далекую тайную родину всего живого, вспомнить которую невозможно, но аромат ее земли дразнит наши ноздри ранней весной. Всего несколько дней в году, но этого хватает, чтобы выжить. И жить потом долго и счастливо – до следующей весны.
«Ride the wild wind» – твердит Фредди. И задорно добавляет: «Хей-хей-хей!» Лично у меня никаких возражений. Хей-хей-хей, конечно. Еще бы не хей-хей-хей.
– Это Радио Гедиминаса, – говорит приятный мужской баритон. – Оставайтесь с нами до первой звезды. В программе следующего часа лучшая музыка для весны. А сейчас городские новости.
Теперь понятно, почему Queen, а не Die Antwoord[5], Lykke Li[6], или, предположим, Skrillex[7]. Девочки-бариста забыли дома флешку с любимой музыкой и с горя включили радио. «Радио Гедиминаса» – надо же, впервые о таком слышу, хотя в машине регулярно перескакиваю с одной волны на другую в поисках чего-нибудь новенького и при этом не слишком оскорбляющего слух. Но «Радио Гедиминаса» мне точно никогда не попадалось. Интересно, название – дань уважения основателю города, или имя владельца радиостанции? Или просто студия расположена на проспекте Гедиминаса, где-нибудь тут, за углом? Впрочем, какая разница, лишь бы музыку хорошую крутили, а выпуски новостей – не дольше трех минут. Скучнее нынешних городских новостей были разве что старые советские, про надои в шахтах и валовое производство озимых. Чур меня.
– Первый за эту весну Черный Ветер, – бодро говорит ведущий, – порадовал нас вчера, в среду одиннадцатого апреля в восемнадцать сорок семь, что вполне соответствует обещаниям наших синоптиков, предсказывавших приход первого весеннего Черного Ветра в середине второй недели апреля. По их предварительным прогнозам, следующее явление Черного Ветра нам предстоит пережить в конце мая. Что ж, наберемся терпения и будем ждать.
«Чего?! – озадаченно думаю я. – Начинать сразу с погоды – дело хорошее, но с какой радости вчерашний ветер – кстати, слишком слабый, чтобы упоминать его в новостях – объявлен черным?.. Впрочем, ерунда. Просто послышалось».
– Очередное сезонное нашествие несовершеннолетних цветных демонов на парк Вингюс, как всегда, завершилось их оперативным усмирением силами городской полиции. Малолетние нарушители пристыжены и переданы в руки опекунов. Жертв и разрушений нет, следы деятельности юных хулиганов устранены почти полностью; синий цвет восемнадцати сосновых стволов и нетрадиционная окраска некоторых других парковых растений сохранены по согласованию с городской администрацией для удовольствия гуляющих. Это радио Гедиминаса, городские новости, оставайтесь с нами до второго пришествия.
Чего-о-о-о?!
– Экстренное сообщение городской службы безопасности: с начала недели в Вильнюсе зарегистрировано четыре случая появления необычных для нашего региона агрессивных домовых духов. Их облик и поведение позволяют предположить, что к нам пожаловали линчетто, областью обитания которых традиционно считается Италия. Краткая информационная справка: маленькие итальянские домовые линчетто забираются в дома через замочные скважины и усаживаются на грудь спящим. Как правило, подобные вторжения чреваты продолжительными ночными кошмарами, а в отдельных случаях несут угрозу для здоровья и даже жизни пострадавших. Важно помнить, что самый простой и надежный способ избавиться от линчетто – встать с постели, включить свет, приготовить бутерброд с сыром и сесть на ночной горшок, специально поставленный в дальнем углу комнаты. В такой позиции следует съесть бутерброд и сказать вслух: «Чтоб ты провалился! Я ем хлеб с сыром, а линчетто пусть провалится!» Если в вашем доме действительно находится линчетто, он немедленно преисполнится отвращения и исчезнет, чтобы больше не возвращаться.
После секундной паузы, в ходе которой полезная информация, очевидно, должна как следует закрепиться в слушательских головах, ведущий бесстрастно заключает:
– Некоторые эксперты связывают появление линчетто с одновременным прибытием в Вильнюс нескольких больших групп итальянских туристов. Однако, насколько нам известно, до сих пор ни групповой, ни индивидуальный туризм никогда не приводили к подобным последствиям. Городские власти обещают провести тщательное расследование, о ходе которого мы будем вам сообщать. Оставайтесь с нами до третьих петухов.
ЧЕГО?!
Во дает, а.
– Пришло время зачитать краткий список апрельских городских мороков. Во второй половине месяца нам по-прежнему предстоит слышать скрипичную музыку, доносящуюся из нежилых зданий, терять голубые камни из колец, пройдя несколько кварталов, обнаруживать себя на другом конце города и находить на собственных подоконниках незнакомые горшки с цветами неизвестного происхождения; напоминаю, что по цвету внезапно появившихся в доме цветочных горшков можно безошибочно предсказывать ближайшее будущее: зеленый, как известно, сулит успех во всех начинаниях, синий – путешествие, желтый советует внимательно прислушиваться к советам незнакомцев. Значения остальных цветов и узоров вы можете узнать, позвонив нам по телефону восемь шесть семь семь восемь шесть семь, звонок бесплатный. Также возможны кратковременные появления на улице Базилиону клуба чайной культуры «Арбатос Магия», закрывшегося летом две тысячи десятого года. Его посещения, в целом, совершенно безопасны, однако городской комитет здравоохранения настоятельно не рекомендует пить там чай. Зато покупка посуды и других сувениров остается целиком на ваше усмотрение. Полый список весенних городских мороков будет оглашен в вечернем выпуске новостей, оставайтесь с нами до первого поцелуя.
«Да куда ж я от вас теперь денусь, – думаю я. – Где еще самые важные новости услышишь. Если в городе есть радиостанция, оккупированная такими прекрасными психами, значит начались воистину хорошие времена. Надо будет спросить девчонок, что это за волна. И впредь настраивать на нее все, что под руку подвернется».
– Выставка блуждающих зеркал Лейна, открывшаяся в конце минувшей недели в Галерее Люси на улице Майронё, как и следовало ожидать, уже закрыта в связи с исчезновением всех экспонатов. Однако ценителям искусства непрямых отражений, не попавшим на вернисаж в пятницу, не следует огорчаться: зеркала по-прежнему в городе, и их поиски могут стать прекрасным развлечением. По нашим сведениям, одно из блуждающих зеркал сейчас находится в витрине антикварного магазина на улице Траку четырнадцать, второе – в холле гостиницы «Неринга» по адресу проспект Гедиминаса двадцать три; несколько штук сегодня утром видели на дне Вильняле, неподалеку от площади Тибета, а еще одно зеркало наш специальный корреспондент только что обнаружил в женском туалете ресторана «Sue's Indian Raja» на Одминю три. Спешите посмотреть, пока они снова не разбежались. Местоположение остальных блуждающих зеркал Лейна пока неизвестно, ищите их самостоятельно и не забывайте сообщать нам о своих находках.
«Так не бывает, – думаю я, щурясь от удовольствия. – Какая же восхитительная чушь, господи. С утра до ночи такие новости можно слушать, не отрываясь».
– И, наконец, о самом главном. То есть о погоде. На экстренном заседании городского комитета по дождям и травам было принято решение временно приостановить работу, обеспечив, таким образом, теплые солнечные выходные во всех районах города и области. Прогнозируемое замедление роста весенних трав признано незначительным. Это радио Гедиминаса, городские новости, оставайтесь с нами до седьмого пота.
Мамочки.
– Напоследок новость для любителей прекрасного. В начале мая к работе над Вильнюсом приступит новая команда иллюстраторов заката. Это группа молодых специалистов, лучших выпускников Северного Небесного Университета прошлого года. Ребята обещают нам новые небывалые впечатления и самые модные цвета весенне-летнего сезона – нежные оттенки фруктового сорбета, яркие оттенки кобальта и индиго, черничный, оранжевый и, внимание, – желтый! Не знаю, как вам, а лично мне в последние годы очень его не хватало на наших небесах. Специальный спонсор этой новости – ресторан «Torres», улица Ужупё сорок, разнообразная европейская кухня и лучший вид на закат с веранды в любое время года. Это были городские новости, радио Гедиминаса, оставайтесь с нами до первого воробья.
– Чирик!
Упомянутый воробей скачет по моему столу и возмущенно чирикает, обиженный отсутствием крошек. Он прав, в начале весны всякий ответственный горожанин должен иметь при себе горсть семечек, на худой конец, кусок хлеба, или печенье для оголодавших за зиму птиц. Вот о чем забыло напомнить слушателям Радио Гедиминаса. Домовые, зеркала и закаты – дело хорошее, но помимо удовольствий у всякого человека должны быть обязанности. Например, подкармливать воробьев.
И кстати о радио. Почему оно замолчало? Новости закончились, это понятно, но теперь должна быть музыка. «Лучшая музыка для весны», обещали же. И где?
Погасив недокуренную сигарету, поднимаюсь и иду в кафе. Обычно мне лень лезть к людям с расспросами и вступать в переговоры, но не сейчас.
В кафе тишина, у стойки о чем-то шепчется влюбленная парочка, девочки-барристы трудятся над их заказом – одна готовит кофе, другая выжимает из грейпфрутов кислый розовый сок.
– А почему вы выключили радио? – спрашиваю я.
Обе любезно бросают свои дела, чтобы одарить меня взглядами. Одна – просто удивленным, вторая – испуганным. Видимо, новенькая, еще не привыкла к мысли, что вопросы клиентов вовсе не обязательно сулят дополнительные проблемы.
– Мы не выключали, – наконец говорит удивленная девушка Нина, мисс латте 2011, согласно надписи на фартуке. – И не включали. Я хочу сказать, у нас не работало радио. И вообще никакой музыки с самого утра.
– Музыкальный центр вчера поломался, – поясняет испуганная девушка Аста, мисс латте 2012. – Мы как раз мастера ждем.
– Но как же, – растерянно бормочу я. – Только что было. Радио Гедиминаса, там сперва пели Queen, потом городские новости… Так это не у вас? И вы не слышали?
Но как?..
Девушки Нина и Аста молча мотают головами.
– Может быть, кто-то наверху окна открыл? – Неуверенно говорит Нина. – А в квартире работало радио.
Тогда на улице должно быть слышно, а у нас – нет.
Ну, кстати, да. Это все объясняет.
Извинившись, выхожу на улицу, задираю голову, внимательно осматриваю окна над кафе. Заперты, что неудивительно. Видимо, тот, кто слушал радио, выключил его и ушел, закрыв окно. Логично? Более чем логично. Но неутешительно. «Оставайтесь с нами до первого воробья», а сами – хлоп! – и замолчали, эх. И кстати, ровно в тот момент, когда на мой стол сел воробей. Красивое совпадение. А все равно более чем досадное.
«Наверняка это радио есть в интернете, – думаю я, неспешно продвигаясь по проспекту Гедиминаса в сторону дома, то есть неизбежного письменного стола и укоризненно скалящейся бездны рабочих материалов. – Не может их там не быть. Даже если ребята не вещают он-лайн, что было бы очень странно, информация о них наверняка найдется. Вот сейчас приду домой и поищу. Должен же быть хоть какой-то смысл в том, что человек в здравом уме и твердой памяти собирается заточить себя в четырех стенах в столь прекрасный весенний день.
Но вместо того, чтобы подкрепить благоразумные размышления делом и ускорить шаг, я зачем-то перехожу на другую сторону проспекта. Потому что после всего, что рассказывали в дурацких новостях по невесть откуда звучавшему радио, спокойно пройти мимо гостиницы «Неринга» я не в силах. Понятно, что они там, в студии, просто развлекаются, вешают на слушательские уши свежую лапшу причудливой формы, и правильно делают, все бы так. Поэтому в индийский ресторан на Одминю или тем более к реке я сегодня не пойду, это мне не по дороге. А в гостиницу «Неринга» все-таки загляну. Чтобы не кусать потом ни в чем не повинные локти, им и так непросто со мной живется.
В холле гостиницы, чтобы избежать ненужных расспросов, достаю телефон и, выдержав паузу, громко говорю: «Я уже внизу, выходи, жду». Таким образом, девушке-администратору становится ясно, с какой стати я тут слоняюсь, и она, приветливо кивнув, снова зарывается в какие-то свои бумаги. А я могу осмотреться.
Зеркал тут, собственно, всего два. В том, что напротив лифтов, мое отражение выглядит точно так же, как в тысячах других зеркал, попадавшихся на моем жизненном пути. Если это и есть «блуждающее зеркало», непонятно, зачем его показывали на выставке в какой-то там галерее. Только потому, что оно может в любой момент удрать? Так за фокусами – в цирк.
Второе зеркало – небольшое, прямоугольное – висит у самого выхода, на стене, слева. Оно здесь совсем не к месту и высота выбрана неудачно – примерно в полутора метрах от пола. Человек среднего роста, вроде меня, может увидеть свое лицо, только пригнувшись. И я, конечно, наклоняюсь – глупо не осмотреть все, если уж я здесь.
И долго-долго рассматриваю отражение, пытаясь сообразить, что именно с ним не так. Затылок как затылок. Причем именно мой… Или все-таки нет? Поднимаю руку, чтобы почесать ухо, отражение повторяет мой жест. Теперь никаких сомнений. И в чем тогда фишка?.. Наконец вспоминаю, что обычно в нормальных зеркалах отражаются не затылки, а лица смотрящих. Господи, ну конечно. Все-таки моя рассеянность – это нечто. Когда-нибудь о ней сложат легенды, она того заслуживает.
И наконец до меня доходит – да это же Магритт[8]. Сюжет самой знаменитой из его картин. Точно. Теперь понятно, почему выставка в галерее Люси, до которой мне так и не удалось дойти в пятницу, называлась «Старые знакомые»; кураторский замысел очевиден, и, черт побери, как же жаль, что совсем нет времени бегать по городу за этими дурацкими блуждающими зеркалами, потому что после столь впечатляющей цитаты из Магритта мне, конечно, очень хочется посмотреть все остальное. Что они еще придумали?
«Ай, ладно, – говорю я себе. – Жизнь – штука весьма продолжительная, все еще успеется. В том числе выставки. А теперь – домой и за работу».
И толкаю тяжелую стеклянную дверь.
– Это были городские новости, – говорит мне вслед приятный мужской баритон. Он раздается из радиоприемника, спрятанного где-то за стойкой администратора.
– Вас приветствует радио Гедиминаса, – объявляет ведущий после короткой музыкальной отбивки. – Оставайтесь с нами до седьмого неба.
Улица Жигиманту (ygimant g.)
Сто рыб
Первую рыбу нарисовала белым мелком на стене соседнего дома. Быстро, одним росчерком, воровато оглядываясь по сторонам – никто не видит?
Зрителей, понятно, не было. И быть не могло. Ночь с воскресенья на понедельник, половина второго, самое глухое время. Но все равно чувствовала, как пылают щеки и уши – хуже, чем на экзамене.
Рыба получилась маленькая, невнятная, но изящная. Декоративная. Все-таки поставленная рука – великое дело, не пропьешь, как говорится. Даже если на жидкий офисный кое из машины годами налегать.
Отошла на несколько шагов, критически оглядела рисунок, брезгливо поморщилась: матерь божья, какая халтура. Отмахнулась – ай, ладно. Будем считать, это я разогреваюсь, как спортсмен перед забегом. Давай без перфекционизма, а? А то вообще ничего не успею. Неохотно согласилась: ладно. Без, так без.
Вторая рыба, которую, поколебавшись, нарисовала по соседству с первой, удалась на славу: большая, толстая, явно с полным брюхом икры. Достала из коробки желтый мелок, раскрасила плавники. Прошлась зеленым по спине и бокам. И хватит с нее.
Третью рыбу, уже на углу Наугардуко и Альгирдо, рисовала синим, серым и красным мелками. Дело пошло веселее. У четвертой рыбы на месте глаза неожиданно появился цветок. Пятая была похожа на сухой лист. Шестая получила в подарок модную ярко-оранжевую челку, хоть себе такую же выстригай. Йонасу Львовичу понравилось бы, он всегда любил рыженьких, и на его портретах волосы золотились даже у седых, перец с солью брюнеток. Wish You were here, дорогой учитель, ах, зачем вы не здесь.
Но кто ж его среди ночи из больницы отпустит. Да и сам при всем желании дальше коридора не уйдет. Совсем слабенький.
Двенадцатая рыба вышла совершенно уморительная – этакий бегемот с хвостом и плавниками. Тринадцатая вместо чешуи была покрыта неразборчивыми, но, несомненно, священными текстами. Четырнадцатая, надо полагать, возомнила себя Мировым Змеем и, скрутившись задорным кренделем, энергично грызла собственный хвост.
Взглянув на дело рук своих, увидела, что это хорошо, рассмеялась и свернула на Миндауго, оглядываясь в поисках очередной подходящей стены.
Даже не предполагала, что рисовать рыб окажется так весело и приятно. Думала, будет тошно, но придется потерпеть. Ради Йонаса Львовича. Я обещала.
«Потерпеть» – ха! Тоже мне, мученица выискалась. …Двадцать пятая рыба стала плавучим деревом, а двадцать шестая изумленно разглядывала крючок, на котором в качестве приманки болтался земной шар. Двадцать седьмая рыба подобными глупостями не интересовалась, зато светилась изнутри, как ночник. Поди изобрази такой эффект, имея в своем распоряжении только серую каменную стену и коробку цветных мелков. Но ведь получилось! «Вполне естественно, – сказал бы сейчас Йонас Львович, – а как, интересно, у тебя могло не получиться? Чему я тебя столько лет учил?»
Правильный ответ – всему на свете. Хотя теоретически должен был только рисунку.
Тридцать третья рыба была псиглавцем, добродушным и совершенно довольным собственной участью – судя по выражению ушастой морды и восторженно вываленному розовому языку. Тридцать четвертая носила пенсне и курила сигару. Тридцать пятая и тридцать шестая сплелись в значок «Инь-Ян», но не черно-белый, а красно-зеленый, глазастый, гладкий, мокрый, тугой.
Надо же, как вошла во вкус.
Когда заказывала билеты до Вильнюса и обратно, думала: так только говорится – «съездить домой». Специальное полезное шаманское заклинание, усмиряющее детей, друзей, коллег и прочих духов-помощников, чтобы отстали и больше не расспрашивали – куда намылилась и что ты там забыла. На самом-то деле, какой, к черту, «дом»? Мама давным-давно умерла, отец, с которым так толком и не познакомились, скорее всего, тоже; впрочем, какое мне дело. В небесно-синем деревянном флигеле на Жверинасе, где прошло детство, теперь живет совсем чужая женщина, сколько ни называй ее сестрой, близости от этого не прибавится, да и не было никогда, слишком велика разница в возрасте, двадцать без малого лет, шутка ли.
Сентиментальные люди в таких случаях обычно начинают щебетать об улицах детства – дескать, как приятно будет по ним пройтись. Но, строго говоря, улицы – это просто нагромождения чужих жилищ, запертых на хорошие, крепкие замки. И какое мне дело до домов, в которые меня никогда не пустят? Проходные дворы в Старом Городе, священные лабиринты отрочества – и те, рассказывают, теперь закрыты, все, или почти. Ну и к чему тогда пустая болтовня о каком-то «доме». Дом – это место, от которого у тебя есть ключи, если только они – не от дешевой квартиры-гостиницы, заранее забронированной по интернету. Тогда – не считается.
А вот Йонас Львович – это, конечно, совсем другое дело. Ради него стоило съездить хоть на край света. Дура, что так долго откладывала. Лучший в мире учитель, из тех, кого никогда, даже про себя не назовешь «бывшим». Человек с самым большим в мире сердцем. И для каждого из многих сотен учеников в его сердце всегда найдется не просто место, а отдельная комната. С верхним светом, конечно. Чтобы проснуться пораньше и рисовать.
Поэтому – да, на самом деле домой. К Йонасу Львовичу. Он и есть мой дом.
От таких размышлений сорок восьмая рыба стала похожа на живое плавучее сердце. А сорок девятая была составлена из множества совсем мелких рыбешек, вместе они выглядели как веселая глазастая хвостатая чешуя. Рисовала ее долго, пальцы онемели, руку под конец даже судорогой свело от усталости. Но подумаешь, великое дело – рука. Пройдет. Сама должна понимать, что не болеть – в ее интересах. Потому что боли, не боли, а поблажек не будет.
По такому случаю пятидесятая рыба получила в подарок докторскую шапочку с красным крестом. Пусть теперь всех лечит! Например, руку, ей еще полсотни рыб рисовать. И Йонаса Львовича заодно. То есть его – в первую очередь. Если вылечит, то и черт с ней, рукой. Можно потерпеть.
Ехала-то специально к Йонасу Львовичу, только к нему, но на месте вдруг оробела, да так, что несколько дней не решалась позвонить. Думала: что, ну что я ему скажу? «Дорогой Йонас Львович, вы не виноваты, что из меня ничего не вышло, вы самый лучший и всемувсему меня научили», – примерно так, да? А потом – любимая сиротская песня: «Но у меня, понимаете, двое мальчишек. Теперь-то уже здоровенные лбы, школу закончили, я им до подбородков едва достаю. А много лет назад, когда они только родились, их отец внезапно решил, что настоящий художник у нас в семье – он. И, конечно, непризнанный гений. Со всеми вытекающими последствиями. И пока последствия вытекали одно за другим, я, глупая молодая коза, крутилась, как могла. Мне даже задуматься было некогда. Сами посудите, мальчишкам надо что-то жрать. Каждый день! И где-то жить. Тоже, увы, не раз в неделю. Про «одеваться» уже не говорю, одеваться – немыслимая роскошь, и какое же счастье, что дети есть почти у всех, в том числе, у знакомых. Потому что иногда они вырастают из своей одежды раньше, чем успевают вконец ее изорвать. С игрушками и книжками то же самое, то и дело кто-нибудь что-нибудь отдает, и это очень выручает. Но с едой такой номер не проходит, с жильем – тем более. Поэтому, Йонас Львович, дорогой, какую только дрянь я не рисовала, чтобы прокормиться. Пейзажики на продажу – это еще самое пристойное. И матрешки – это еще не ад, только его преддверие. А вот о некоторых плакатах вспоминать не могу до сих пор. Надеюсь, вы их никогда не увидите. А не то мне придется застрелиться. Как человеку, еще не окончательно утратившему представления о чести. Платили за них, кстати, много лучше, в рекламе вообще большие деньги крутятся, и даже мелким халтурщикам, вроде меня, кое-что перепадает, так что дела наши с мальчиками пошли на лад, особенно после того, как «настоящий художник» оставил нас в покое. Он был очень серьезной статьей семейных расходов. И совершенно неокупаемой».
Шестьдесят первая рыба раскрашена как арбуз, шестьдесят вторая – прозрачная, и сквозь нее видно, как течет вода и плывет другая рыба, шестьдесят третья по счету. Шестьдесят четвертая рыба вспорола себе брюхо и теперь с недоумением разглядывает собственные внутренности. Она не самурай, она – естествоиспытатель. И всем нам живой пример.
В итоге, конечно, позвонила. И даже не перед самым отъездом, а за целую неделю до него. Молодец. Храбрая тетка. От-ча-ян-на-я.
Трубку взяла Лена Львовна – не сестра, а жена, такая уж они идеальная пара, что даже отчества одинаковые.
Конечно, рыжая. Маленькая золотоглазая фея-лиса, говорливая и улыбчивая, способная накормить дюжину мужниных учеников одним батоном и засохшим краешком сыра. Батон надо нарезать очень-очень тонко, а сыр потереть на мелкой терке, аккуратно присыпать им хлеб, и отправить на противне в духовку. Чем тоньше нарежешь, тем больше получится порций. Если очень постараться, каждому голодному гостю достанется целых три, а то и четыре сырных сухарика, и этого окажется достаточно, чтобы с благодарностью вспоминать тебя всю жизнь, особенно когда сыновья повадятся приводить домой оравы одноклассников, а в кладовых – шаром покати, как всегда.
«Илона, девочка, конечно, я тебя помню, – торопливо говорила Лена Львовна, – как такую забыть. И картинка твоя, где море и слон, до сих пор висит у нас в спальне. Первое, что я вижу, когда просыпаюсь. Каждое утро, уже тридцать без малого лет, а ты говоришь: «наверное не помните», – вот хороша я была бы!»
И такой же птичьей скороговоркой: «А Йонас Львович сейчас в больнице», – как гром посреди ясного неба. И после этого какое-то время в голове была звенящая тишина. И не только в голове, везде. Внутри и снаружи.
В больнице! С чего вдруг? Какая больница, зачем? Что за ерунда, с ума все сошли. Так не бывает.
«Конечно, навести, он будет рад. А радость, говорят, лечит. Хорошо бы! От лекарств, знаешь, толку немного…» – Лена Львовна говорила и говорила, но все это уже не имело значения, особенно после осторожной, круглой, гладкой, ядовитой, как пирожок со стеклянной начинкой, фразы: «не самый хороший прогноз».
Все мы тут взрослые люди и прекрасно знаем, что это означает: «не самый хороший». Хотя, конечно, предпочли бы не знать.
Жизнь, которая до сих пор казалась просто очень страшной, вдруг стала совершенно бессмысленной. Какой, ко всем чертям, смысл, если Йонас Львович в больнице? Такие как он не должны лежать в больницах с дурацкими «не очень хорошими» прогнозами. И стареть такие не должны и, тем более, умирать. Потому что это же форменный конец света, не зря, выходит, его обещают в двенадцатом году. Не будет мир стоять без Йонаса Львовича, и земля наверняка перестанет крутиться, я бы на ее месте точно перестала, потому что – а толку?
В брюхе шестьдесят девятой рыбы компас, чтобы всегда плыть строго на север, имя ей будет – Адмирал Чичагов[9]. Или, к примеру, Жаннетта[10] – если девочка. А семидесятую рыбу просто раскрасим как радугу, и довольно с нее.
Семьдесят первая рыба смотрит на рыбу-радугу, подетски распахнув рот. Она, похоже, счастлива. И скоро найдет клад[11].
Думала: ни за что не пойду в больницу. Не могу, не хочу. Вот увижу его там – больного, дряхлого, в палате, на койке, в капельницах каких-нибудь жутких, и тогда – вообще все! Что именно «вообще все» – не могла, конечно, сформулировать, даже для себя. Но была натурально в панике.
Думала: учителя не должны умирать. Когда умирают родители, это очень больно, но как-то… понятно. И предсказуемо. Мы с детства знаем, что родители когда-нибудь умрут. И худо-бедно уживаемся с этим знанием, а когда страшное наконец случается, выясняется, что мы к этому вполне готовы – насколько вообще возможно быть готовым к смерти, которая после ухода старших становится ближе. Настолько ближе, что иногда удается пихнуть ее локтем в бок. Оттолкнуть.
Но поди подготовься к смерти человека, который только притворялся, будто учит тебя рисунку. А на самом деле учил бессмертию. На его уроках нам всем, каждому в свой срок, вдруг становилось понятно: пока рисуешь, ты бессмертен. Бессмертен, господи боже, быть бессмертным – это, оказывается, вот так.
И даже если потом это ощущение пропадет навсегда, можно сказать себе: это только со мной случилась беда. Это я – дура, все прохлопала, профукала, упустила. Но это вовсе не значит, будто со всем миром произошла катастрофа, и теперь бессмертия нет вовсе – ни в каком виде, ни для кого. Оно есть. И этого достаточно – не для счастья, конечно. Но для того, чтобы жить дальше, достаточно. Вполне.
Думала: что я буду делать теперь, когда увижу учителя слабым, больным, бормочущим невнятное? Когда увижу его – давай называть вещи своими именами – умирающим. И как стану жить потом, когда он умрет? Смертной тварью, хлопочущей лишь о прокорме, среди других смертных тварей, озабоченных тем же? В мире, лишенном смысла? Без веры, которой никогда не было, без надежды, которая была всегда? И что я скажу детям, которых сдуру привела в этот глупый, тошный, нелепо устроенный мир?
Разбирайтесь с этим сами, мальчики, я – пас? А что еще скажешь.
Семьдесят шестая рыба – зеркало. В ее выпуклом боку отражается лицо ошалевшей от собственной удали художницы. Ай, хороша ты сейчас, мать. Ей-богу, хороша.
Но не навестить Йонаса Львовича в больнице было еще более невозможно, чем навестить. Пошла, конечно. Куда деваться.
Все было примерно так, как представляла, заранее содрогаясь: душная палата, тяжкий запах, больничная койка с подъемником, паутина капельниц, почти прозрачные старческие руки учителя с желтыми ногтями и лазурными клубками вен.
Так, да не так.
Сам Йонас Львович не был похож на обычного умирающего старика. Наоборот. Теперь, когда тело его пришло в негодность, неукротимый дух, прежде проявлявшийся лишь во взглядах и жестах, окончательно вырвался наружу и бесцеремонно заполнил все пространство. И правильно, чего стесняться.
Приподнялся на локте, улыбнулся, сказал: «Тааак. Вернулась домой. Молодец».
И сразу стало ясно, что можно ничего не говорить. В смысле, не рассказывать, как глупо и бессмысленно жила все эти годы, как ежедневно отщипывала от себя по кусочку, в надежде, что не убудет, как разменивала драгоценный дар на мелкие монеты, покупала жизнь для себя и детей, как однажды, почти десять лет назад, обнаружила, что больше ничего не осталось, и с тех пор не прикасалась не то что к кистям – к карандашу. Даже для заработка. В гробу мы видали такой заработок. Освоенный между прочими делами компьютер и хорошо подвешенный язык (целых четыре отлично подвешенных языка) кого угодно прокормят. И, слава богу, больше никаких картинок, никогда, ни за какие коврижки. Потому что – невыносимо. Жалкое подобие упущенного счастья, тошнотворная жизнь после смерти, беспомощное вранье.
Поди расскажи такое учителю, который считал тебя лучшей из своих учеников, чуть ли не главным оправданием собственной педагогической деятельности. Вслух, конечно, ничего подобного не говорил. Но думал порой так громко, что не захочешь, а все равно поймешь. Не отвертишься от ответственности.
И вдруг оказалось, можно ничего не рассказывать. Не объяснять, почему так вышло. Йонас Львович сам все прекрасно знает. И считает, что это не имеет никакого значения.
И ему, что удивительно, видней.
…Отмахнулся от расспросов о врачах – что говорят, когда выпишут? – и далее по традиционному списку. «Ай, детка, что нам до их разговоров?» Не давая перевести дух, выпалил: «Есть одно дело, из-за этой дурацкой больницы не успел, и теперь ты мне поможешь. Только ты, никто кроме тебя, ты – лучшая. Нет, не «была», есть, глаголов прошедшего времени я не признаю. Как же ты вовремя вернулась, молодец».
Восемьдесят четвертая рыба изрыгает огонь. Главное – не прикасаться к стене в том месте, где пляшут языки пламени, можно обжечься, даже рядом стоять жарко, правда-правда. Почему сразу – сошла с ума? Может, и сошла, но стена все равно горячая, одно другому не мешает. Хорошо, что дом на углу Ягайлос и Гедимино каменный, прочный, такой от нескольких искр не загорится, ни одна витрина магазина «Маркс и Спенсер» не лопнет от нашего с рыбой огня, любители шотландских бисквитов и овсяного печенья могут спать спокойно, восемьдесят пятая рыба почтительно снимает каску пожарника и передает им привет, а мне пора дальше. Скоро начнет светать.
Сказал: «Нарисуй сто рыб. Для меня. То есть вместо меня. Мне – нарисуй».
Совершенно огорошил.
Рассказывал вдохновенно и потому путано: «Ровно сто рыб, девочка, не больше и не меньше. Надо их нарисовать, чем скорее, тем лучше. В городе, на стенах домов и заборах, да где угодно, но разом, за один день, а лучше – за одну ночь, чтобы никто не помешал. Ты же знаешь, что разрисовывать стены запрещено? И это в общем правильно. Вонючей краской из баллонов – точно не надо. Но мелом-то, уверен, можно, какой от него вред.
Как – зачем? Я уже говорил тебе, совсем недавно, четверти века с тех пор не прошло: для художника существует только один ответ на вопрос «зачем?» – «чтобы было». И если он тебя не устраивает, прощайся с жизнью. С настоящей жизнью, я имею в виду. Довольствуйся малым».
Отчитал за непонятливость и тут же, как ни в чем не бывало, принялся объяснять по-человечески. Вредный. Всегда такой был.
«Искусство началось, когда закончилась магия. Я это наверняка сто раз уже говорил – тебе и всем остальным. Ide fixe всей моей жизни. Прежде рисовали только шаманы, и каждый рисунок был действием, исполненным силы и совершенно конкретного смысла. Нарисованный олень, пронзенный нарисованной стрелой, сулил скорую гибель живому зверю и обильную пищу всем заинтересованным лицам. Нарисованный дух-помощник внимательно выслушивал просьбы и начинал чесать репу, прикидывая, как их исполнить. Нарисованный путь в Нижний Мир после нескольких ударов бубна становился широкой тропой, протоптанной ногами сотен предшественников. Нам давным-давно пора возвращаться обратно, девочка. Домой. Я имею в виду, к истокам. Нас там ждут. Рисунок должен снова стать магическим действием, и если это случится не при моей жизни, буду сам виноват старый дурак, слишком долго тянул, думал, готовился. А чего тут думать? Какая разница, с чего начинать? Вот сейчас, как только ты вошла, я понял: да хоть с рыб. Нарисуем сто рыб мелом на улицах города. То есть ты нарисуешь. Для меня. Решено?»
Спросила: «Но какой прок будет от рыб? Сами говорите – пронзенный стрелой олень, духи-помощники. Ясно, для чего они были нужны. У каждого своя задача. А рыбы? Мы с вами не рыбаки, уловом не кормимся. Если я нарисую сто рыб, что случится с нами? Что они сделают для нас?»
«Вот и узнаем заодно. Лично я понятия не имею. Но хоть что-нибудь непременно случится, верь мне. Например, пойдет дождь».
Невольно улыбнулась: «Дождь-то пойдет в любом случае. Здесь у нас летом льет через день. А то и чаще».