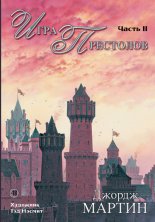Знак Каина Акунин Борис
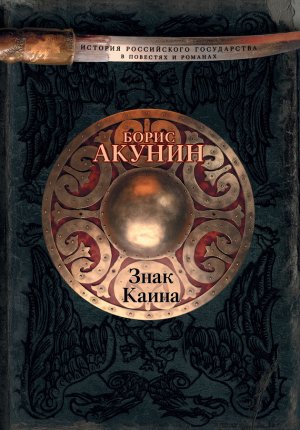
– Говорите, кто что думает.
– Эх, – вздыхает Аникита Одоевский. – Отработать бы Магнуса, свинью датскую, за трусость и непокорство, да как его на том Еселе возьмешь? Это корабли нужны, а у нас нету.
Аникита любит встрять первым, а полезное предлагает редко. Больше передо мной красуется, все угадывает, как лучше понравиться. Держу его за имя – чтоб не говорили, будто мои опричные сплошь сорняки худородные.
Иное дело – окольничий Андрюшка Луговской. Этот тихогласен, но лишнего не болтает. Говорит:
– За измену твоему служению Магнус, конечно, подлежит смерти. А корабли для того не надобны. Вели, государь, послать на Есель нужного человечка. У меня такой есть, есть и верное зелье. А то, прикажи, сам съезжу.
Луговской – дока в отравных делах. Прошлый год был в Литве и подсыпал яда перебежчику Юшке князь-Щербатову, и тот Юшка в великих корчах издох, за что Луговской и пожалован в окольничьи.
Я поворачиваюсь к думским спиной, чтоб не отвлекаться их пытливыми взглядами. В голове знакомое легкое щекотание, какое всегда бывает перед наитием. Раньше оно нисходило на меня часто, ныне редко, но все же не покидает меня, спасает в тяжкую минуту. Наитию помогает молитва, духовное просветление. И без вдохновенного этого наития государем быть не можно.
– Зачем мне Магнуса травить? – размышляю я вслух. – Он сбежал не от измены, а потому что страшится моего гнева. И податься ему от нас некуда. Свеи, поляки, немцы Магнуса зовут собачонкой кровавого московского Ирода. Кому он в Европе нужен? Никому. А мне он нужен. Живой и послушный… Сделаем вот как. Напишите от меня грамотку, ласковую. Что не виню его в поражении. Это-де сам я виноват, что дал ему мало войска и что я впредь то исправлю. А еще отправьте Магнусу тысячу рублей – да не серебром, а золотом. И передайте: вернется – получит еще. Никуда он от нас не денется. Приплывет обратно.
– Мудро! – басит за спиной Малюта. – Пусть возвращается, а там видно будет, что с ним делать. Оно и дешевле выйдет, чем корабли снаряжать.
Лукьяныч не льстив, потому его хвала мне приятна.
Поворачиваюсь, упершись руками в бока: более не смиренный игумен, а всея Руси великий государь, кем прочна держава.
Вдруг вижу: Малюта смотрит мне не в глаза, а выше. Что такое?
Хмурюсь.
– Ты почему взгляд отводишь? Или скрываешь что?
Он вместо ответа манит комнатного отрока, кто оправляет свечи. Что-то шепчет – слуга опрометью кидается прочь.
Я вскипаю:
– Ты что о себе возомнил, собака?! Как смеешь при мне тайничать?!
– Сейчас увидишь, – отвечает Малюта.
А отрок уже вбегает обратно. В руке у него зеркало.
– Погляди на себя, государь.
Беру зеркало за серебряную ручку. Смотрю.
Господь всеблагий!
На лбу, точно посередине, краснеет круглый кровоподтек, будто кто поставил мне на чело печать. Синяки от молений бывали и раньше, но такого ровного, густого, с будто нарисованными краями не случалось никогда.
Сердце мое трепещет от священного восторга.
Вот он, знак, о коем я столь истово просил!
Я отмечен Господом! Я понят Им! Я прощен!
По лицу текут слезы. Через их пелену зала кажется радужной.
О сладчайший миг! О великое облегчение!
Все грехи мои сняты! На мне Божье благословение, и явлено оно так, чтобы все увидели и склонились.
– Зрите! – провозглашаю я. – Се от Господа Бога Саваофа печать! Служите мне верно, держитесь руки моей, и все спасетесь!
Думские низко кланяются. Первым разгибается Малюта.
– Опять молиться пойдем? – вздыхает он. – Спать охота.
– Иди, спи, дуболом. Ты мне сегодня больше не надобен, – усмехаюсь я. Мне приходит в голову отрадная мысль. – А что Корнилий Пещерник? Не помер еще?
– Помер – сказали бы. Никак ты придумал, какой его казнью казнить? Пора бы. Месяц уже сидит.
Я поглаживаю свое отмеченное благодатью чело, улыбаюсь.
О жестоковыйном Корнилии
Тем же вопросом встречает меня и Корнилий:
– Придумал уже, Каин, как будешь меня казнить?
Он сидит в темнице для самых бережных узников, которые не должны помереть сами от холода или сырости. В темнице тепло и сухо, даже есть малое оконце, через которое идет воздух, а днем льется свет.
Корнилий костляв, седобрад и седобров, в латаной черной рясе и выцветшей скуфье. Вставать и не думает. Сам грязен, согбен, вшив, сидит меж злопахучих луж и нечистот, а смотрит на царя презрительно, словно на мокрицу. В прежние разы меня от этого взгляда кидало в ярость, а ныне я спокоен и победителен. Стою, опершись на посох, златое шитье на висящих рассечных рукавах сверкает в свете факелов. Лоб у меня закрыт бархатной тафьей, надвинутой по брови.
Отвечаю с усмешкой:
– Да вот, поспорил с Григорий Лукьянычем, как тебя до самой души пронять. Он говорит: надо связать Пещерника и посадить по шею в кувшин с голодными мышами, чтоб они его живого грызли, а мы бы заходили да слушали, как Пещерник орать станет. Это, говорит, турки так с мятежными греками делают, и иные по три, по четыре дня в мышином кувшине сидят, пока не испустят духа, ибо у мыши зуб мелкий, до становой жилы не прокусывает.
Действительно, Малюта давеча такое предлагал, и я внимательно слежу за лицом Корнилия – не пробежит ли тень страха.
Нет, не пробежала. Одно жестоковыйное презрение.
– Хорошая казнь, коли ею турки мучают православных, – бестрепетно отвечает. – А ты, изверг, безбожных турок не лучше. Трави меня мышами. Я смертию праведных умру с умилением.
– Вот и я Лукьянычу толкую, что мукой телесной тебя не проймешь. – Подпускаю в голос доверительности, будто закадычничаю с дорогим другом. – Ты силен верой в свою праведность и безгреховную чистоту. Потому я придумал для тебя вот что… – Немного медлю, чтобы он замер, – но Корнилию все нипочем, только щерится. – Надо тебя загрешить. Сломаю тебя не лютой напастью, а грязной страстью. Велел я послать в Москву за беспутными девками. Они тебя, прикованного, догола разденут и станут ласкаться, плоть твою распалять. Плоть – она на ласки слабая, ей так от природы положено. Согрешишь, никуда не денешься, святой праведник. Нарушишь обет целомудренный. А я погляжу, как у тебя плоть над духом возликует.
Ну-ка, напугается иль нет?
Не напугался, но разозлился.
– Мое тело, сосуд бренный, в твоей власти! Грязни его чем вздумаешь – хоть кровью, хоть скверной, а души моей ты не достанешь! Ее ты ничем не загрязнишь, руки у тебя коротки! Тьфу на тебя, кал ты смрадный! И сколь в злато ни наряжайся, калом только и пребудешь!
И схватил с полу рукой кало, и кинул в меня, да не попал – немощен.
Есть особый род бесстрашных, самый редкий: это когда человек мне враг и того не скрывает. Да хулит меня не из безопасного далека, бумажными бранями, как изменник Андрейка Курбский, а в лицо. Бывает, что и прямо с дыбы, а иные уже и сидя на колу.
Редко, но встречаются такие, бесово приплодье. От Дьявола в них бесстрашие, от кого ж еще? Изводишь их, изводишь, но вместо прежних появляются новые.
Про Корнилия этого, пещерного отшельника, люди донесли, что бранит меня подлыми словами, обзывает братоубийцей Каином и сатанинской отрыжкою. А богомольцы схимника чтут, слушают и многие соблазняются.
Получив донос, поехали мои метельщики, вынули старца из его пещеры, доставили в Слободу для расспроса. А он отпираться и не подумал. И дьякам, и писцам стал меня так люто бесчестить, что они уши позатыкали.
Малюта мне сказал: в Пытошный приказ ругателя привезли. Поди, послушай, как он тебя лает. Ты такое любишь.
Чего только с Корнилием не делали, но крепко в Пещернике бес засел, ничем рогатого не изгонишь.
Некое время назад я приказал упрямца более ни огнем, ни железом не испытывать. А вдруг в нем не черт сидит, а наоборот? Околеет Корнилий в своей непреклонности да вознесется к престолу Божию и будет там на меня архангелам наговаривать. На что мне оно надо? И так я перед Господом великий грешник.
Я хожу к Корнилию, слушаю его поношения, терплю его уязвления не только оттого, что никак не придумаю, как согнуть сию жесткую выю. Во всей моей земле нет больше никого, кто держался бы со мною свысока, словно я не цесарь и великий князь, а червь земной и Пещерник взирает на меня из-под небес, брезгуя раздавить каблуком. Этот взор несносен, но и притягателен. Иногда мне кажется, что исчезни Пещерник, и я останусь на свете один-одинешенек. Чувство странное, самому мне непонятное, но только из-за него строптивец доселе и жив. Кто тогда поговорит со мной без оглядки и трепета? Разве что Малюта, но какой из него собеседник?
– Пошутил я про блудных девок, отче, – говорю, убрав усмешку. – У меня тут не похабный дом, а святая обитель. Пришел же я ныне спросить твою мудрость вот о чем.
Тон мой смиренен, а душа ликует. Есть у меня сегодня, чем поколебать Корнилиеву веру в его праведность и мою криведность.
– По-твоему, я Каин, Ирод, Навуходоносор, Валтасар, сосуд мерзостный, лютый душегуб и прочая, и прочая. Коли так, отчего же Господь Отец Небесный помазал меня, злодея, править над Русью, излюбленной своей землей, в которой единственной Его право славят, где Ему право молятся? Думал ты об этом? Может быть, ты себя мудрее Господа мыслишь, если сам решаешь, достоин я быть государем или нет?
Вопрос Корнилия не смущает, да я и не ждал, что старец смутится. Тому еще рано.
– Думал я об этом, Иване, много думал. Мне земным моим умишком Божьей мудрости не объять, однако же отвечу тебе так. Господь поставил над самой любимой своей державой худшего изверга, потому что Он кого больше любит, того суровее испытывает, того заботливее готовит к будущему блаженству.
– Как это?
– А так. Люди русские от тебя терпят многие муки и казни, голод и разорение, но так оно на печальной сей земле и должно быть. Это Диавол-Сатана льстит нас жизненными негами, покоем и мирными кровами – чтобы человеки цеплялись за бренный мир и страшились смерти. Вот мне рассказывали – уж не знаю, правда иль нет, – будто есть во фряжской земле чудный град Ференца, весь каменный, изукрашенный лепыми дворцами и зелеными садами, игристыми водами и многими красотами. Бедных там будто бы мало, и все сыты, и никакие тираны над ними не тиранствуют, а правят ими добросердечные правители по письменному закону. Тот, кто мне сие рассказывал, лил умилительные слезы и сокрушался, что у нас на Руси не так. Плакал тогда и я с ним. А потом устыдился, ибо понял: радость не в земном довольстве, а в небесном блаженстве. Для того ты, Каин, и понадобился Господу, чтобы оборачивать русских людей от сей бренной жизни к Иному Миру. Чтоб православные пеклись не о плоти, а о души спасении.
Еще и затем я навещаю Корнилия, что устами сего сквернавца иногда глаголет истина. Ах, хорошо он сказал! Истинно так: я – орудие воли Господней, и даже худшие мои неистовства, за которые я потом горько каюсь, державе моей не во зло, а во благо. Буду говорить о том в Москве на церковном соборе, дабы иерархи и пастыри донесли эту правду до всех углов Руси.
С одним только согласиться я не могу.
– Бог – Царь небесный, а я – царь земной. Как же ты, высокоумный, не уразумеешь, что, может, и я своих людей не от злобы, а от великой к ним любви испытываю? – корю я Пещерника. – Я над своим стадом пастырь, я – отец над чадами. Моею рукой водит Бог, но я не слепое орудие, а следую зову своего сострадательного сердца. Проливая кровь, лью я и слезы. Огрязняя руки православной кровью, ею же я очищаю ваши души! И Господь то видит! – У меня проливаются слезы, голос мой дрожит. – Было мне сегодня на ночном молебне явственное от Бога знамение. Вот, гляди! Эй, светите ярче! – С двух сторон подступают факельщики, а я сдвигаю тафью, обнажив чело, и показываю перстом: – Господь отметил меня ровнокруглым алым знаком, поставил Свою печать! Зри и трепещи, мнимосвятый богохульник!
Ага, затрепетал! Вжался в стену! То-то!
– Не тебе, букашке, не вам, смертным человекам, меня судить! Я один такой! Я Богом отмечен!
– Да, ты один такой меж человеков. Как Каин. Истинно се чудо Господне. Се – знак на Каине, яко и в Библии сказано! – Тощая рука Пещерника отмахивает кресты. – Отмечен ты, но не благодатью, а Каиновой печатью! День-то ныне какой – помнишь?
– Какой? Шестое октября.
– То-то, что шестое! Два года, как ты, Каин, сгубил своего брата Авеля – блаженного князя Владимира Андреевича. Проклят ты, Иване! Навечно проклят! Оттого и жены твои чахнут, оттого и потомства тебе не будет…
– Врешь! – кричу я. – Два сына у меня!
– Из прежней, докаиновой твоей жизни! Но быть их семени бесплодну! Засохнет твой род, яко изгнившая смоковница! Не будет тебе внуков ни от старшего сына, ни от младшего! И новых сыновей у тебя не будет – если только не сыщешь себе такую же, как ты сам, окаянную Каиницу, чтоб нарожала тебе каинят, как змея змеенышей. Каин ты, Каин меченый! Тьфу на тебя! Изыди!
Сдерживаюсь. Отвечаю на лай величественно, уместно царскому званию:
– Если сия печать – «знак на Каине», то помни, пастырь заблудший, что сказал Господь о Каиновом знамении: «Еже не убити его всякому обретающему его!» Ничем враги мои меня не изведут.
Выхожу из темницы степенно, но внутренне весь дрожу, потрясенный.
А ведь верно! Шестого октября, два года назад, Малюта по моему велению показал Владимиру Старицкому, моему двоюроду, кубок с ядом и булатный кинжал: «Выбирай свою смерть». Это мы с Малютой тоже тогда поспорили – что выберет. И опять я угадал, что Владимир, хилая душа, побоится крови. Поплакал он, да и выпил, подох в корчах – смертью горшей, нежели от клинка.
Неужто прав Пещерник, Господи? Неужто Ты за многие мои вины отметил меня печатью Каина?
А и поделом! Я Каин и есть, нечистый, скверный и злобесный душегубец!
Иду по темному тюремному переходу и горько плачу. Голова моя опущена, стопы тяжелы, плоть студениста, словно некто вынул из меня хребет.
Это часто бывает: когда с высот ликования и самоверия я вдруг сверзаюсь в бездну отчаяния и самоненависти, как наигорший грешник, низвергнутый в Геенну.
Однако есть у меня на такую напасть верное лекарство. Оно здесь же, близко, в полусотне шагов.
Сейчас полечусь, сейчас!
О худших меня извергах
Пытошный дьяк, великий знатец расспросного дела, смущен. Семенит рядом, оправдывается:
– Батюшко-государь, я через змея этого Корнилия сон потерял. Все ломаю голову, как бы его, сучьего сына, пред твоей волей склонить. От бессонницы и удумал: что если ему спать не давать? Приставить человека – и как начнет задремывать, тот бы ему чугунной сковородкой по башке. Без сна дух слабеет, мысль цепенеет. Недельку Корнилий помается – шелковый станет. А?
Не слушаю, подзываю дьяка Разбойной избы, который пока держится сзади, средь свиты.
– Эй, Бастрюка!
Подбегает, отпихнув пытошного локтем.
– Я, государь!
Спрашиваю, утерев слезы:
– Изверги есть?
– Тех-то, прежних, как было велено, всех отработали. Однако доставлены новые. Ты их еще не видел.
Я – нетерпеливо:
– И каковы они? Довольно ли мерзки? Сколько их?
С тех пор как я придумал лекарство от тягчайшего из уныний, по всем краям разослан указ: самолютых извергов, какие где только сыщутся, впредь на месте смертию не казнить, а везти сюда, в Слободу. Здесь разбойный дьяк их принимает, и которые окажутся мерзостью недостаточны, сразу вешает, самых же содрогательных помещает в особые клети для государевой надобности.
Когда я падаю духом и устрашаюсь, не сквернейший ли я из злодеев, прихожу посмотреть на извергов – и вижу, что есть худшие меня. Тогда немного отпускает, становится полегче.
– Ныне извергов трое, все свежие. – От усердия Бастрюка аж запинается. – Вчера из Москвы привезли уловленного кровавого любострастника. Ныне утром с рязанским обозом доставили христохульницу. А недавно, перед самым закатом, из Кимр прибыла девка, великая двоеубийца, которая…
Перебиваю его:
– На месте обскажешь подробно, про каждого. Веди сначала к любострастнику.
В тесной каморе сидит на корточках съеженный человек, затравленно озирается, мигает единственным глазом. Вместо другого – запекшаяся багровая корка. Волоса странные – будто потраченные лишаем. То свисают клоками, а то проплешины, и тоже багровые.
Я хмурюсь:
– Как посмели без меня расспрашивать?
– Такого привезли, – объясняет дьяк. – Когда поймали, толпа начала колотить, волосья рвать, чуть не разодрали. Еле стража отбила.
– Ну-ка, зачти, что прислано. Да начало пропусти, где величания и прочее. Про злодейства чти.
Он разворачивает свиток.
– «…Мая месяца третьего числа на пустыре за Поганой Лужей в бурьянах сыскан труп малый, детский, женского пола. Потроха вырезаны, нос-уши отгрызены, а про остальное и писать срамно. Вкруг лихого места ради очищения от бесовской злобы хожено с крестами и кадилами.
Июня двадцатого у Щипка в яме сыскан другой труп, купеческой дочки Марьяны Филимоновой, а лет той Марьяне семь с половиной. Была она тож выпотрошена, зубами погрызана, опоганена. Служили молебен и ходили крестным ходом.
Августа в четырнадцатый день из реки из Яузы близ Кривой Мельни рыбацкие люди вытащили мертвую отроковицу, в коей признана дьячкова дочь Марфа Дьячкова одиннадцати лет, а признали ее по тельному крестику, как у той Марфы лицо все откушено, и срамные части тож.
По Москве пошел слух, что бродит под заборами оборотень, полумужик-полуволк, грызет малых девок, и многие велели детям со двора не ходить. Служили службы по всем приходам, от оборотня во избавление.
А сентября осьмнадцатого дня мужики-плотники, идучи полем через Остоженку в лавку попить квасу, услыхали в кустах рык и чавк, подумали – не собаки ли, да пошли посмотреть забавы ради, и увидели там посадского, а под ним дите, женского полу, а он ту девчонку поганит, а сам ей зубами ухо грызет. И оторвали его, схвативши, а девчонка уже мертвая. И зашумели криком, и прибежали на крик люди, и поняли, что это он и есть, волк-оборотень, и стали его убивать и мало не убили.
А на первом расспросе посадский сказался Никифором Мясорезом с Мясницкого ряда на Арбате и повинился, что волчьим тем погрызом сгрыз до десяти малых девчонок, да иных кидал в колодцы и их не сыскали. А зачем то поганство делает, Мясорез объяснить не сумел…»
Я смотрю на Мясореза, он же глядит только на дьяка, кажется, считая его здесь главным. Машу рукой, чтобы посветили. От факелов изверг сжимается еще больше, его блестящий глаз бегает зраком, из проваленного рта (ишь, и зубы вышиблены) вырывается жалобный хлип.
Посмотри на него, Господи. Какие страсти творил! Много гадостнее и мерзостнее меня. Где мне до такого?
– Зачем же ты, Никифор, невинных деток терзал и истреблял? – спрашиваю.
Он весь подается в мою сторону, привлеченный мягким голосом. Должно быть, с ним давно никто ласково не разговаривал.
Дьяк замахивается плеткой:
– Отвечай, когда царь спрашивает!
– Не жнаю… – лепечет изверг беззубо. – Так-то живу, как живу, и вдруг беш вшеляется… Как шядет на шею, начнет в ухо шептать да погонять, не могу ему перечить. Иду, куда жовет. Делаю, что говорит… Может, и не я это вовше…
Что ж, бес и меня искушает. Иной раз впадаю и я в беспамятное неистовство. Но никогда, даже в кромешнейшей ярости, не доходил я до столь адовых гнусей. И девчонки малые, овечки безвинные, во мне никогда блудного огня не распаляли.
Взгляни на сего выродка, Господи. Что по сравнению с ним Каин? Этот хуже Каина и хуже меня! Прости же мне, недостойному рабу Твоему, мои грехи, как и я сейчас прощу наипакостнейшего из рабов моих.
– Ступай себе с Богом, Никифор Мясорез. Прощаю тебя ради Христа. Помолюсь, чтобы бес из тебя отселился. Встань, брат мой во несчастье.
Ошалевший изверг хлопает глазом, не встает. Его подхватывают, поднимают, и я лобызаю худшего из моих подданных в распухшие уста.
Зри, Господи! Если уж я, царь жестокий, милую претяжко виновного, неужто Ты, всемилостивый, не умилишься искренним моим раскаянием?
Трогаю печать на лбу, загадываю: когда сей знак сойдет, тогда Бог меня и простит. А до той поры стану жить на воде и сухой корке, носить власяницу с веригами и всечасно молиться, даже и ночью. А еще пошлю на заупокой Владимира Старицкого сто, нет двести рублей. И в Троицу пошлю, и в Кириллов.
На душе уже не так черно, но все равно маятно.
– Веди дальше, – говорю дьяку. – Кто там у тебя еще?
…Заходим в другую клеть, такую же.
Там, посередке, сидит баба, качается из стороны в сторону.
– Се христохульница, – объясняет дьяк, заглядывая в другую грамотку. – Рязанский наместник пишет: прасолова женка Маланья, потерявши в мор мужа и четверых детей, впала в души исступление. Закрыв глаза младшему сыну, последнему из всех, сорвала со стены икону Спасителя, и резала Христов Лик ножом, и топтала ногами, и бранила Господа страшными, неповторимыми хулами, и делала то при многих свидетелях.
Я крещусь: вот уж злодейство так злодейство!
Подхожу, беру бабу за подбородок, поднимаю лицо, чтобы заглянуть в глаза. Каков взор у той, что посмела поднять руку на Спасителя?
А нет никакого взора. Глаза недвижные, смотрят сквозь. Се душа уже погибшая, угасшая.
– Хотел бы я тебя помиловать, Малаша, но не могу, – говорю я сочувственно, ибо слезное сокрушение уместно и над непростимым грешником. – Кабы ты меня хулила и обидела – простил бы. Но за обиду Сына Божия – не могу. Рабы Иродовы секли Его пречистое тело плетьми, а иные надевали на Его чело венец терновый, а третьи прибивали гвоздями и пронзали копьем. Неужто ж мало тебе Христовых мук, что стала ты Его лик пресветлый ножом кромсать?
Реку и плачу – так жалко мне Сына Господня.
А баба не слышит, не смотрит. Сидит, раскачивается.
– Все что могу для тебя сделать, великая ты грешница, наказать тебя тою же мерою. Может, за то уменьшат тебе кару в загробной жизни. Ибо земная кара временная и преходящая, загробная же казнь вечная. Из жалости тебя приговариваю. И помолюсь о тебе.
Дальше говорю уже не ей, а дьяку:
– Дать сорок ударов кнутом, как Христа секли. И гляди – чтоб со спины всю кожу начисто снять. На голове затяните венок с колючим терном…
Задумываюсь: где же терн взять?
Но пытошный, догадавшись, высовывается из-за спин:
– У меня, государь, проволока есть немецкая, недавно привезли. Ее можно колючками накрутить. Чем не терн?
– Ладно, пускай проволока. Потом возьмите христохульницу и приколотите гвоздями – но не стоймя и не к кресту, упаси Господи, не возвышенно – а плашмя, к деревянному настилу. Лицо ей покромсайте ножом, как и она резала. И оставьте. Пусть лежит так, пока ее душа не умирится.
Баба – будто не про нее говорено. Как сидела, так и сидит.
– Поглядишь, государь? – спрашивает пытошный. – Мы быстро, только проволоку накрутить.
– Сами работайте. Не хочу сегодня на грешное смотреть.
Томно мне, грустно. Каких только тварей не носит земля! Образ Христов – да ножом?! Воистину последние времена близятся. Недолго уже осталось.
Выхожу понурый.
– Кто там у тебя еще?
– Девка, сотворившая великое двоеубийство.
– Это еще что за птица?
О великом двоеубийстве
– Редкая птица, государь. Великих убийств, как ты ведаешь, в законе два: кто убьет родного отца или кто убьет монаха либо рукоположенного пастыря. Эта же, именем Ирина, прозванием Блочница, убила и родителя, и священника. Потому она – великая двоеубийца, и кимрянский волостель, согласно указу о сугубых извергах, прислал ее на твой Государев суд.
– Не в себе была, как те двое? Бес вселился? Кого она сначала убила – отца или попа?
– Ее родной отец и был поп, ибо она родом поповна. Про беса же не ведаю, еще не расспрашивали.
Я вздыхаю. Увы мне!
На этой преступнице тоже не явить всепрощения. За отцеубийство еще можно бы, но за священника – никак. Попы и монахи – они не только мои, но и Боговы. Аз, грешный, многих из духовенства живота лишил и тем я девки-кимрянки не лучше. А все ж отца родного, да пребудет его душа в вечной благости, я не убивал. На Руси это злодейство почти и не слыханное. За всю жизнь одного только отцеубийцу я и видывал – Федьку Басманова, но и тот на ужасное дело пошел от ужасного же страха.
Девка Ирина грешнее меня, это отрадно. Нельзя помиловать – хоть посмотрю на такую. А и любопытно, как она решилась кровного родителя, священную особу, смертию убить? Если по случайности, без умысла – плохо.
– Ну показывай.
Темница такая же, как две соседние, только без смрада. Преступницу всего несколько часов как привезли, не успела нагадить.
Сначала мне кажется, что в каморе пусто. Потом, вглядевшись, вижу: лежит кто-то на полу, лицом к стене. Засовы лязгнули – не повернулась.
Одета чудно: из-под задравшегося подола серой рясы – штаны, как у татарок, и лубяные сапоги, я таких прежде не видывал. Волосы стрижены – не по-девичьи, а по-юношески. Тоже странно.
Разбойный на девку:
– Встань, паскудина! К тебе царь!
А она, не повернувшись:
– Хоть псарь.
Удерживаю рванувшегося дьяка за рукав. Подхожу. Говорю чувствительно, неспешно, чтобы вникла:
– Ты какой казни желаешь? За отцеубийство кладут живьем в гроб и в землю закапывают. За убийство попа – на костре жгут. Сама решай. Только в этой милости я и властен.
Интересно: что выберет? Я бы лучше огонь выбрал, чем в подземной тьме, в тесной домовине задохнуться.
Девка в ответ скучливо:
– Все равно мне, дядя. Под землей, я чай, не страшней, чем на земле. А и сгореть тож неплохо. Улечу с дымом в небо, от вас, обрыдлых. Живите тут без меня, копошитесь.
Ишь ты. Везет мне сегодня на бесстрашных. Сначала Малюта, потом Корнилий, теперь эта.
– Посветите-ка!
Теперь вижу, что у девки Ирины руки связаны за спиной.
– Дерется, кошка бешеная, – поясняет дьяк. – Тюремщику перстом в глаз ткнула. Кровищи было! Не окривел бы.
– Подымите ее. Погляжу. А и ты, Ирина Белочница, посмотри на царя православного.
Поставленная на ноги, великая двоеубийца почти с меня ростом – высокая. Волосы спереди такой же длины, что сзади. Пали на лицо, и, как у Мясореза, виден только один глаз. В нем никакого страха, лишь удивление.
– Ты правда царь? Это за тебя по всем церквам и монастырям молитвы чтут? Заради тебя, облезлого, всех людей терзают?
Лицо у злодейки чистое, юное, однако без девичьей нежности – обветренное. Бровь густая, с изгибом. Рот твердый.
Я ей кротко:
– Так уж Бог судил – меня над людьми вознести, хотя я, может, всех вас грешней. Да что про меня толковать? Про себя расскаи, поповская дочь. Послушаю – решу, как с тобою быть. Может, не казнить, а отправить в монастырь на покаяние?
Нарочно солгал – посмотреть, не блеснет ли надежда. Где надежда, там и страх.
И верно, блеснуло что-то. Глаз чуть сощурился, в меня вглядываясь.
Ну гляди на меня, Ирина, гляди. Я твоя судьба, я твоя смерть. А сколь лютая – от тебя зависит.
Заговорит иль нет?
Молчит. А послушать про двойное великое убийство хочется.
Чтобы человека разговорить, есть два способа: либо сильно напугать, либо подойти издали, начать с чего-нибудь невинного.
– Из каких ты людей? Давно ль ваш род во священстве?
Сам загадал: она не из смердов и не из исконно духовного сословия, а из посадских, или торговых, еще верней – из захудавших детей боярских. Ибо род человеческий – ствол древесный, а люди на нем плоды, и не дано на дубе произрасти яблоку, а на яблоне желудю. Не может быть столь гордой повадки у того, кто от дедов-прадедов свычен к покорству.
– Род наш из переселенных новгородцев. Батя, помню, любил хвастаться, что мы, Григорьевы, великого боярского рода, да врал, поди. Всегда брехлив был.
Я доволен вдвойне.
Во-первых, уловка удалась – девка заговорила. Во-вторых, угадал про родословие. Чем-чем, а остроразумием я, благодарение Господу, нескуден.
Вон оно что. Это в ней дерзкая новгородская кровь сказывается. Мой дед ее лил-разбавлял, да всю не вылил, на меня оставил. В прошлый год ходил я с моей опричниной в Новгородскую землю покончить дело. И жгли тамошних людишек, и в воде топили, и железом секли. По заграничным пределам разнесся слух, что русский царь вовсе с ума сошел, собственных подданных ни за что казнит и зорит. Не понимают, пустые головы, что я вечную язву, всяческих крамол рассадник, докончательно железом прижигал. Чтоб новгородский гной никогда более не истекал, не отравлял тела моей послушной державы.
– Нехорошо так про родителя, – укоризненно говорю поповне. – Заповедь Господня гласит чтить отца своего. И Матфеем Евангелистом повторено: «Иже злословит отца, смертию да умрет».
– Какой он мне родитель! – У девки кривится рот. – Когда мамка померла, свез меня семилетнюю в лесную обитель, к сестрам и потом тринадцать лет не езживал. Выкинул за ворота, как приплод котячий. Хорошо в ведре не утопил…
И прибавляет, задумчиво:
– Хотя, может, это единственное благо, которое он мне сделал…
Удивительно. По виду – совсем простая девка, такие обычно двух слов не свяжут, а речь складная, свободная.