Люди города и предместья (сборник) Улицкая Людмила
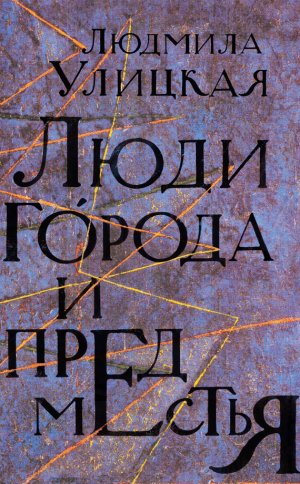
Читать бесплатно другие книги:
У многих людей в голове есть просто «убойные» идеи нового бизнеса, жгучее желание его раскрутить. А ...
Эта книга – не самая политкорректная! Деликатный человек может быть даже шокирован тем, сколь невежл...
В современных условиях жесточайшей конкуренции сильные кадры – самый важный фактор успеха бизнеса. Р...
Согласны ли вы с этими высказываниями: хорошо, когда в коллективе все дружат; отсутствие текучки кад...
Эта книга представляет собой пошаговый алгоритм отбора и удержания высокопрофессионального персонала...
Эта книга является первым пошаговым руководством в России по подбору и мотивации качественного персо...






