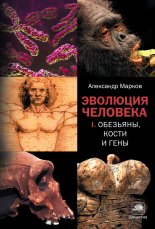Заговор сионских мудрецов (сборник) Веллер Михаил
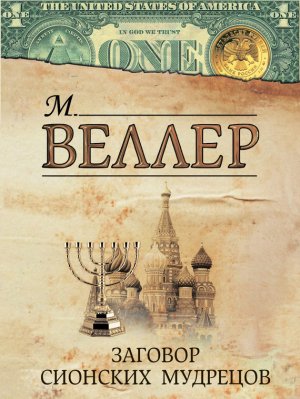
Не знаю, знакомо ли вам это странное ощущение, оцепеняющее однажды ужасом, когда смотришь в зеркало и вдруг понимаешь, что видишь там еврея.
Поздно. Безнадежно поздно. Уже ничего нельзя сделать.
Перестает действовать утешительный самообман мифов о «засилье малого народа» или «господстве мирового еврейского капитала». Все гораздо безнадежнее; пронзительная непоправимость.
Дело не в том, что у них деньги. Деньги у всех. Дело в том, что деньги – уже суть еврейство. Желтое золото дьявола, более трех тысяч лет назад пройдя через их цепкие торговые руки и обретя форму денег, растлило и повязало мир. Если в изобретениях проявляется и воплощается характер нации, то в изобретении денег дьявольский характер еврейства проявился сполна. Бокастые финикийские корабли из желтого кедра ливанского разнесли эту пагубу, изготовленную по семитскому рецепту, по вольным просторам Средиземноморья. И вот уже тысячелетия все люди повязаны меж собою еврейскими – денежными – отношениями: теми отношениями, которые евреи в древности скомбинировали и построили для своих должников, тех, кому с коварной услужливостью и ненасытной хваткой сбывали товары с выгодой для себя. И невозможен, немыслим уже возврат к наиву меновой торговли, честной и простой… А были! – быки, овцы, мечи и соль; а если и золото и серебро – то просто на вес, а не деньги. Существуя и функционируя в структуре денежных отношений, мы уже тем самым живем в еврейском морально-интеллектуальном пространстве и по еврейским правилам, так ловко навязанным нам когда-то. Мы послушно подчинились и стали поступать как они; подменяя их – им уподобились. Победа еврея не в том, что его банк могущественнее, а в том, что вообще существуют банки: ибо это изначально их мир, созданный ими согласно их натуре. Звон денег – еврейский гимн, и каждый поющий его – поет осанну им и сам становится одним из них.
А для этого они с непостижимым умением внушили всем свой способ передачи мыслей. Буквенное письмо – это их еврейское изобретение. Алфавит – это «алеф-бет». Коварные, напористые и жадные финикийские купцы, семитские спекулянты, высасывающие деньги со всего Средиземноморья – это они придумали буквенные записи, подтверждавшие их сделки и прибыль.
«Алеф» – это еврейский «бык». «Бет» – это еврейский «дом». Дом еврейского золотого тельца – вот чем стал наш мир. Вот что кроется за трагедией преемственности греческой «альфа» – началом всего сущего нам.
Ибо, изобретя прежде деньги, они поняли, что только этого – мало. Дьявол, через них уловивший в эту сеть все человечество, не удовлетворился властью над земным добром и бренным телом. Души нужны были ему.
И народы, более прямые и простодушные, менее искушенные в искусстве спекуляции и наживы, купились на мнимое удобство алфавитного письма. Арийские руны и египетские иероглифы канули в небытие. Уже никто не прочтет памятников великой и древней этрусской цивилизации. А ведь средство выражения и передачи мыслей неизбежно накладывает отпечаток на сами эти мысли и их восприятие. Форма передачи сообщения уже есть сама по себе сообщение.
Античные эллины, сильные и храбрые дети природы, владели некогда всем Средиземноморьем. Ни персидские орды, ни ножи Маккавеев не могли сокрушить их мощь, не могли исказить их гармонию. Но соблазненные пурпурными тканями, кедровым деревом и аравийским золотом семитских купцов, в общении с ними они невольно испытывали неощутимое и тлетворное, как микробы проказы, семитское влияние. Заключая сделки и подписывая кабальные купчие договора, они научились разбирать еврейское письмо, а потом – кто знает, ценой каких подкупов и льстивых посулов? – и сами переняли эту манеру буквенных записей. И вот уже забыта древняя ахейская грамота, и еврейский алфавит лег в основу древнегреческого…
Великий Гомер не знал этих ухищрений. Символично и не случайно, что он ослеп раньше, чем его грандиозные поэмы, эпосы, легшие в основание всей европейской литературы, были записаны алфавитным письмом, изобретенным евреями для удобства торговых сделок и опутывания всего мира своей ростовщической идеологией.
Вдумаемся, сколько исторического сарказма, сколько глумления над святынями заключено в том факте, что величайшие достижения человеческого духа сохранились в тысячелетиях и передавались поколениями исключительно еврейским способом, алфавитным письмом! И невозможно уже вычленить чистую суть поэзии и мысли великих народов из той еврейской по сути формы, в которой они существуют.
Великий Рим, потрясатель и владетель Ойкумены, обольщенный эллинской культурой, перенял греческий – от-еврейский – алфавит. И этим алфавитом писались законы народов и цивилизаций. И Юстинианов кодекс лег в основу правовых уложений всех стран современности. Непреодолимый парадокс в том, что ненавидевшие евреев народы стали писать так, как писали евреи: и отпечаток еврейской формы выражения мысли лег на все развитие мысли мировой. О боги, древние и бессильные боги мои!…
«В начале было Слово, – записали мудрецы древнего Сиона, – и Слово было Бог». И по мере того, как перенималось это слово, еврейский бог становился богом всего мира.
Наследники великих, изначальных человеческих цивилизаций Египта и Вавилонии инстинктивно ощущали смертельную опасность, исходящую от незначительного и малочисленного полукочевого народа, обосновавшегося на пустынных взгорьях Палестины. Но, привыкшие брать силой и явными достижениями культуры, они проиграли судьбоносное соревнование в живучести, приспособляемости и коварстве. Кир отпустил евреев из вавилонского плена и позволил восстановить Иерусалимский храм; Александр сокрушил тысячелетний Египет Сынов Солнца, фараонов.
И не ведали, что творили, суровые римляне, сокрушая спесивую Иудею и сметая навечно с лица земли еврейский храм. Так наивный и измученный болью человек давит гнойную флегмону, и зараза разносится по всему организму. Ибо еврейское рассеяние по миру можно справедливо считать инфицированием человечества.
Ибо к тому времени, отравив мир своим способом выражения Слова, и тем самым преодолев иммунитет человечества к своему влиянию – этот своеобразный и всемирный СПИД древности, – евреи уже создали своего бога «для внешнего употребления»: еврейского бога для всех неевреев.
Когда ты раскрываешь Библию или входишь в христианский храм – задумайся же, что ты читаешь и кому ты молишься; несчастный ты человек.
Еврейкой был рожден Иисус, и обрезана была его крайняя плоть на восьмой день по еврейскому закону, и гражданином был он еврейского государства. Евреи воспитывали его, и еврея называл он своим земным отцом. Еврей крестил его, и евреям он проповедовал. Евреями были святые апостолы, и еврей Петр заложил первый всемирный христианский храм. И еврейскими именами стали называть с тех пор люди детей своих. Иоанн и Мария – еврейские имена это.
И был рожден этот «бог для всех», бог для всеобщего пользования – от бога собственно и только еврейского, бога для пользования внутреннего. И ведь говорят вам, говорят толкователи, что Бог-Создатель, Отец, и Бог-Сын – две ипостаси одного и того же, и, стало быть, молясь Иисусу, вы тем самым молитесь и другой Его ипостаси, Яхве! – но не хотят задумываться над этим наивные и жаждущие веры люди.
Несколько веков сопротивлялся Рим иудейской заразе в христианском обличии. И таково необоримое коварство этой заразы, что римляне, верные богам своих предков, преследовали и травили римлян же, все более охватываемых верой в бога еврейского производства. Верой в бога смирения, покровительствующего в первую очередь рабам и беднякам, убогим и сирым. Нищих духом и плачущих объявил он блаженными, и велел подставлять обидчику щеку для удара.
А для себя оставили евреи законы своего бога: око за око и зуб за зуб.
Евреи пропагандируют легенды о своих страданиях, причиненных христианами. Но попробуйте сравнить: сколько христиан истребили друг друга во имя бога, данного им евреями? Сколько детей погибло лишь во время Крестовых походов детей? Сколько миллионов «протестантов» приняло мученическую смерть от «католиков»? а ведь они исповедовали веру в одного и того же бога! Весь цвет европейского рыцарства сложил головы под лозунгами веры в Иисуса и Марию!… Вчетверо сократилось население несчастной Германии за сто лет гражданских войн «реформации» христианской веры.
Чего ради миллионы европейцев веками гибли под мечами мусульман, покинув свои очаги и семьи для вящего торжества дела Иисуса, сына еврейки и еврея самого?
А вы повторяете об экономическом засилье евреев… Это мелочь, следствие, верхушка айсберга. (Айсберг… «Ледяной камень». Вот – их сердце).
И смертоносная мудрость древнего и страшного иудейского племени сказалась даже и прежде всего, быть может, в том, что они всегда были готовы обрести власть над миром и остальными народами даже ценой собственных страданий и ненависти к себе. Чтобы вера была крепкой и победоносной, объединяющей народ, – народу необходим постоянный враг, враг внутренний, который всегда рядом, инородный элемент в собственном теле. В противопоставлении себя чужаку рождается нация как единое целое.
И ненавидя евреев – народы ненавидят их во имя еврейской веры, молясь еврейскому богу, имя которого записано еврейскими буквами. Таков был сакраментальный тысячелетний расчет.
Почему за две тысячи лет евреи не растворились в многочисленных и сильных народах, среди которых жили? Потому что народы эти исповедовали веру, исторгнутую евреями из своего лона для внешнего применения. И рассчитанно вызванная ненависть скрепляла еврейский народ в нерасторжимое и крепкое целое – так давление в сотни атмосфер превращает мягкий графит в искусственный алмаз.
Обостренный инстинкт самосохранения научил евреев, как сохранить свой народ. Говорят, что они интеллектуальны и изобретательны. И плоды их изобретений сделали сегодня христиан болезненными и слабыми, естественный отбор прекратился, все снижается рождаемость, все реже встречаются сильные и красивые люди. А естественный отбор среди евреев не прекращался никогда – ибо неприязнь и гонения со стороны окружающих народов заставляли евреев изворачиваться, напрягать все жизненные и умственные силы для выживания, и выживали только самые стойкие, гибкие и умные.
И когда ты обрушиваешь гонения на евреев – ты уподобляешься стае волков, которые уничтожают больных и слабых, а ускользнувшие от клыков вскоре размножаются и делаются только здоровее. Три с половиной тысячи лет уничтожали люди евреев – и вот евреи живы, и процветают, и многие из них наверху. И народы поклоняются их богу и их святым, и пишут свои истории их алфавитом.
Так можно ли было всерьез рассчитывать на уничтожение евреев, если мир продолжал держаться на трех главных элементах еврейства: деньгах, буквах и боге? Именно эти элементы, въевшиеся в плоть и кровь европейцев, и более того – ставшие солью их, сутью их, и не могли позволить им довести дело до конца: но лишь устраивать регулярные погромы, оздоровляя тем еврейскую нацию себе на горе.
Смешно и глупо полагать, что еврейское владычество в России началось тогда, когда евреи пришли в Киев или в Хазарию. Где та Хазария? И что ныне тот Киев?… И где те евреи после погромов и поголовного, как свидетельствуют летописи, изгнания славянами прочь со своих земель?
О нет… Когда пришли на Русь со своей заемной грамотой Кирилл и Мефодий – пришло на Русь еврейское Слово, записанное еврейским алфавитом. Ушли в небытие древние письмена предков, и ушло с ними что-то неуловимое из духа народного, что выражало себя в записи для потомков изречений дел и мыслей своих. Унифицированная еврейская форма простерла свое перепончатое крыло на русскую историю и культуру. «Вхождение в семью цивилизованных народов Европы» по сути было присоединением объевреенного русского народа к объевреенной ранее Европе.
Когда Ольга крестилась в Византии – началось владычество еврейского духа и еврейской мысли на Руси. И не ведал Владимир, что творил, когда крестил народ русский – подобно тому, как в далеком палестинском Иордане крестил еврей Иоанн еврея Иисуса, сына еврейки Марии. И вместо древних славянских богов предков стали поклоняться русские изображениям евреев, которые были объявлены святыми и подлежащими поклонению – но только для неевреев.
Это ли не глумление над миром? «На тебе, Боже, что нам не гоже».
И веками талантливейшие из европейских художников писали гениальные картины, изображая на них евреев из древней еврейской мифологии. И отцы в кругу семьи читали по вечерам историю еврейского народа, написанную евреями. И строили прекрасные храмы, посвященные богу, изготовленному евреями for use outside only, и поверяли ему в молитвах свои заветные чаяния.
И умнейшие и образованнейшие из людей, философы и богословы, писали книги, посвященные еврейскому богу и проникнутые еврейским миропониманием. Ибо ведь Библия написана евреями, и идет от евреев все, что идет от нее.
Вот в чем состоит истинное владычество евреев над миром. Это владычество над душами людей, а не над жалким и бренным их скарбом. И вот как исполнилось воочию обещание Яхве, изложенное в Библии: «Избраны вы из всех народов, и дарую я власть над всеми народами избранному народу моему».
И когда несчастный русский человек декларирует любовь исключительно ко всему русскому, сберегая как святыню еврейскую Книгу и молится в храме изображениям евреев; и пишет статьи об освобождении от еврейского засилья придуманным евреями алфавитом, – он не сознает, что уже поздно, уже давно свершилось в веках, и делает он то, что было предначертано мудрецами Сиона тысячи лет назад.
Теперь уже можно уничтожить всех евреев – это ничего не изменит. Ибо даже если на земле не останется ни одного еврея – дух, за тысячелетия вложенный в народы евреями, все равно пребудет: ибо народы в безысходной наивности своей полагают, что это суть их собственный национальный дух. Христианство стало их собственной культурой, все записи алфавитом стали их собственной культурой, и другой культуры у них давно нет.
И страшная догадка рождает прозрение, которое невозможно избыть и с которым выше сил человеческих смириться: да! – неоднократно уже в истории евреи бывали поголовно уничтожены, – да и не могло быть иначе при таком-то тщании, при таком-то соотношении сил; да элементарный здравый смысл, элементарный арифметический подсчет свидетельствуют неопровержимо, что подлинные евреи, первоначальные евреи были поголовно уничтожены давным-давно, еще в древности.
Каждый, кто бывал в Израиле в новые времена, поражался: среди евреев там и близко нет одного или даже господствующего этнического типа. Сами они так друг друга и определяют: «эфиопы», «марокканцы», «румыны», «немцы», «русские», «аргентинцы». Черные и белые, смуглые и веснушчатые, рыжие и вороные, курчавые и прямоволосые. Где горбатые и жирные еврейские носы? Вот облупленная рязанская картошка, вот тонкий англосаксонский крючок, вот медальный римский профиль, вот вывернутые ноздри негроида… и это – евреи? Не смешите; имеющий очи да отверзнет их.
Секрет бессмертия евреев – в той квинтэссенции своего существа, которую они впрыснули в человечество. Деньги, буквы, бог. И когда все они бывали в очередной раз уничтожены – в освободившейся этнической атмосфере эта квинтэссенция отчетливее проявлялась в генетически лабильных особях, вновь создавая евреев из вчерашних германцев, кельтов и славян. Лишенные родовой памяти манкурты, они переставали иметь в сознании свою тысячелетнюю национальную сущность – и, искренне полагая себя евреями, становились таковыми сами перед собой и перед теми народами, из лона которых были рождены.
Так несчастная мухоловка, трудолюбивая и беззащитная, насиживает подброшенные ей в гнездо яйца кукушки, прожорливые и коварные птенцы которой выбрасывают из гнезда ее собственных детей. Так паразит хищный, оса-наездник, откладывает яйца в мощное тело другого живого существа – и несчастная куколка уже никогда не превратится в бабочку, но превратится в выводок ос, служа им укрытием и пищей!…
Все сегодняшние евреи – это дети вчерашних наших предков: они рождены были стать нашими братьями, но дьявольское наущение сделало их под оболочкой людей вампирами, нежитью. И истина эта наполняет безнадежностью…
Ненависть народов к евреям – это акт бессильного отчаяния сменить свой пройденный исторический путь и самих себя на других – каких? иных; лучших; свободных; счастливых и всемогущих.
Отказаться от христианства? Принять поголовно ислам или буддизм? Это уже будут другие народы, с другой ментальностью, с другими верованиями. Но как отказаться вообще от единобожия, которое есть еврейское изобретение? Ведь даже ислам – постиудейская религия! даже Магомет сначала пытался явить себя еврейским пророком и занять достойное место в еврейской общине, пока не был высмеян спесивыми еврейскими богословами (на их собственное горе).
Но как отказаться от алфавитного письма, этого дьявольского изобретения евреев, ибо только многомудрый Змей-искуситель мог вложить в умы людей такое орудие познания! Ведь обрушатся наши история и культура, и погребут под обломками невинные народы!
Есть только один радикальный способ покончить с этой заразой, этой раковой опухолью человечества. Этот достойный античных героев путь – сурово и мужественно взглянуть в лицо правде и покончить с собой. И с собою навсегда унести в могилу эту проказу, спасая тем самым чистоту грядущих рас и будущее человечество.
Но страшное опасение останавливает бестрепетно разящую руку. Ведь тем самым исполнится тысячелетняя мечта евреев: уничтожить всех своих врагов! И разящий меч вложить нам в собственные руки, чтобы своими руками поразили мы всех врагов племени иудейского.
Уже и Азия и Африка давно заражены ими. Уже пигмеи из экваториальных джунглей обучены арийскими (!) миссионерами буквенному письму, денежному обращению и единому еврейскому богу.
Еще Киплинг писал: «Вокруг всей планеты – с петлею, чтоб мир захлестнуть, вокруг всей планеты – с узлами, чтоб мир затянуть! – Здоровье туземца – наш тост!» Кого имел в виду великий поэт под «туземцем»? Это даже не нуждается в специальном разъяснении… Конечно его – туземца везде, представителя «малого народа», «инородца», выходца с «той земли» (о – «бет» – ованной). И с восторгом арийские завоеватели читали и печатали эти стихи – не ведая, кого славят и чьей воле служат, отправляя лучших сыновей на тяжкий труд за тысячу морей. Строго говоря, жизнь оставляет нам два выхода. Или ножом по крайней плоти, или ножом по горлу. Или пусть в мире будет одним явным евреем больше – и тогда я, по крайней мере, буду пытаться извлечь личную и шкурную еврейскую выгоду из своего положения, – или пусть в мире станет хоть одним тайным евреем меньше, а главное – лично я навсегда избавлюсь от этого нечеловеческого, непереносимого племени, бороться с которым иначе, как показала вся история, просто невозможно.
Я специально купил наилучший, вечный, золингеновской стали нож. И этот Золинген тоже был еврей!…
И будучи такими, какими нас сделали евреи, мы шлем им свои праведные и бессильные проклятия.