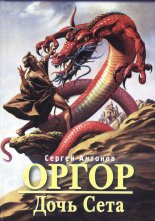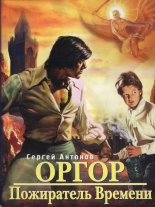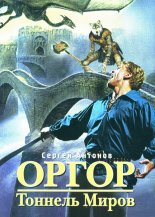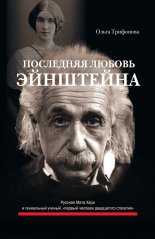Отрок. Бабы строем не воюют Красницкий Евгений

Настена не спешила первой заговаривать, видно, от Арины вопросов дожидалась, да напрасно; этому уже не столько бабка научила, сколько туровский опыт и то, как отец торговать своих подручных да Гриньку обучал. Кто первый интерес проявил, пусть тот первый и скажет свое слово, а нам суетиться нечего, мы себе цену знаем!
Тем временем они неторопливо двинулись по улице, и Арина буквально всей кожей чувствовала, как скребут по ней глазами раскланивающиеся с Настеной бабы, принаряженные ради светлого воскресенья. Похоже, с какой бы целью лекарка прогулку ни затеяла, знала, что говорила Анне, и языки действительно укоротятся.
«Ни дать ни взять – хозяйка! Корней с Аристархом мужскими делами заправляют, поп здешний явно в хозяева не лезет, а в женской жизни Ратного хозяйка она – Настена! Странно, почему такая молодая, а не кто-то из старух… но им тут виднее».
– Верно мыслишь, Аринушка! – ее спутница снова по-доброму улыбнулась, только глаза на этот раз остались холодными, изучающими. Вроде и разговор первая начала, но и тут повернула по-своему. – В каждой избушке свои погремушки. У нас в Ратном – вот так. А что не закрываешься да мысли не прячешь, благодарствую. И от меня тебе тоже добро будет. Лада с Макошью, может, и не всегда дружно жили, но и не враждовали. А когда дело того требовало, Макошь Ладе в помощи никогда не отказывала!
– О чем это ты? – вскинула брови Аринка.
– О даре твоем! – словно кнутом щелкнула Настена. – Ладе ты предназначена. Ведовской силы в самой тебе нет, зато женской – через край! А эта сила – от Лады. Она тебя в обиду не дает.
– Бабку мою во мне увидела?.. – Аринка покачала головой. – Да когда это было! И не учила она меня таинствам.
– Не спорь… и не спрашивай! Бесследно такие вещи не проходят. А бабка у тебя, вижу, сильна была, надежно тебя прикрыла…[6] Интересно, Нинея справится ли?.. Я такой силы раньше и не встречала… Жалость-то какая, что так и не передала никому… – совершенно искренне вздохнула Настена. – Но и не порадоваться не могу, что не она, а ты к нам пожаловала. В тебе-то самой и впрямь ведовства нет. Может, скрыто до времени?
– Да нечего мне скрывать!
«Ну чего она привязалась-то? Аристарх вон только глянул – и без расспросов все понял. Ну да… все правильно! Понял и сразу интерес потерял, коли я ведовством не владею. А эта… Она меня не просто прозреть пыталась, а подчинить. Именно подчинить своей воле, словно опасается. Возможной соперницы испугалась, что ли? За Юльку, наверное, не за себя же. Если так, то должна увидеть, что ошиблась».
– Ладно, о бабке твоей потом поговорим. А сейчас не удивляйся, а поучись… – Настена усмехнулась, – это тебе не язвить да всяких дур лбами сталкивать. Тут похитрее будет… Михайла это циркусом зовет, говорит, за плату показывать можно… тем, кто понимает.
Голос жрицы Макоши вдруг снова сделался ласковым и певучим.
– А вот, Аринушка, такие у нас колодцы! В иных местах такого и не увидишь! Любим мы колодцы, ублажаем, обустраиваем… И вам здравия, бабоньки, и вам, хлопотуньи! А я вот Аринушке нашу красоту показываю. Тут тебе и столбики резные, и крыша шатровая… Милослава, как внучек-то? Ну и ладно, пускай бегает, миновало плохое. А кузнечную работу, Аринушка, Лавр сделал, деверь Анны. Вот дар у человека! Ты погляди, как излажено все! Лукерья, завтра за настоем кого пришли. Только со своей посудой, а то у меня горшки все перевелись, хоть сама лепи. А вот здесь, Аринушка, видишь? Голова зверя, тоже Лавром откованная, как живая! У нас колодцы по этим зверям и именуются: Медвежий, Бычий… Февронья, пошто глаза красные? Опять твой учудил? Ну, гляди, а то я его упредила: «В другой раз и разговор другой будет». Ты думаешь, Аринушка, чего она так блестит? А примета такая – потрешь его ладошкой, и муж в постели зверем рыкающим станет. Вишь, не желают у нас бабы по ночам скучать! У медвежьего-то колодца примета совсем другая… потом расскажу, посмеемся.
Так с разговорами, не пропустив ни одной бабы, Настена провела Арину вокруг колодца, а потом двинулась с ней по улице дальше.
– Ну, как? Поняла?
– Кажется… – первый ответ на поверхности лежал, и гадать не пришлось. – То, что тебе посуды натащат, понятно… – слегка усмехнулась молодая женщина.
– Правильно, – подбодрила Настена. – А еще?
– Было и еще что-то… – Арина помолчала, подбирая слова. – Нехорошо в какой-то миг стало… словно бы заплакал кто-то или обидели кого… точнее не могу сказать.
– И то уже хорошо, что поняла, – одобрила Настена. – Знала твоя бабка, кого в ученицы брать… Странно, что не стала до конца учить. Оглянись.
Арина обернулась к колодцу и сразу же поняла, что не обманулась: чуть в стороне от остальных стояла одна молодка. Вроде бы и вместе со всеми, но как чужая. Стояла понурившись и, Арина не сомневалась, глотала слезы.
– Это ты ее?..
– Слова не сказала! – Настена потянула собеседницу за рукав. – Пойдем, пойдем, не стой. Так вот: слова не сказала! Не ругалась, не грозила…да ты сама все видела. Но и вчера слова не сказала, и завтра не скажу. И вообще не скажу, пока сама не поймет свою провинность да мне не объяснит.
– Строго ты…
– Нет, не строго! Я ей только что помогла глупость свою понять! Если не дура – поймет, повинится, а дуру не жалко.
– Только что?
На душе у Арины от слов лекарки появился неприятный осадок. Но та молча шла рядом, не мешая думать.
– Ты прости, Настена, но выходит, что ты ее из-за меня наказываешь? Ты бабам свое благорасположение ко мне показала… а ее… Она что, на меня зло какое удумала или трепалась непотребно? Небось, про то, как я в одной рубашке татей завлекала? – невесело усмехнулась Аринка, еще не понимая, что же ей не нравится: вроде как лекарка ее защитила. – Ну, так про это только ленивый не болтает. Я уж думала – надоело всем.
– Если бы просто непотребно… Это еще понятно – чтобы бабы да языками не потрепали? В том греха нет, если без перебора и без злобы. Эта же… – Настена поджала губы, словно собиралась сплюнуть. – Эта о тебе как о воине рассуждать взялась! Будто бы ты топором умело рубила и в том радость чуяла, как мужи ратные.
– Да я же… ах, сука! – вспыхнула Аринка, забывая на время свою неприязнь к Настене – так ее возмутило услышанное. – А ну-ка, пусть повторит мне в глаза…
– Остынь! – рявкнула Настена не хуже десятника. – Или хочешь ее трепотню подтвердить?
– Нет, но…
– Бабка тебя воинским хитростям учила? – неожиданно спросила жрица, снова притягивая к себе взглядом. Арина почувствовала себя обманутой, и снова душу что-то царапнуло – не нравился ей этот разговор, очень не нравился. И сама Настена неприятна. Опять заходами ведовскими морочит! Пока Арина защищалась от притягательной силы глаз лекарки, та каким-то образом узнала все, что ей требовалось.
«Как девчонку провела! Я же к ней за исцелением обратилась, за помощью, а она со мной, словно лиса с подранком, играть пытается. Эх, бабка, бабка… что ж ты так поторопилась в Ирий Светлый уйти? Лучше уж не начинала бы вовсе… теперь от того недознания одна маета!»
– Что-то я никак не разберу, Аринушка, – прервала ее переживания лекарка, – почему бабка твоя все-таки никого за себя не оставила? – она казалась не на шутку удивленной. – Надо же… редкий случай.
– Не знаю я всего, – Арина не собиралась откровенничать. – Она о себе говорить не любила. Про Ладу-то мне уже перед самой смертью поведала. Ее у нас почитали больше травницей, а про ворожбу тайком поминали. Но со всякими болезнями именно к ней за помощью шли. …Священник косился, конечно, но не связывался; с нашим родом отношения портить побаивался – на церковь-то мы жертвовали поболе других.
– Угу, – Настена слушала внимательно, не перебивая, но одновременно умудрялась думать и о чем-то своем. – Андрей, значит.
– Что, Андрей? – при его имени, так внезапно помянутом, Арину в жар бросило, сердце привычно ухнуло.
– Я и говорю: Андрей Немой тебе и правда в душу запал, – Настена улыбнулась приветливо, по-доброму. – Угораздило тебя, ничего не скажешь, тяжкую ты ношу подобрала. Но все может и хорошо сложиться, недаром мне Лада привиделась: она безоглядной любви всегда защитница. И тебе благоволит. Тогда и ему поможешь. У меня же за него тоже душа болит. Матери его обещала приглядеть, но как тут приглядишь? Не дите же… Анна тебе, наверное, уже рассказала кое-что, но всего и она не знает.
Вот этими словами Настена сделала больше, чем всеми наговорами! Матери его обещала… Скажет что-то дельное, посоветует.
– За что его так? – Аринка теперь сама впилась в нее взглядом. – Я же давно поняла, что не просто…
– Все расскажу, дай до дома дойти. Посмотрю тебя, как обещала, да поговорим. Изба моя недалеко, только вот второй колодец минуем… – кивнула Настена на кланяющихся ей издалека баб. – И вы здравы будьте, бабоньки, мужей вам добрых да женихов красивых, хлопотуньи…
Дальше все пошло, как и у предыдущего колодца: лекарка вела Арину по кругу, указывая то на искусную резьбу, то на хитрую кузнь, одновременно находя какие-нибудь слова для каждой бабы в отдельности. Поведала между делом и душераздирающую историю о том, как молодка горшок огненных щей на мужа опрокинула, да тут же, на глазах у всех, кто за столом сидел, принялась с того портки стаскивать, «чтобы, значит, не сварилось все там окончательно». Да про то, как муж, за портки держась, сначала орал: «Ты что, дура, охренела совсем?», потом: «Да остыло уже, не горячо вовсе!», – а в конце: «Ладно, пойдем, поцелуями полечишь да расскажешь, каковы щи на вкус были».
Пока бабы хохотали да высказывались об услышанном, Настена склонилась к одной из них, и от ее тихих слов будто зимней стужей повеяло:
– Ворованное счастье коротко! Сама остановись – слез меньше прольешь!
Баба поперхнулась смехом и изумленно уставилась на лекарку, а та уже шла дальше показывать Арине кованую голову медведя.
Больше до самого лекаркиного дома они и словом не обмолвились. Настена молчала, и Арина с ней сама не заговаривала, но про себя отметила, что та провела ее кружным путем. Видно, неспроста – для того и сама к церкви прийти потрудилась. Знать, всерьез она отца Михаила не опасается? Ну да, любви и дружбы между ними быть не может, но тем не менее сей ревнитель христианских заповедей жрицу Макоши у себя под боком безропотно терпит. И не скрывают тут, что лекарка в селе живет – открыто говорят. Бабка-то Аринина вон как таилась от посторонних… Знать, и отец Михаил, при всей своей истовости, вынужден с волей сотни смириться: воинам целительница порой нужнее священника.
А заодно и с Юлькой ее сравнивала. Известно: хочешь узнать, какова дочь вырастет – на мать посмотри.
«Юлька по молодости не скрывается, вся на виду. А девка упрямая, глаза горят, свое никому не отдаст. Настена вроде иная – спокойная, доброй тетушкой со стороны смотрится, говорит ласково, душевно, но это на первый взгляд. Просто с возрастом мудрее стала, научилась себя в узде держать, а что у нее внутри? В глазах не прочтешь, и сама она такое умеет, что мне с ней не тягаться».
У себя в избушке Настена сначала Аринку долго и тщательно осматривала да расспрашивала, так что у той уже и терпение кончалось. Досадовала, что лекарка нарочно тянет, испытывает, но сама ее не торопила: все равно не скажет, пока свое не выспросит!
А Настена заговорила совсем о другом.
– А я тебя, Аринушка, обманула, вернее, ты сама неверно поняла, а я объяснять не стала. Там, у бычьего колодца, мне не наказание болтушки для твоей защиты понадобилось, а твоя защита для ее наказания. Непонятно? Ты правильно догадалась, что я здесь хозяйка женского мира совсем молодая. Их у нас, кстати, Добродеями величают. Эта наказанная у меня первая. По-иному уже наказывала кой-кого, а так – впервые. Тут ведь важно, чтобы другие бабы все до одной поддержали; хоть одна воспротивится, считай, пропало дело. Значит, и вина для первого наказания нужна ясная, чтобы все согласны были. Я почти год такую вину и такую виноватую искала. От рассказов этой дурищи про кровь да волосы, к лезвию топора прилипшие, да как ты на это с ухмылкой людоедской глядела, всех баб с души воротило. Мне еще долго вот такие, очевидные для всех, вины подбирать придется, пока все не уверятся, что я несправедливо или за мелочь не наказываю.
– Выходит, ты мной попользовалась? – Аринке стало, наконец, понятно, что ей тогда так не понравилось в словах Настены. Ну да, все то же самое: и тут под себя подмять пытается, подчинить.
– Не без добра для тебя, да и сама рассказала, таиться не стала. Как думаешь, почему?
– А не все ли равно? Верить-то тебе больше не могу… – дернула Арина плечом.
То, что Настена решила ее использовать, было понятно – она свою копну молотит, но позволять и дальше собой играть Арина не собиралась. Тут только коготку увязнуть, потом не отвяжешься. Раздражение на то, что лекарка опять ее морочит, пересилило желание получить помощь; стала быстро одеваться, уже жалея о том, что связалась с ней. Еще у церкви после попытки подавить Аринину волю следовало уйти, коли такую цену за помощь платить надо. Лекарка, как же! Пусть в Ратном баб пугает. Власти ей захотелось! Мало своей, от Макоши, так она вон чего удумала! Бабка никогда себе такого не позволяла, и бабы в селе к ней сами за советом шли, а эта… Арина закрутила вокруг головы косы, накинула повой и, закусив губу, шагнула к выходу.
«Не хочет добром помочь – не надо, а умолять не буду! Если уж не судьба мне… Скажу Андрею все, как есть, а там…»
– Андрей! – раздельно и четко произнес у нее за спиной голос лекарки, как хлыстом ударил. – Тебе-то моя помощь не понадобится – все у тебя в порядке, родишь. А ему помочь сумеешь?
Арина замерла, не в силах уйти, но и не желая возвращаться, а из-за спины издевательски пропел добрый и приветливый, как возле церкви, голос Настены:
– Стерпеть придется, Аринушка!
Аринка обернулась и оглядела лекарку с ног до головы, а та, словно давая себя лучше разглядеть, слегка повернулась влево, вправо. Баба как баба… на первый взгляд. А если подумать?
«Хозяйка, значит? Добродея Ратного. Воины, их семьи, христианская община, лесовики… Живут войной, живут на войне, сто лет лили свою и чужую кровь, отвоевывая эту землю, недавно, рассказывают, бунт был и мальчишки зрелых воев перебили…
Какой надо быть, чтобы решиться взять под свою руку здешний женский мир? Как он вообще-то здесь жив, женский мир? Годами и десятилетиями ждать, когда вырастут дети, ждать возвращения мужей из похода, ждать, ждать, ждать… Я всего-то ничего жду, а уже извелась».
А ведь женщинам не только ждать приходится. Им приходится незаметно, но настойчиво править здешними мужами в тех делах, где они беспомощнее младенца, но не желают этого признавать. Считать родство, устраивать браки, смирять мужей и смиряться перед ними, вести хозяйство, командовать семейными и холопами, хранить обычаи, следовать приметам, передавать дочерям и внучкам то, что невозможно описать словами, а еще искать счастья и любви, а еще, а еще, а еще…
Какой надо быть, чтобы решиться возглавить все это? Вернее, какой надо стать, ибо Добродеями не рождаются. А ведь она, эта толстушка, понимает все это! Понимает и все равно берется? Вот сейчас надо было поговорить с бабами, держаться так, чтобы ничем не уронить себя в их глазах, а потом они пойдут к ней за советом, помощью, утешением, и ни одной не откажешь.
Власть? Да, власть! Но легка ли эта ноша? Вспомнилось, что Михайла в Дубравном про отца Геронтия сказал: «Ты попробуй каждый день, каждый час, каждым словом, каждым поступком являть окружающим пример праведной жизни. Ведь со всех сторон смотрят, все подмечают, обо всем судят. И ни черта же не понимают!»
– Умница, ах, какая умница! – лекарка смотрела без насмешки, и в голосе у нее звучали искренняя доброта и поощрение. – Только вот мысли у тебя все на лице пишутся, да буквицы такие крупные! Садись, чего подхватилась-то? – Настена кивнула на лавку. – Разговор у нас долгий.
Подождала, пока Арина сядет, и сама уселась за стол напротив нее. Задумалась на миг, потом пристально взглянула в глаза.
– О том, что скажу сейчас – не болтай, а то и головы лишиться можно. Про Перуновых воинов слыхала от бабки?
– Про Перуна слышала, – кивнула Арина. – Поклонялись ему раньше мужи, просили у него воинскую силу и удачу.
– Верно, а у нас поселение воинское. Поняла, о чем толкую?
Да уж догадалась, куда попала. Конечно, понятно, почему и Корней с Аристархом, и Настена забеспокоились, только заподозрив в ней ведовскую силу, да еще как-то с Ладой связанную… В Дубравном многое из старинных преданий всерьез не принимали. Православная вера да попы вытеснили тот мир. А здесь он жив, никуда не делся. И властвует по-прежнему, хоть и тайно. Куда там попам с их проповедями убедить здешних, хоть и крещеных жителей, что светлые боги им враждебны, когда лечит их лекарка Настена, жрица Макоши. Да и волхва Велесова, бабка Красавы, под боком. У кого власти над умами больше – у них или у попа? Смешно и сравнивать…
Про Перуновых воинов лучше и впрямь помалкивать. И так понятно – мужи здешние, хоть имеют христианские имена да в церковь ходят, но живут войной, и в бою им проповедь о том, что надо подставить вторую щеку, если по одной ударили, мало пригодится.
«А все-таки в бой именем Христа идут. И не сами по себе – на службе княжьей. И Корней боярин только княжьей волей. Прознают в православном Турове про языческие обряды – что тогда? Да за такое знание, и правда, головы лишиться недолго. А Настена-то что ж? Не может такого быть, что все досконально сама знает, скорее, тоже только то, что краем уха слышала да вместе сложила… Но меня убедить пытается, что ей все тут известно – даже ТАКИЕ тайны. Зачем? Да все за тем же! Чтобы я ее власть и силу постигла и признала! Ну-ну… послушаем».
– Опять молодец, – Настена одобрительно похлопала ее по руке. – Поняла все. Да, сейчас в сотне времена не самые лучшие. И отроков толком не учили, пока Михайла Младшую стражу не возродил. А раньше иное было. Не просто отцы с сынами занимались, а старейшины за этим строго следили. С самых ранних лет примечали, кто на что способен – и не ошибались никогда. И тут недалече слобода воинская была – там только мужи жили – не постоянно, но подолгу. И отроков, как в возраст приходили, туда посылали. Догадываешься, что за слобода?
– Как Младшая стража у Михайлы? – Аринка пожала плечами. – Там, наверное, отроков воинскому делу обучали.
– Верно говоришь! – усмехнулась хозяйка. – Именно! По старому обычаю воины так себе смену готовили. Оттого и были те воины столь непобедимы и искусны. Но здешняя-то сотня княжья! И власть тут христианская! Понимаешь? Старую веру сами же повсеместно изгоняли, и в Ратном светлых богов чтить уже не так стали: христиан в сотне становилось все больше, да таких, которые от старых обычаев вовсе отказались. Только привычную жизнь вот так, единым махом, не изменить, а христиане попытались… Большой кровью обернулось, кровью между своими… Как уж остановиться сумели, не ведаю. Слободы воинской после того у нас не стало, но и полностью старый обычай не отринули… так вот и живем…
Настена встала, подошла к печи, что-то передвинула там, словно по делу, но Арина видела: лекарка о своем задумалась.
«А ведь не только Перуна изгоняют… и Макошь, и Велес, и Лада – всех нынче одной метлой… Для нее-то это, как набат. Ведь и она тут жива, пока воинам раны исцеляет, а если не нужна станет? И она, и Юлька…
Да ведь она боится! При всей ее немалой силе и власти – боится. Всех. И этих баб у колодца тоже! Потому и давит так, и наказывает – от страха. И меня, выходит? Потому и внушает, что здешний женский мир в ее полной власти и нет для нее ничего тайного – вон как уверенно о Перуновых воинах и их обычаях рассказывает, будто своими глазами все видела, а если подумать, так вряд ли она к тем тайнам допущена. Чтобы я в ее власти уверилась и впредь поперек ей не только сделать что-то не смела, а даже не задумывалась. И не потому, что я ей повод дала, а на всякий случай. Но ведь нельзя так, нельзя! Как надо – не знаю, только у бабки иначе получалось. А Юлька про материн страх знает? Ей-то самой бояться нечего – за Михайловой спиной».
Собеседница Арины тряхнула головой, словно очнувшись, вернулась к столу и продолжила рассказывать:
– Так и стали новиков сами учить здесь, в сотне. А самых наилучших все равно отправляли куда-то далеко, хотели, видно, со временем свою слободу возродить. Вот Андрюха твой таким наилучшим и получился. Его старики приметили, опекать стали особо – он же без отца рос, мать одна тянула. Гордилась… Знала бы она, что ему с той учебы выйдет… – Настена задумалась, вспоминая былое. – Когда он домой вернулся, тогда и началось все. Не приняли его у нас.
– Что-то не пойму я… – с сомнением взглянула на нее Арина. – Ведь и до него там тоже парней обучали? И потом принимали их, и чужими они не становились… Он-то чем так не угодил?
– Да он-то сам как раз и ни при чем. Не в нем дело. Или, вернее, в том, что слишком хорош оказался. Сам по себе таким уродился, оттого и наука воинская на благодатную почву легла. А прочим – живой укор, дескать, вот какого воя в слободе, а не здесь, в Ратном, воспитали.
Просто не повезло ему, понимаешь? Кабы раньше – был бы в чести, прочим в пример, позже – то же самое, дескать, вот каких ребят и без Перуновой науки выращиваем, а тут… – Настена зачем-то снова встала, подошла к двери, выглянула на улицу, постояла, глядя куда-то, кивнула сама себе и села напротив гостьи.
– Тут вот какое дело, Аринушка… Как бы тебе объяснить-то? Мужи о своем думают, о боях да победах, а бабам-то мир нужен, детей растить. Оттого и боги у нас разные. Воины Перуну поклоняются, женщины – Макоши да Ладе. И просим мы их о разном. У мужей – сила. И власть свою они являют открыто. А жены… жены свое дело тихо творят. Не криком и шумом по-своему поворачивают – так разве что самые глупые поступают, от бессилия. И мужей не переделают, и сами потом нахлебаются, – Настена поморщилась. – Не-ет, умные бабы так повернут, что мужи и сами не заметят, как начинают по-иному на все смотреть. Вот и тогда… Старейшинам та слобода и возрождение старых обычаев одним виделась, им воев растить хотелось, а бабы хорошо помнили кровь, что один раз уже между своими пролилась. А ведь в сотне-то все давно породнились. Брат на брата пошел бы! Да и победи люди прежней веры, что бы вышло? Плетью обуха не перешибешь. Не потерпел бы князь такого, рано или поздно смели бы Ратное, как Кунье. Прежняя Добродея это хорошо понимала. Мудра была. Но выступать против мужей в таком деле бабе, хоть и уважаемой, и помыслить нельзя. Кто бы ее слушать стал? Вот она и сотворила все по-иному. Мужи и не поняли ничего, никто им как будто и не препятствовал, а все одно не по их вышло!
– Так это она нарочно все подстроила?.. – ахнула Аринка. – Баб на него натравила?! Анна сказывала – стихия, а оказывается, той стихией Добродея ваша управляла! А я-то еще удивилась, отчего она не вмешалась!
– Да нет… – возразила Настена. – Не поняла ты… Не его отторгли, а возрождение старого обычая… И не только бабы – вся сотня уже воспротивилась. Добродея-то давно к тому вела. Думаешь, само собой так случилось, что Андрей один из всего села в ту слободу попал? Когда-то и по десятку отроков отправляли, да каждый год, а потом меньше и меньше: пошли разговоры, что слобода-то слободой, а и в сотне можно не хуже новиков выучиь. Мол, чем слободские наставники лучше своих? Никому даже в голову не приходило, что не сами собой они про то задумались, а бабы их тишком настроили да их же самолюбие и распалили! Вот так, помалу, не враз, не в единый год, а сумела Добродея мужей переломить! К возвращению Андрея тот перелом и вызрел. Вот и сошлось все на нем. Чужим он здесь оказался. Ты пойми, она так всех прочих спасала, – повысила голос хозяйка, останавливая вскинувшуюся от возмущения Арину. – Ну а после того, что случилось, про воинскую слободу и не заикались больше. Никто бы своих сыновей туда не отдал. Андрюхе досталось, конечно, но он-то выдержал, не сломался. Будь кто другой на его месте, еще неизвестно, как бы обернулось. Женский мир так свое слово сказал, и старейшины ничего сделать не смогли! Прочили его со временем в сотники, но бобылю-то и десятником стать немыслимо, тут хоть обвешайся княжьими гривнами. Тем более, сторонились его, многие боялись даже просто рядом с ним на поле боя оказаться. Только Корней за доблесть при себе так и держал.
– Все-таки, значит, бабы… – протянула Аринка. – Не приняли…
– Да не просто не приняли – прокляли! Но, – сама себя перебила Настена, – пока про другое послушай. Это тоже важно. Андрей ведь не в пустыне живет, вокруг люди, и с людьми теми он, так ли, сяк ли, а повязан. Он-то единственный из нынешних воинов в воинской слободе обучался… – она быстро взглянула на Арину и продолжила: – Про ту слободу, где он был, я ничего не ведаю, а вот та, что тут разоренная… Сама я не застала, а бабка моя рассказывала. Ведь раньше у нас еще и дом Лады был, и девок учили… поняла? Ну, не постоянно, как отроков, а время от времени, когда старухи видели, что срок подходит, туда их по одной или по нескольку приводили. И вы с Анной за девичью учебу взялись…
– Так ты что, думаешь, что я… – Арина аж задохнулась.
– Нет! Это я сразу увидела, – улыбнулась Настена. – Потому и говорю с тобой сейчас так. Ну не могла я сама не убедиться! С Аристарха-то не спросишь: не пристало Перуну перед Макошью ответ держать. Откуда мне знать, что он задумал и как ты с ним и с Корнеем поладила? – она невесело усмехнулась. – Корней вон как разлетелся – и то вам, и се. Вот я и хотела понять – своей ли он волей? Коли от чистого сердца, так и хорошо, а то мало ли…
«Никому она, похоже, не доверяет. Да и у богов, как у людей, соперничество идет. Аристарх-то Перуну служит, а против Перуна Макошь не властна. Да не только Макошь, и Велес от его молний змеем между камней убегал… Значит, староста и над волхвой власть имеет? Хотя тут еще важно, насколько сам жрец силен, но все-таки… А вот Лада могла бы с Перуном поспорить… Ну да! Коли Аристарх во мне жрицу Лады признал бы – не вышла бы я из той горницы. Не зря я тогда смерть почуяла – рядышком она прошла… А Настена и забеспокоилась от того, что коли Перун с Ладой договорятся, всем прочим рядом и делать нечего!»
За своими размышлениями Арина не забывала внимательно слушать лекарку. А та продолжала рассказывать.
– Вот сама погляди. Отроки-то ваши, Лютом выученные, лучше, чем те, которые здесь, в сотне остались. Мишкины сопляки бунтовщиков – взрослых воинов – побили, всего двумя десятками! А если сотней заявятся? – В Настениных глазах мелькнул страх. – Андрей свою судьбу принял, такую, как есть. Но ведь если умеючи старые обиды расковырять… А тут ты! И опять один к одному сходится… Тогда он отроком был, старшие его удержать смогли, образумить, а теперь? И отроки обученные у него под началом – далеко ли до беды? Чем вы там с Анной думаете? – теперь лекарка почти кричала. – Головами или… Одна вокруг Лешки своего вьюном обвилась, другая об Люта, как об стенку, бьется, ничего вокруг не видит… Кто мужей от дури кровавой удерживать станет? Юльке моей, девчонке, отдуваться при двух бабах смысленных?
– Я же не знала… – растерялась Аринка от такого внезапного поворота разговора. – Да и при чем тут моя любовь?
– Твоя любовь как раз и при всем! – отрезала Настена. – Один раз он уже обжегся – второго, может статься, ни он, ни окружающие не переживут. Вернулся тогда Андрей из слободы и словно в чужую весь попал. За три года, пока он учился, тут иначе на все стали смотреть. Бабы ему каждое лыко в строку ставили, да и мужам, тем, кто своих сыновей здесь учил, не нравилось, что старейшины отличают его перед их сынами. Христиане – те и вовсе носы воротили. Отроки завидовали и побаивались. А девки… девки с него глаз не сводили! – она усмехнулась, видя ошарашенные Аринкины глаза.
– Они же, дурочки, повлюблялись в него через одну, а он этого и не видел по молодости да от незнания! Не понимал, что они его потому и подначивают, и дразнят, и с парнями своими стравливают. Ну, чему их там наставники обучали? Да все тому же: невместно воину свою слабость показывать, а бабы и есть слабость мужеская; они только для одного надобны. Оттого он и держал себя с ними так…
Как-то раз кто-то из парней Люта зацепил – а он уже тогда силен был, как зрелый муж. Ну и врезал обидчику, так, что тот лег без памяти. Девица того в крик: «Убийца, зверь!» Взяла, дура, да и прокляла Андрюху при всех. Сама же до драки дело довела, свиристелка, и все потому, что он на нее не смотрел… Потом уже ее слова как только ни пересказывали, но посулила она ему одному век коротать, бесприютным и никому не надобным. И чтоб перекосило его, тоже брякнула! Вначале и внимания никто не обратил, посмеялись разве что, а потом неприятности на него как из лукошка посыпались – и вроде по мелочи, а как нарочно, все каким-то боком с девками связано. И они, дурищи, его просто со свету сживали насмешками. Не выдержал Андрюха как-то, поднял скамью с тремя такими насмешницами да и швырнул в других. Ну, тут уж взрослым разбираться пришлось – девки-то крепко побились.
«Господи, как же его допекли! Он же себя в железных рукавицах держит, а тут сорвался… Бедный…»
А лекарка продолжала, и, казалось, конца не видно страстям:
– Обошлось, Перуновы мужи его под защиту взяли. Но девки уже удила закусили, не могли они такого стерпеть! Жила тут у нас одна – померла в моровое поветрие одинокой и бездетной, а ведь по молодости не хуже Аньки-младшей… От женихов отбоя не знала и отроками крутила, как хотела. Вот ее больше всех и заело, что Лют на девок смотрит с презрением. И от великого ума, видать, да в насмешку об заклад побилась, мол, окрутит Андрюху и на сеновал приволочет… И подружек пригласила полюбоваться да посмеяться над ним, поганка. А много ли парню надо, коли взяться умеючи, особенно если он девичьим вниманием обойден? Окрутила, конечно, и приволокла, как барана на веревочке. Что-то у них там не так пошло, но когда понял он, что посмеялись над ним, чуть не поубивал всех. Хорошо, взрослые мужи поблизости оказались, прибежали, его удержали, а то не обошлось бы.
А тут новая напасть: почитай, на следующий день отроки подначили его на состязание. Да не сами! – Настена аж кулаком по столу стукнула, видно, давнее происшествие до сих пор возмущало лекарскую душу. – Новики постарше подучили, Добродея потом вызнала кто, устроила им… Они и сами испугались, когда дошло до беды. Хотели посмеяться, мол, у нас лучше учат боль терпеть, чем в слободе. А своим мальчишкам дали дурман-травы. Есть такая, не вовсе боль снимает, но легче с ней какое-то время, только голова потом не своя. По ней-то и нашли виновных. Раздразнили сопляки Андрюху, а он и так был не в себе из-за той девки. Перетерпеть-то он их перетерпел, и нет ему бы остановиться, когда соперники сдались, так пока не сомлел – не отступил! – Настена быстро глянула на Арину. – Он тогда без памяти долго лежал, а потом лицо его стало застывшим ликом. Христиан в сотне, конечно, много, но… поверья-то старые сильнее попов. Не все прежнего Андрюху признали! – она зло усмехнулась. – Шептались, что коли лицом изменился, так и сам другим стал, может, и не человеком вовсе. Потому и ни в один десяток брать его не пожелали, и страх к нему отсюда же. Он тогда враз из отрока мужем стал. А уж когда еще и голоса лишился, так и вовсе убедились, что нечисто тут дело: без голоса-то смерть ходит… По окрестным селениям потом, когда он ярость в бою показал, только про то и говорили, что в нем демон поселился.