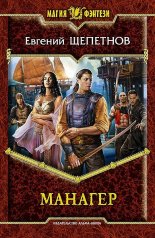Несчастливой любви не бывает (сборник) Артемьева Галина
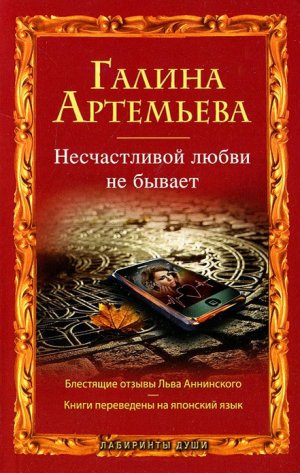
Иголка в стоге сена
…И снова сон, и снова грустный холод,
О мой Творец! не дай мне позабыть,
Что жизнь сильна, что все еще я молод,
Что я могу любить!
И.С.Тургенев. «Русский»
Почему-то именно весной возникают особые надежды. Солнышко чаще светит, вот что. Силы у людей появляются мечтать. И всем сразу хочется нового. Вечной и верной любви, добра и имущества всех видов – как движимого, так и недвижимого.
Человечество явно продвинулось в своих вечных поисках исполнения желаний. Сейчас уже точно установлено: мечты сбываются. С некоторыми оговорками, правда. Сбываются они не ровно в тот миг, как происходит процесс мечтания, а как раз именно тогда, когда этого меньше всего ждешь. У жизни свое чувство юмора. Она часто улыбается нам в самый, казалось бы, неподходящий момент.
Вот, пожалуйста. Три человека. Совсем разные. Каждый – в смятении чувств.
Двое из них объединены прошлым, которое на то и прошлое, чтоб о нем не вспоминать. Однако прошлое настолько недавнее, что кажется пока настоящим и причиняет сильную боль и недоумение.
А третий – вообще существует отдельно. И не просто существует, а еле-еле.
Он всю осень и зиму провел в ежеминутной борьбе за жизнь. Девушку от гадов отбил. А самому досталось по полной. Вот судьба: был в горячих точках, невредим вернулся. А родной город Москва оказался точкой горячее самых горячих. Так хорошо все складывалось: работа, третий курс универа. Мать все намекала на внуков, дед – на правнуков. Сам стал думать: а правда, не пора ли? Оказалось, зря мечтали, потому как предстояла ему командировка. На тот свет. Откуда не возвращаются. Или возвращаются в порядке большого исключения. Чтобы на этом свете чашу страданий испить до дна.
И почему он тогда полез на самый нож? Иначе, видно, не мог. Такой характер сложился – умри, но заступись. Даже за самого чужого. Или чужую. Девушку-то спасенную едва по имени знал. Приглядываться только начал. А тут гады полезли.
Врачи успели вовремя. Ухватили отлетающую душу и силком водворили в неподвижное бесчувственное тело. Душа свернулась клубочком и долго не знала, чем помочь и зачем она тут нужна. Просто так полагалось. Врачи боролись за жизнь, она кое-как затеплилась. А дальше обещать было нечего. То есть перспективы были. Например, научиться сидеть. Очень сложно, но можно. Ходить – нет. Такого не прогнозировал ни один даже самый дерзкий и оптимистичный специалист. Сидеть. Ездить на коляске. Учиться продолжить. Работать потом… На компьютере. Сидя в инвалидном кресле. А что? Тоже жизнь.
Девушка первое время навещала. Входила в палату с полными слез глазами. Хорошая, симпатичная, спасенная им для нормальной жизни девчонка. Но не своя. Чужая. Она честно ходила и маялась. Понимала, что должна ему как-то отплатить за собственную сохранность. И родители ее появлялись. Всегда с цветами, как на могилу, а не к живому парню. Ну, какая нормальная девчонкина мать к парню с цветами притопает? Она с метлой должна стоять. На страже дочкиных интересов. А тут… Эх…
Через месяц лежания, когда душа его распрямилась и окрепла, приспособившись к новым условиям, он велел девчонке не приходить. Жить своей жизнью и радоваться. И обязательно нарожать человек семь парней. Хороших и сильных. Чтоб гадов на свете стало меньше, а нормальных ребят прибыло.
Он велел ей пообещать, что так и будет. Она пообещала. Но и с него слово взяла. Чтоб на ноги встал.
– Вот первого сына покажешь, а я на него стоя взгляну, – уверенно сказал он.
Они даже помечтали, как будут дружить семьями.
Больше она не приходила, как он и просил. И это было правильно. Теперь ничто его не отвлекало от боли и стремления сделать по-своему наперекор всему.
Можно описать каждую минуту его дневной жизни. Они отличались друг от друга, эти минуты, разными красками и звуками боли. И разными словами, сказанными самому себе, чтобы перестать слышать собственное страдание. Боль – это то, что досталось ему от гадов. Он не мог оставить победу за ними.
Он сумел сесть. В рекордно короткие сроки. Врачи объясняли свершившееся на их глазах чудо молодостью и здоровым организмом. Все это казалось полной чепухой. Он-то знал: главное, суметь отдать четкий приказ. А потом выполнять без рассуждений. Этим он целые дни и занимался.
Вера в победу пришла, когда получилось пошевелить пальцами ног. Это событие, потрясшее врачей, стало доказательством их неправоты. А они радовались, как дети малые, заставляя его показывать толпам студентов великое событие – как рослый парень двигает поочередно ножными пальцами. Как будто сами этого делать не умели.
Усилия приходилось прилагать ежеминутно. Не расслабляясь и не жалея себя. Однажды ночью он проснулся от толчка в сердце. Чей-то чужой голос сказал ему отчетливо:
– И что ты напрягаешься? Боль-то навсегда при тебе. И даже если встанешь – сколько лет пройдет, чтобы ты стал прежним? И кого ты себе – такой – найдешь? И как? Легче иголку в стоге сена отыскать, чем такому, как ты, подругу жизни.
– Заткнись, – велел он чужому голосу. – Иголку найду, если надо. По травинке стог переберу, а найду. А подруга, которая обо мне мечтает, появится. Ведь и я мечтаю о ней.
Разве мог он позволить себе бояться поисков какой-то иголки в пусть даже огромном стоге сена? Еще чего!
После подвига с пальцами ног никто уже не сомневался в его возможностях.
И вот он встал. Как говорится, не прошло и полгода. Но что это по сравнению с вечностью, правда?
Осени не видел, зимы не видел. И словно очнулся вдруг: кругом весна, апрель! Что делается-то, братцы!
По дому он уже вполне сносно ходил. С костылями. Пока с костылями. Не прислоняясь к стенке, не останавливаясь на передыхи. Мама совершенно успокоилась и даже временами просила что-то принести ей из другой комнаты: забывать начала плохое.
Наконец апрельское солнце заставило его решиться. Он вышел на улицу. И потихоньку побрел, щурясь и улыбаясь настойчивости солнца. Сбылось!
На этой самой улице, по которой медленно передвигался самый счастливый человек на свете, стоял дом, где мучился и страдал человек очень и очень несчастный. Настолько несчастный, что он собирался умереть. И даже назначил час своей смерти. Полдень. Ровно в полдень его не станет.
При одном условии. Если ровно в двенадцать она не позвонит.
Он просил ее в письме, умолял дать ему еще один шанс. Последний. Иначе она может считать себя убийцей человека. Он выбросится из окна. Пусть не волнуется: предсмертной записки он не оставит. Ее никто не обвинит. Она сама до конца жизни будет знать, что убила его. Вот и все.
До двенадцати оставалось совсем немного. Он держал в руке телефон и ждал.
Позвонит или не позвонит?
Главное – пусть позвонит. Там уж он найдет слова. Уговорит простить. Поверить, что в последний раз и больше никогда-никогда.
Да, она красива. В том-то и беда. В том-то и главное во всей их истории. Она красива так, что люди не могут не смотреть. Это ему понятно. Но выдержать невозможно. Он злится, когда они зыркают в ее сторону. Он понимает, что она ничего не делает, чтобы привлечь чужое внимание. Она такая уродилась. Иногда ему кажется, что она даже до конца не понимает, насколько мощной силой обладает. Ведь любой почтет за счастье… Любой. А она с ним. И говорила всегда, что любит.
Он смотрел на себя в зеркало и не верил ей. Его не за что любить. Роста небольшого. Лицо – ничего особенного. Нет, не может такого быть – и все. И от этих мыслей он так на нее обижался, что хотел задеть, сделать ей больно так, как больно сейчас ему самому.
А ведь он все-все знал. И про то, что встретились они через месяц после смерти ее мамы. Долгой и трудной смерти от рака. Не время было маме уходить в ее сорок четыре года, а дольше пробыть с дочкой не получилось, как обе ни старались. Незадолго до вечной разлуки мама сказала: «Ты встретишь своего единственного, выйдешь замуж и родишь деток. Пусть их будет много. Одной плохо оставаться на белом свете».
Когда они познакомились, ей почему-то сразу стало понятно, о ком говорила ей мамочка. Она не собиралась искать кого-то еще, решив для себя все-все раз и навсегда.
А ему требовались проверки чувств. Он закатывал скандалы. Объяснял ей, что зря не станут оборачиваться, не иначе как она своим вызывающим поведением или неподобающей одеждой вызывает нездоровый интерес.
Поначалу это даже трогало ее. Любит! Он ее любит! Потому и боится потерять! Так ей казалось. И она привязывалась все сильнее.
Он же все проверял и проверял. И как-то это все затянулось. Превратилось в систему. Она уже знала, когда возникнет скандал. Понимала, что стараться избежать его невозможно. Скандал и истерика выплеснутся все равно, даже если она пойдет по улице в мешке с прорезями для глаз. Она старалась его развеселить, поднять настроение, придать сил. Помогало лишь на мгновения.
Она держалась только тем, что мамочка сказала о единственном. Не могла она пренебречь последними словами единственного на всем свете любившего ее человека. Единственный – терпи!
Кончилось все равно расставанием.
Три дня назад. Поначалу все шло по привычному сценарию. Он старался довести ее до слез и уверений в любви. Взвинчивал себя. И сам уже понимал, что все было, было. И то ли со скуки, то ли и вправду распалившись, он схватил ее сумку и цапнул оттуда ее старенький мобильник, жутко раздражавший его своей убогой старомодностью и дешевизной.
– Что ты за него держишься, за мусор этот? У тебя что там? Любовная переписка?
Вот тут она не выдержала.
Страх охватил ее. Страх потерять последние мамочкины слова, которые хранились в эсэмэсках.
Любой страх убивает любовь. Это прописная истина. Почему о ней забывают, поганя нежность угрозами?
– Отдай телефон, гад! – закричала она, ринулась, пытаясь отнять.
Он понял, что добился своего. Вывел ее на слезы и боль.
– Не отдам, пока всех твоих ублюдочных бойфрендов не вычислю!
Он подскочил и ударил ее кулаком с зажатым в нем телефоном по лицу.
Ей вдруг стало так пусто и холодно внутри, что страх пропал. Мамины слова она помнила и так. А с ним все – ни минуты дольше. Терпение лопнуло. Теперь-то она понимала, что именно значат эти два слова. Их смысл познаешь лишь на собственном опыте. Теоретически не постигнешь.
Он не ожидал. Обычно все шло иначе. Она принималась утешать и даже просить прощения. Он долго заставлял извиняться.
А сейчас… Она просто ушла.
Ни слова не сказала. Повернулась – и раз! Дверь хлопнула.
И не остановить. И не позвонить.
Он прочитал жалкие ее тайны: слова любви умирающей матери к остающейся на растерзание такими, как он, дочери.
Он ждал ее звонка. Пусть хоть обругает. Пусть потребует вернуть мобильник. Пусть.
Ничего не происходило.
Это и было самое страшное. Почти как смерть.
Он написал ей имейл. Обещал больше никогда… просил прощения… клялся, что выпрыгнет из окна, если ровно в двенадцать она не позвонит на собственный номер. Пусть даст ему шанс выжить. Последний шанс.
У него на сердце ничего не оставалось, кроме удушающей ненависти, от которой хотелось хрипеть и выть. Он ненавидел и ее, и себя, и все прошлое, которое уже не изменить. Как не изменить самого себя. Попробуй объясни, кто кого за что ненавидит. Не получится. Просто накатывает и накрывает с головой. Ни выплыть, ни вдохнуть не получается. Только тонуть.
Он привык о ней думать «моя». И страшно стало сознавать, что это все не так. Она, которая почти два года была рядом, которая терпела все, что он ни творил, теперь не с ним. Это-то он сумел прочувствовать.
Без трех минут двенадцать он встал на подоконник, уверенный, что, если она не позвонит, сила ненависти столкнет его вниз лучше любого удара со стороны.
Светило солнце, но ветер задувал холодный.
«Я простужусь», – подумал он и понял, что не прыгнет.
На фига прыгать ей на радость?
Он слез с подоконника. Двенадцать. Тишина. А всегда пунктуальная была. Не заставляла себя ждать. Это он обычно опаздывал.
Двенадцать ноль одна.
– Да пошла ты! – крикнул он навстречу весне, швырнул телефон в окно и плотно защелкнул раму.
Счастливый и одуревший от свежего ветра человек отдыхал, опираясь на костыли. Краем глаза он заметил летящий на него сверху предмет и поднял навстречу ему руку. Хоп! Поймал! Реакция у него всегда была будь здоров!
– Ну-ка, посмотрим, что за птица прилетела, – сказал он небу.
И в этот момент телефон зазвонил в его ладони.
– Але, – отозвался он, уверенный, что сейчас сверху прибегут за пропажей.
– Я звоню потому, что не желаю тебе зла. Живи. Только со мной не получится, – сказал голос, который, казалось, он где-то слышал, знал. Может быть, внутри себя?
– Я не он. Я просто поймал этот телефон. Он из окна только что упал, – поспешно сказал счастливчик, боясь, что голос сейчас исчезнет навсегда.
– А вы где? – раздалось из трубки.
– Тут. Под окном, откуда мобильниками кидаются.
– А больше оттуда никто не кинулся?
– Никто и ничто. Вот стою, думаю, как вернуть пропажу.
– А вы не могли бы… Вы не могли бы отдать его мне? Это мой телефон. Его у меня отняли. Велено было в двенадцать звонить, а я в метро была, не успела, – голос звучал совсем не так, как в начале разговора, теперь он стал открытым и веселым.
– Конечно, мог бы. Вы где?
– Подхожу к кафе на углу. Только за дом заверните и увидите.
– Договорились. Только учтите: я еще очень медленно хожу. Ждите там.
– Конечно.
Потом она никак не могла взять в толк, почему не побежала навстречу ему. Почему просто сидела и ждала, радуясь телефону, как весточке от мамы. И не подозревала, что мамины слова нес ей тот самый единственный и на всю оставшуюся жизнь, который и был когда-то обещан.
Незаметная черная кнопка
Часто люди в шесть утра выходят на площадку покурить? Бывает, конечно, но не регулярно, в порядке исключения. И уж, ясное дело, не потому, что проснулся, сделал зарядку, облился ключевой водой и потянуло курнуть перед трудовыми подвигами. Совсем наоборот. Ночь растянулась. Сидели по-соседски. В три часа ночи встретились у подъезда. Каждый откуда-то возвращался. И – надо же – сто лет не виделись, хоть дверь в дверь живем! Дому их больше чем полвека – тысяча девятьсот пятьдесят первого года постройки. Квартиру тут купить – миллион теперь стоит. А у них еще прабабки с прадедками здесь успели пожить. Родовые гнезда, а не квартиры серийные. Росли, можно сказать, вместе. А теперь так получается, что встретишься раз в полгода, и еще хорошо, если признаешь в темной фигуре, копошащейся у домофона, родного друга.
Момент такой встречи упускать нельзя. Вот они и поболтали сколько-то минут. Илье вообще спешить было некуда: все поколения обитателей его квартиры переселились на дачу с мая по сентябрь. Дома неуютно. Посуда громоздится в раковине. Холодильник пустой. Надо бы что-то там прибрать, придать человеческий вид, но потом, потом. Времени до возвращения семьи еще столько! Дачный сезон даже и не в разгаре. Петька, понятное дело, зазвал к себе. У него все пока дома, есть чем угостить. Главное, по-тихому, чтоб не разбудить заботливых близких. А то начнется: «Дай Илюшеньке то, да как дела, Илюшенька, да как папа-мама, деда-баба». И уже никакой личной жизни и нормального обстоятельного разговора не получится. Одна ерунда и суета.
Тихо – это они умели. И отлично посидели. И очень-очень бесшумно открыли дверь и просочились наружу курнуть. И тут их ждал удивительный сюрприз. Вот только-только они вышли. Так вот тут прям встали, еще на коврике, еще не отошли даже. И – открывается дверь Илюхиной квартиры – бесшумно совершенно, как во сне! И из нее выходит тетка-почтальон! С толстой сумкой на ремне! Спокойная неприметная тетка-почтальон с толстой сумкой на ремне, лицо, как у миллиона обычных теток, серая юбка, стоптанные туфли, взгляд «вас много, а я одна». Чуть-чуть как бы запинается, увидев их на площадке, но только на сотую долю секунды. А потом продолжает движение к лестнице. И дверь за собой не закрывает.
Первое ощущение – сон. Второе – дурдом. Третье – паралич.
И только после этого приходит невозможная мысль: воровка! У Илюхи в квартире воровка была!!!
– Илюха!!! Держи ее!!! Это воровка!!! Она квартиру вашу обчистила!!!
Тетка-почтальон с толстой сумкой на ремне продолжает неспешное движение, мол, ее это не касается, потому что не про нее.
Илюха в ступоре. Чужую серую тетку? Хватать? Своими руками?
Тогда Петька делает очень быстро два дела. Почти одновременно. Жмет на кнопку звонка, чтоб своих перебудить, раз такое происходит, и хватает разогнавшуюся исчезать тетку за ремень сумки. Очнувшийся Илюха вцепляется в теткину шкирку. Теперь ей деваться некуда. Поймали.
Тетка-воровка ведет себя пофигистски. Спокойно впирается уже в Петькину квартиру. Они двое – Илюха с Петькой – разгорячились, разволновались. Это ж не каждый день – вышли, дверь открылась, оттуда сумка с почтальоншей, и надо ловить. А ей абсолютно чихать и кашлять на все. И носовым платком не прикрываться.
Из недр квартиры уже бегут свои. Кто в чем. Глаза б не глядели.
– Что стряслось, Петька? Кто там с тобой, Петр?
Приходится объяснять.
– Милицию надо вызвать!
– Сумку у нее заберите!
– Илюшенька, в квартиру к тебе пойдем, посмотрим, что она там…
– Нет, не сметь до приезда милиции!
– Ее, ее держите! Связать ее надо, убежит!
Воровка по имени Марина нагло улыбается, глядя на этих чувырл. Ну, пусть вяжут. Ну, пусть мусоров вызывают. Напугали! Обидно, конечно, попадаться. Но не страшно. Она и попалась-то всего второй раз за всю жизнь. А ей уже тридцать шесть. И ворует с шести! Это она так условно считает. Сколько помнит себя, столько и ворует. Но в данный момент удобно считать, что с шести. Получается круглая дата. Стаж трудовой! Юбилей.
Воровать ей нравится. И талант у нее к этому. Ловкость есть и интерес. С квартирами она связалась не так давно, лет десять как. До этого в магазинах, на рынках. Любую шмотку, какая понравится или нужна в хозяйстве, заиметь для нее, что для другого вдох-выдох сделать. И в первый раз попалась по-глупому, не на выносе даже.
Уперла из магазина «Весна», старого еще, нормального, не навороченного, как теперь, несколько платьев с вешалками прям. Пошла типа в примерочную. Сколько-то отвесила – не надо мне. А самые что подороже – в сумку. И унесла. Так бы и несла себе да несла, а уж как греху быть… Решила вешалки выбросить зачем-то. Задергалась. Ну и в тот момент, как вешалки в урну втискивала, мент за локоток и взял: «А ну-ка, ну-ка, что это ты кидаешь, что у тебя в сумке-то?» Так и повязал. А только худа без добра не бывает. Ее там в камере научили, как говорить. Адвоката дали халявного, молодого практиканта. Он и расстарался. Послал на экспертизу. Вроде как болезнь у нее психическая. Есть, оказывается, такая болезнь, когда чокнутый псих обязательно красть должен. Вот и не надо ему, а он крадет. Это ему радость жизни доставляет. Адреналин в кровь добавляет. Фиг его знает, что это за адреналин такой. Но, видно, что-то позарез нужное, раз многих за этим адреналином тянет и тянет.
Короче, плела она врачам все, что подсказали добрые люди. И от себя добавляла чего могла. О детстве, ластиках из чужих портфелей, ручках с учительского стола и мелочи из материнских карманов. Все страшные факты своей биографии припомнила. Придумала про борьбу с собой невыносимую. Про невозможность сопротивляться пагубному недугу. Про то, как что-то вдруг толкает, заставляет. И ненавидишь себя, и подчиняешься. Страсти всякие. В результате всех этих театров появилась у Марины бумага с диагнозом. Клептомания у нее, вот как. И попробуйте ее воровкой назвать – получите прямо в наглую свою морду. И ничего ей за это не будет. Потому что она – больной человек. Врачам виднее. Они учились. Знают.
– Зачем же вы ее в комнату-то завели? Чтоб она у нас теперь разглядывала, что своровать?
– Пусть попробует только!
– А чего не попробовать, – глумится Марина, – можно подумать, вы особенные.
И как-то всем становится понятно, что запросто придет и грабанет. И еще издевательски как-нибудь все устроит. И нет почему-то против нее приема. Вот ведь – Илюхину железную дверь открыла, почему бы и эту не открыть. Глазками своими быстро все назырила, что почем. Ей теперь красть – две минуты только, войти и выйти.
– Вы думаете, сигнализацию поставите и будете как в банке? – Марина совсем распоясалась, учуяв звериным своим чутьем их растерянность. – Ни хрена подобного не будете. Провода всей вашей сигнализации поперекусываю, на двери ваши плюну три раза и войду. У меня заговор есть.
Она совсем вошла в раж. Будет она их бояться! Пусть они сидят дрожат и ждут своего часа. Пожалеют еще, что впутались во все это. Дали б уйти спокойно. Можно подумать, унесла она у них десять тонн сокровищ! Украшения непонятно какой цены и деньжат пачечку жалкую, как это людям не совестно так жить! А еще в Центре.
– Это кто тут к нам пожаловал такой смелый?
Перед Мариной-воровкой предстает новый смехотворный персонаж. Ну, с ними не соскучишься, честное слово! Бабка выползла! Восемьдесят, а может, все сто ей? Этой что надо? Халат на пузе потертый, шлепанцы, волосы седые узлом. Взгляд колючий, неприятный. Ежится Марина от ее взгляда.
– Ну что? – вопрошает старуха. – Нам сидеть бояться, когда ты сигнализацию перерубишь, а тебя никакой страх не возьмет?
– Ага! – кивает Марина.
– А отчего же такое бесстрашие, позволь поинтересоваться?
Пусть, пусть узнают, рыбы фаршированные!
– Диагноз у меня! Справка! Приедут менты, все равно отпустят. Больная я.
– Психическая? – участливо любопытствует старушенция.
– Клептомания, – поясняет Марина гордо.
– А-а-а! Вот оно как!
Старуха что-то медлит, пристально вглядываясь Марине в самое нутро. Губами пожевывает. Марине вдруг делается обидно. Спать пора! Устала она. Ночью подъезд караулила. После трех эти дебилы наконец вошли, она за ними втихомятку. Этот тому орет: «Я один, я один, все на даче, все на даче», а тот: «Пошли к нам, пошли к нам!» Минуту какую-то времени упустила. А то бы уж дома у себя спала, а не разговоры разговаривала со всеми этими. Уроды! Все равно ведь будет не по-ихнему. Только время отнимают.
– А все же ты напрасно думаешь, что у нас на тебя управы нет! – провозглашает внезапно старуха. – Смотри-ка сюда!
Она указывает узловатым пальцем себе на грудь, пониже морщинистой шеи.
– Смотри внимательно! Видишь?
– Что «видишь»-то? – тревожится вдруг Марина, пристально глядя на указанное старухиным пальцем место.
– Смотри! Смотри!
– Ну???
– Черную кнопку видишь?!
И правда! Под старческим пальцем оказывается какая-то черная блестящая кнопка, как на дверном звонке.
– Видишь черную кнопку?!
– Да! – ужасается Марина.
– Вот я сейчас нажму на эту кнопку (она у меня без проводов, ничего перерезать невозможно), вот я на нее нажму, и ты увидишь тех, кого ослушаться не сможешь. Ты поняла?
– Поняла, – шепчет Марина.
– Я считаю до десяти! На счет «десять» нажимаю кнопку, и они появляются.
– Не надо, – пугается Марина, но глаз от кнопки оторвать не может.
– А с тобой иначе нельзя. Внимание на кнопку!
Старухин палец постукивает по черной полированной поверхности.
– Раз! Все внимание сюда!!! Два! Смотрим, не отрываясь! Три! Сосредоточились на кнопке! Четыре! Глаза широко открыты! Пять! Дышим глубоко! Шесть! Готовимся к встрече! Семь! Пристально смотрим! Восемь! Девять! Десять! Вызываю!
Сразу ли после вызова появились они или прошло какое-то время и сколько, Марина так и не поняла. Это все у нее как-то не поместилось в голове и вываливалось оттуда при любой попытке обдумать что да как. Они были огромные и очень страшные. Ни в одном кино таких не увидишь. Вот оно как! В кино не увидишь, а наяву пришлось! Штук десять. «Человек десять» язык не поворачивается сказать. На людей не больно похожи, только что шевелятся, как люди, и разговаривают понятно. А так… Эсэсовцы какие-то с клыками. По пять глаз на мордах. Из ушей – и то глаза торчат. Старухины у всех глаза. Торчат во все стороны, куда ни отвернись от них.
– Что с ней делать? – спрашивают у старухи хором.
– Отучить воровать! – приказывает им их начальница. – Чтоб и мыслить о воровстве не смела! Чтоб при одной мысли испытывала дурноту и ужас!
– Тебе страшно воровать! – воют ужасные. – При одной мысли о воровстве ты испытываешь ужас, ты не можешь пошевелиться, тошнота и рвота мучают тебе!
Марина пытается закрыть глаза, чтоб только не видеть их. Но глаза не закрываются.
– Я отказываюсь от воровства! Повторяй! Я отказываюсь от воровства!
Воровка повторяет и повторяет, не понимая даже за кем, кто приказывает ей, кому она подчиняется.
– Ты сейчас уйдешь отсюда и забудешь этот дом. Помни только про черную кнопку! Всегда помни про черную кнопку! Выведите ее вон! – командует старуха.
Кто ее вывел на улицу, как она оказалась в своей квартире, это Марине неведомо. Как и не памятны события недолгой июньской ночи. Воровать не тянет. При одной мысли что-то страшное мерещится, жуткое нестерпимо.
Илюша до сих пор не может понять, что там у Петькиной бабушки была за кнопка и почему воровка так прибалдела.
Петька все пытается объяснить, но он сам слышал краем уха, не вслушивался раньше, поэтому пояснения его туманны и расплывчаты.
– Прадед мой, короче, любимый ученик Бехтерева. И Бехтерев[1] был даже бабкиным крестным.
– Ну и чего этот Бехтерев?
– Так он всеми этими делами занимался. Телепатией там всякой и все такое.
– А бабушка твоя чего?
– Она у отца своего училась. У прадеда моего.
– Телепатии?
– Да нет, ну вообще-то она врач. Научной работой занимается.
Пора все-таки у своих все подробней порасспросить, может, и у него когда-нибудь появится эта… Незаметная черная кнопка.
Вуду-дуду и все остальные
Большинство итальянских городов устроено одинаково: античный центр со средневековыми наростами, возрожденческие дворцы, муссолиниевские дома-коробки без затей для пролетариев времен больших предвоенных надежд, а далее уж что придется. В центре же обязательно должен быть театр, а то и несколько. Когда-то опера – любимый жанр – процветала. Зрители по много раз посещали одно и то же представление, лишь бы дышать одним воздухом со своими кумирами, лишь бы упиться звуками их дивных голосов. Ложи абонировались на целый сезон. В их мягкой бархатной глубине разворачивались несусветные драмы и фарсы, от самоубийств и торопливых адюльтерных совокуплений до банального мордобития. Обстановка располагала: диваны по стенкам, столики для винных бокалов и милой дамской чепухи – биноклей, перчаток, вееров. Каждая ложа отделена от остального мира тяжелыми драпировками. Хочешь себя показать – облокотись о парапет, поведи плечами, ощути жгучесть постороннего любопытства, утешься им. Нет – откинься на своем ложе во тьму принадлежащего тебе пространства и наблюдай, как бурлит, пенится и оседает пылью время, которое придумали себе люди.
Теперь времени приказано течь по-иному. Ложи как место свиданий и тайн остались в прошлом. Тайн не осталось. Нет, каждому, конечно, есть что скрывать – ну там целлюлит на бедрах, количество подтяжек и лет. Но с этим как-то можно сжиться, обустроиться в окружающей среде. И даже мало-помалу сделать себе имя на разоблачении некоторых интимных подробностей своего существования. Главное, чтоб быть на виду и чтоб про тебя знали. Такая вот бархатная революция осуществилась. От секретных садов к полному их обобществлению и дальнейшему сведению с лица Земли. И все стало как-то скучно, потому что было миллиарды раз. Одна только вера и надежда, что где-то в недрах не обжитых еще до конца континентов зреет нечто еще невиданное и осталось у сытого на данный момент культурного содружества наций.
Иногда и случается. Съезжаются, как в добрые старые времена, разряженные в пух и прах по мере возможностей ценители эстетических ощущений и новизны. Говорят, певицу привезли из глубины Черного континента. Сама необыкновенная с необыкновенными музыкантами на необыкновенных инструментах. Голос необыкновенный. И все остальное. Самородок. Весь город (античная, средневековая и дворцовая его части) стоит на ушах, стремится услышать, невзирая на цену билета. Никто и не замечает, как трагически и бесповоротно распалась связь времен, настолько распалась, что некому даже прокричать или хотя бы прошептать: «Люди, будьте бдительны! Возьмите с собой продукты, бесполезные для пропитания, – гнилые помидоры, несвежие яйца! Вы ж не ТВ идете смотреть. А вдруг все будет не то и не так? Как же вы станете выражать свое отношение к низкому уровню мастерства?»
Ничего. Все схавают. И микрофоны, и звукооператоров, суетливо регулирующих качество и силу звука, и мощные усилители, нелепо громоздящиеся по периметру зала.
Свет гаснет. Темнота напряженно ждет.
Наконец показывается стройное бритоголовое африканское сокровище в полупрозрачном платьице с гитарой через плечо, за ней – крепкая негритянская команда, скорее похожая на телохранителей, чем на музыкантов. И начинается концерт племенной художественной самодеятельности: «Гуд ивнинг, ледз энд джентелмен, найс ту си ю», так сказать.
И все движется своим чередом, вялотекуще, хронически, безнаказанно. Нет, за прошлые заслуги могли все-таки пощадить великолепный зал, не предавать поруганию. Он таких титанов видел и слышал! А тут действует закон природы номер один – она не терпит пустоты. Нет исполинов – культурное пространство не опустеет, заполнится пигмеями. Тем более никого этот факт не жжет, не губит.
Первое отделение благополучно добирается до финальных аккордов, и тут весь зал оборачивается к самой дорогостоящей ложе, расположенной напротив сцены. На красном бархате парапета стоит босая юная женщина. Ей не нужны подсветка и усилители. Сияет ее кожа, платье.
- А у меня есть
- Дружок давний, —
песня драной русской души наполняет театр без ненужных слабаческих приспособлений, —
- Да он теперь
- В сторонке дальней…
Голос подчиняет себе все. Как паводок, без спроса проникает куда не звали. Против такого не устоишь. И убежать не удастся. Остается только плыть, куда тянет стихийная сила.
- Придет милый,
- Выйду в сенцы,
- Ах, расскажу,
- Что есть на сердце.
Зрители застыли. Тишина. Певица выглядит, как мифическая сомнамбула. Страшно аплодировать, страшно будить. Ждут еще. Только лысая артистка на сцене возмущается, вертит блестящей головой. Не знает, чем взять, чтоб вернуть себе силу толпы.
А тут грядет шаляпинское, оказавшееся подвластным этому низкому лунатическому звукотечению:
- … О-о! Как сладостно сердцу!
- Ах, если б навеки так было!..
Ложа уже освещена. Все театральное собрание возбужденно встает, разрывая тишину, оставленную улетевшей в райскую высоту песней.
– Brava!!! Brava!!!
Коллектив на сцене тоже пробуждается от гипнотического столбняка.
Они смотрят друг на друга, эти неевропейские дикие миры. Для черных артистов она – белая бриллиантовая богачка, отнимающая у них хлеб. Лохматый парень из африканской свиты яростно выкидывает вперед средний палец. Напугал!
Она отвечает интернациональным жестом: выбрасывает вперед сжатую в кулак правую руку и как ножом проводит левой по локтевому сгибу.
Публика, окрыленная жгучим немым диалогом, неистовствует.
Девушка спрыгивает в недосягаемую тьму ложи и мгновенно исчезает вместе со спутником.
Они идут по пустой площади.
Девушка зябко кутается в шубку. Изо рта вырывается пар. Кто придумал, что Италия теплая страна? Март, а без шубы не обойтись.
– Grade, сага! – Провожатый бережно поддерживает свое сокровище. – Ах, как же ты пела! Мне было сладко во рту от твоих песен. Нет-нет, не отвечай, дыши в воротник – горло застудишь.
Заходят в ресторан. Владельцы его – большое семейство – устроились перед телевизором: гостям еще рано, все в театре. После представления начнется беготня, ни одного пустого местечка не останется.
– Как Африка? Не понравилось? – любопытствует хозяин, принимая заказ.
– А! – выразительно отмахивается гость. – Nulla – пустое место.
– Так я и говорил, – кивает хозяин, – выброшенные деньги. Их француз привез. Импрессарио у них – француз. Никто его не знает. Жулик, и все.
Он приносит вино и душистый теплый хлеб, чтоб гости утолили первую жажду и первый голод.
– За тебя! За твой голос! За твое будущее! – влюбленно воркует мужчина. – Я так мечтаю, чтобы ты снова начала петь. Сейчас – твое время. Ты можешь все. Ну же! Улыбайся, радуйся! Молодость, талант, красота! Мир у твоих ног. Я всегда рядом.
Девушка кивает и улыбается скованно. Ей не хочется огорчать своего спасителя, своего нового любящего мужа. Ей, как птице зимой, необходимо переждать, отогреться. Она будет петь, совсем скоро. Сердце оттает, оттает.
Ей кажется, она много старше своего пятидесятилетнего спутника. Не может быть, чтоб ей было только двадцать шесть. Ладно, пусть все думают, что она молодая, она не станет разубеждать. Да и кто ей поверит? Разве что только тот, кто из одной с ней страны, в которой всякие чудеса возможны.
Вот всего год с небольшим назад она была совсем девчонкой. Не оглядывалась на то, что позади, не думала о том, что впереди. Жила настоящим. Пела, любила, дружила.
У нее был голосище, который делал ее невесомой, стоило ей запеть. У нее был муж, старше всего на четыре года. У них была долгая любовь – сначала школьная, потом супружеская. Ее не хотели отпускать за него замуж – зачем такой ненадежный вариант при таком грандиозном таланте? Он поклялся, что станет богатым, сильным мира сего, все обзавидуются его жене. Не верили, ясное дело. Замуж, правда, разрешили.
А он стал! И богатым, и сильным. Они любили друг друга. Летали на выходные в разные страны. С ними случались настоящие приключения: снежная лавина в Австрии (они выкарабкались), ядовитая змеюга заползла в палатку в Африке (заметили вовремя), ураган во Флориде (крышу их бунгало снесло ветром, как пушинку). Страха не было. Только интерес: что еще? Что дальше? Как будто все не с ними, а в кино про них.