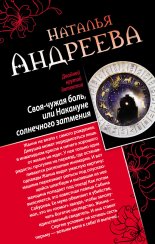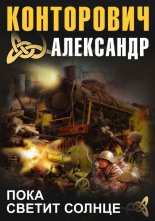От мужского лица (сборник) Соломатина Татьяна

Рисовальщик
«Чуть сходят снега, выбираемся в деревню. В старый дедовский дом.
Участок низкий, неприютный, у самого леса. Только дальний угол его, где одиночкой растёт дуб, повыше. И солнышко туда чаще заглядывает. До обеда – через просеку. Потом уже и поверх молодой берёзовой рощицы. Ни грядок, ни цветов. Чистенькая поляна из соломенных клубков свалявшейся травы. Сверху она подсыхает быстро – и так и тянет прилечь. Как на лоскутную попону, что на печи в доме. По ночам ещё подмораживает, и дед подтапливает печь и запаривает гречку в чугунке. С подсолнечным маслом и сушёным укропом. У него очень вкусно получается.
Ходишь к дубу, мнёшь траву руками – под ней ещё хлюпает. Ни сесть, ни лечь. Сразу мокрый будешь. Только у самого ствола, где корневища, ещё можно кое-как притулиться.
Солнце пригревает каждый день, но вода не уходит. Промёрзлая земля не пускает. Если б ветерок – быстрее бы дело пошло. Да разве дождёшься тут, под лесом-то! С виду поляна уже совсем сухая. Хочется прильнуть, надышаться соломенным запахом, а то и покемарить чуть. Такие сны яркие и весёлые здесь, под дубом. Особенно если днём, после обеда. Закроешь просто так глаза – и вроде и не тянет совсем в сон. Мысли всякие. Лето скоро. Не сразу, конечно. Сначала верба запушится. Потом лаковые листочки на берёзах повыскакивают в одну ночь. Или это только так кажется, что в одну?.. А потом как взлетишь над незнакомыми холмами! И стены крепостные с башнями. Флаги развеваются, хлопают на ветру. Потом всё громче и, кажется, уже в такт… Глаза распахиваются сами собой. Дед дрова колет. «А ну-ка, хватит бездельничать! – кричит. – Заноси в дом, складывай у печи, пусть подсохнут». Буркнешь что-то в ответ. И только услышишь, снова закрывая глаза: «Вот паршивец!» А крепостных стен среди холмов уже и след простыл. Лес какой-то чудной вместо них. Ветвями, как лапами, в землю упирается. А самой земли и не видно. Черно всё. Страшно… Глаза разлепишь, как через неохоту, вот она поляна. Солнечная, лоскутная. Ну когда же, когда?! Когда холод и сырая хлябь уйдут туда, где им и положено быть, – в землю? Этого ждёшь с остервенением. Прям до дрожи. Как будто податься больше некуда. И правда, некуда. Кругом слякоть одна. Дорожки в грязном месиве. Самым утром ещё ничего, если ночью морозец пристукнет. Но чуть солнце пригреет, даже и через тень, тут же потекло. Не удержишься, бывало, встанешь на колени, разгребёшь сверху подсохшую листву, а там жёлудь. Чистенький, и шляпка-берет крепко держится. Потемневший, но целый, не потресканный. Мать ругается – ей штаны-то стирать. А что стирать? Это же земля да вода. Ничего брезгливого. Но не объяснишь…
Никогда не дожидаемся. Родителям надо в город. А с дедом меня в это время одного в деревне не оставляют. Не знаю почему. Вот потеплеет, говорят, соберёмся как следует… И чего им нужно всё время «как следует» собирать? Теперь только в мае. Я знаю. Тут всё уже совсем другое будет. Дед на поляне граблями листву сгребёт, жухлую траву причешет. И только он один будет видеть, как выбивается новая. Сначала еле заметными отдельными стрелками зелени. Потом – пятнами. Позже вся соломенная поляна превратится в рваное зелёное одеяло, пока новая трава ещё не подрастёт и не ляжет, шёлковыми косами сглаживая неровности и приговаривая к неизбежному гниению старую. Дуб распушит крону. Но он высокий и не будет мешать солнцу согревать моё любимое нежное травяное ложе. Если лечь на спину, поближе к стволу, ощущение, что ты под крышей дома. И в то же время снаружи. Открыт тёплому ветру и солнцу.
Родители как всегда отправятся в свой традиционный поход на байдарках. Отец потом будет показывать слайды через проектор, повесив простыню на стену, как экран. И напечатает много чёрно-белых маминых портретов. Мама на них очень красивая.
Пока их нет, мы с дедом отпразднуем мой день рождения. Пойдём на реку наловить окуней, а потом, вечером, разожжём большой костёр и зажарим их на ивовых прутьях. Дед разведёт мне целую банку морса из запасов черносмородинового варенья, а сам выпьет «беленькую». И, взяв в руки картонку или обрывок ватмана, в свете костра карандашом нарисует мне мой день рождения. И окуней, и костёр, и крону дуба под звёздным небом. И даже меня. Нарисует, даст мне налюбоваться, спросит: «Запомнил?», а потом заберёт и бросит в огонь. Себя он почему-то никогда не рисует. Только рассказывает. Много рассказывает. Про войну. Про лес. Про то, почему «она» ругает меня за грязные штаны, и про то, что байдарки – дело опасное для четырёхлетнего пацана. А мне, между прочим, этим летом уже пять будет…
Первый раз это произошло во вторник. Даже сейчас я помню это очень хорошо.
Мне уже шесть. Наташке, что живёт этажом ниже, прямо под нами, – столько же. Мы сидим на скамейке у подъезда и ждём, пока кто-нибудь из родителей вернётся с работы. Тогда можно будет отпроситься погулять в парк. Как обычно. Благо до него совсем недалеко.
«Мороженого бы сейчас!» – мечтательно говорит Наташка. Очень жарко. Я шарю в карманах шортов – только три копейки. Мало.
Наташка мне очень нравилась. Такая вся кругленькая, как плюшевый медвежонок. С жёсткими чёрными кудряшками и огромными глазами, распахнутыми как ромашки. В шесть лет влюбляешься, как щенок. И ведёшь себя соответственно. Поэтому я взял и нарисовал ей мороженое.
Когда рисуешь, карандашами там или гуашью, получаются только очень странные собако-медведи, ракето-ёлки, солнце-колобки и кувшино-яблоки. Что очень любят училки в изостудиях для подготовишек. Особенно последнее. Но это всё не то. Я уже тогда знал. И даже больше того. Я уже тогда знал, что если кто-то постоянно рассказывает и показывает тебе «как надо», то такое «надо» на самом деле никому не надо. Просто всем так удобнее. Но рисовать по-настоящему можно, только если очень хочется. Как будто ты влюбился. А ещё лучше – взаправду влюбиться.
Наташка мне очень-очень нравилась. Мороженое получилось – закачаешься! Крем-брюле в вафельном стаканчике – наше любимое – с розочкой поверх. Ледяное – как только из лотка. И большое. Одной рукой не ухватить. Я всегда знал, что стаканчик крем-брюле должен быть именно такого размера – как ведёрки для куличиков у малышни. Да это все понимали. Просто выбора не было, вот и мирились. А мне-то что! Что хочу, то и рисую.
Наташка глаза вылупила. Прямо остолбенела на миг. Следом расплакалась и домой убежала. Испугалась. А чего такого-то? Правда, я и сам расстроился так, что словами не передать. Когда взрослые чего-то не понимают или обижаются из-за какой-нибудь ерунды – это нормально. Они другие. Большие. Где-то там их взрослый большой мир, откуда они приходят иногда, говорят всякие сложные слова, наверное, из тех толстых и неинтересных книг, каких у них полно, делают что-то, настаивают на чём-то. Но когда кто-то из своих… Это странно. И очень неприятно. Огорошивает. Так что я посидел ещё немного один. Думал, идти в парк или нет? Ничего не надумал. Потом съел мороженое. Жарко же.
Вечером мне от моих попало. За то, что у Наташки случился «солнечный удар» и «галлюцинации». Мол, всё из-за того, что я «болтаюсь неизвестно где» и её за собой «таскаю». Это неправда. Во-первых, известно где. А во-вторых, она сама «таскается». Можно подумать, кто-то кого-то заставляет, когда дружишь! И что это такое – «галлюцинации»? В общем, с Наташкой стали редко видеться. Как-то так само получилось. Взрослые умеют это делать – чтобы всё как будто само собой выходило. Но не всё, что они из этого «само собой» выделывают, получается хорошо. Лично для меня после того дня само собой вышло, что я испугался. Не то чтобы там, а просто подумалось вдруг: «Если какое-то несчастное мороженое человека может так расстроить, то что бы случилось, если бы я дирижабль нарисовал?!» Хотя при чём здесь дирижабль? Наташка дирижабль бы ни в жизнь не захотела! Но ведь она много чего могла захотеть. Чего там девочки обычно хотят? На Луну полететь. Нет. Это тоже мальчики. Ну, например, чтобы зима пришла немедленно. Санки там, в снежки поиграть. Ну и что? И нарисовал бы. И не замёрзла бы она у меня той зимой в своём летнем платьице! Что я, дурак, что ли, совсем? Шуба, шапка, валенки – всё было бы, как положено. Не в этом дело. Просто вид у Наташки, когда я мороженое нарисовал, был такой, что я не захотел, чтобы ещё у кого-нибудь когда-нибудь был такой же. Я испугался, что ещё могу кого-нибудь так испугать. Вот. Это, наверное, будет самое правильное объяснение. Просто не захотел. То есть перестал хотеть. А разве можно что-то делать, если не хочешь?
Понадобился от силы год, чтобы понять, что, да, можно. Запросто можно что-то делать, даже если ты этого не хочешь. В школу ходить, когда не хочешь. Уроки какие-то дурацкие делать, когда не хочешь. Не смеяться, когда смешно. И плакать, когда не собирался. Жизнь – это какое-то совершенно непонятное несоответствие желаемого действительному. Почему так?
Как-то раз, разыскивая свой мешок со сменкой в джунглях раздевалки, я ругался и бурчал себе что-то под нос, когда был прихвачен за ухо нашей старенькой, ужасно противной уборщицей. Она поволокла меня в кабинет к директору и сказала, что я обругал её нехорошим словом на букву «б». «Никого я не ругал!» – объяснял я нашей директрисе. А если и буркнул что, так уж точно не то слово, а совсем другое. Оно, конечно, тоже на «б», но у нас все так ругаются. Блин! Я тогда ещё не знал, что значит «оправдываться». Впервые почувствовал себя в этом состоянии сознания. Это было очень неприятно. Директриса ругалась, кричала, что прямо сейчас вызовет с работы моих родителей, а глупая старая уборщица стояла, ухмыляясь, и просто ждала, когда будет вынесен окончательный приговор. Я всего лишь хотел, чтобы мне поверили. Это же так просто – поверить и понять, что всё, что сейчас происходит, – его на самом деле нет! Но всё продолжало происходить. И тогда мне стало очень обидно. До такой степени, про которую взрослые говорят «больно до слёз». И странное бесконтрольное желание вылезло откуда-то изнутри меня в мир. И я нарисовал. Я рисовал ярко и красиво. Как видел в книжках с репродукциями старых художников, что стояли на одной из полок у отца в кабинете…
Огонь рвал стены каптёрки, где уборщица хранила свои вёдра и швабры. Он обрушивал потолок и бил стёкла в окнах. Он уже готов был ринуться к небесам, как из жерла Везувия, но… тут непонятное чувство, очень похожее на злость, только ещё злее, ярче и чище, ушло. Я перестал рисовать. И понял, что стою вместе со всеми учениками на улице. Из окон на углу первого школьного корпуса – там, где кабинет труда и каптёрка – валит дым. Вокруг шум, гам, крики учителей, вой сирены пожарки, вносящейся во двор со стороны задних ворот. Директриса вся всклокоченная, уборщицы вообще нигде не видно… В общем, ужас какой-то! Когда всё это успело произойти?
Нас всех отправили по домам. Но вечером училка звонила родителям и говорила, что занятия не отменяются, пожар был каким-то там «локальным» и вообще практически ничего не пострадало.
Про меня забыли. И про мой ворчливый «блин», не такой плохой, как другое слово на «б», тоже. Я и сам об этом забыл. Обо всём, кроме странного ощущения провала во времени и того яркого чувства, что было во много раз сильнее обычной злости или обиды. Это оставалось со мной долго. Лет до двенадцати, насколько я сейчас могу припомнить. До того самого зимнего вечера в парке, когда я, прогуливаясь и размышляя о всякой всячине, наткнулся на брошенный кем-то незатушенный костёр. Было холодно. Пока идёшь – ещё ничего. Но стоит остановиться на пару минут, и морозный сквозняк быстро забирается под одежду. Поэтому угольно-красный зев чужого огня показался мне в тот момент каким-то совершенно фантастическим подарком. Прибежищем для моих одиноких блужданий и мыслей. Присев с этим чувством на пенёк поближе к костру, я отдался фантазии. Знал ли неизвестный странник, что тепло разведённого им огня коснётся другого странника? Предполагал ли? Вряд ли. Но какая-то странная связь была во всём этом. Чем дольше я сидел, тем ближе и роднее мне становился не только жар углей с редкими сполохами пламени, но и ветер, и чернеющие громады дубов старого парка, и сама ночь с её безвременьем, и я сам… Да. Именно я сам вдруг стал ближе к себе, чем когда-либо раньше. Это было чудесно. Картина того вечера поглотила меня. Но не растворила, как бы это мог теперь сказать я – взрослый. Я просто первый раз почувствовал себя дома. Во всех возможных смыслах этого состояния. Включая распоследний философский. И как истинная картина мира, она лишь казалась неподвижной, статичной. На самом деле она парила. И я знал это тогда. Знал. И желание, естественней которого просто немыслимо было представить в тот момент, заставило меня нарисовать. Это просто, когда знаешь. Это всегда холодком на кончиках пальцев. Я рисовал себя, впервые понимая, что делаю. Я парил. Вместе с хулиганским ветром. Среди кряжистых ветвей. Над алым пятном пламени в снегу. Под быстронесущимися облаками ночи. В моём парке посреди огромного города… Нет. Никогда не забыть мне такого – как, лёжа на струях ветра, трогать мёрзлую кору дубов. Как, поднимаясь над раздетыми кронами, понимать, что власть земли и корней ничуть не больше власти порыва и стремления…
Дружелюбный огонь неизвестного странника оставил свой след. Предначертания. Вот что не отпускало меня следующую пару лет. Именно столько понадобилось, чтобы понять: истинные желания обречены быть исполненными. Но насколько это трудно и редко – действительно желать чего-то.
«Я хочу эти чёртовы штаны!» – орал я на своё отражение в зеркале накануне тринадцатилетия. И я, правда, хотел такие же джинсы, какие приволок Витьке-однокласснику из плаванья его отец. Я не понимал. Совсем не понимал, почему, когда я действительно хочу, не вздрагивает холодный огонь на кончиках пальцев? Я не мог рисовать. Это уравнивало в моём сознании вожделенные джинсы с кувшино-яблоками, на которые мне всегда было наплевать.
«Я могу быть солистом! Уж в любом случае получше, чем эта бездарь, способная выдавать только пошлую бредятину собственного сочинения под срисованные с Led Zeppelin соляки!» – шипел я в подушку, перед тем как заснуть. Мне надоела бас-гитара. Вечно на втором номере! И всё равно я не мог рисовать. Даже близко не оказывался рядом с тем ощущением, когда волокна вещества жизни и времени безупречно смешиваются на палитре – и рождается картина. И это я! Который мог сотворить для предмета своего сердца, чего бы она ни пожелала. Да хоть бы и дирижабль! Тот, кто мог породить стихию ярости. Тот, кто оторвался от земли! На черта нужен дар, который неподвластен мне и проявляет себя, когда захочет?! «Когда соблаговолите приступить?» Разве спрашивает художник у красок и холста? Чушь! Желания сыпались из меня, как из рога изобилия. Но ни одно из них не смогло родить холодный ток на кончиках пальцев. И в конце концов не осталось места, где я хотел бы быть. Разумеется, я не понимал тогда, что это касалось только тех мест, чувств и мыслей, которые уже были мне известны. Бежать! Бежать безоглядно – только это пульсировало внутри. И… огонь зажёгся. Холодный огонь на кончиках пальцев.
Я рисовал неистово, почти безумно. Я перестал помнить всё, кроме того, что ноги должны идти. Всё моё естество сосредоточилось в опорно-двигательной системе тела. Я жил ею. И в то же время ждал перемен. А кто не ждёт? Даже в самом страшном угаре безумия.
Я рисовал один пейзаж за другим, испытывая чувства древнего человека, который решился наконец покинуть насиженное его племенем стойбище и отправился в неизведанные земли. Теперь понятно, почему они считали землю центром мира. Да обыкновенная смена климатических зон уже не оставляла выбора воображению! Масштабы границ сливались с масштабом восприятий и с несоразмерностью затраченных на их постижение усилий. И как результат – ближайшая самая высокая гора – центр мира. Понятно. Центр там, откуда можно оглядеться. А всему остальному нет ни конца ни края. Но любая бесконечность последовательна. И состоит из вполне себе конечных вещей.
Вот таёжная глушь в знойном мареве гнуса. Липкий пот. Голод. И свежесть спокойной реки. Пара рыбин, зажаренных на костре, – и снова в путь.
Пустая выжженная долина, ущелье, разбитое селями, перевал, где индевеют ресницы и стоптанная обувка соскальзыват с ледяной корки на краю бездны…
Пустошь. Кресты. Почерневшая дранка приземистых крыш. Хлипкие огоньки света среди царства чёрных одежд. И пытка добровольным отказом даже от ожидания перемен…
Гладь до горизонта и ярость солнца. Призраки воинов и запах верблюжьей шерсти…
Тугой пластилин воды, сковывающий движения усталостью и отчаянием. И попутный бриз, когда ты на волне…
Но мне нет места среди мест.
Холодные токи иссякают. Руки опускаются, и пальцы чувствуют прохладную влагу песка. Волга. Простая, как всё русское. Широкая, как орда. Дремучая людьми и открытая безбрежьем небес, под которыми живёт…
Нет. Вот только теперь. Сейчас. Холодный огонь погас. И пальцы впились в гриву волос…
Шесть месяцев непрерывного откровения, стоптанные каблуки ботинок и огрубевшие руки. Меня, оказывается, искали! Сначала испуганно спрашивали, что случилось? Потом – гневно ставили в упрёк. Потом в назидание. А потом как-то там уладили со школой и плюнули. А что я мог им рассказать? Как мы с жившим неподалёку степным орлом, прогуливаясь по накатанному водой дну сая[1], рисовали друг друга наперегонки. Кому это интересно? Я снова дома. Но стены комнаты больше не давят. У меня своя. Родители устроили обмен. Я уже взрослый. Да. И мне всё ещё нет места. Но теперь это не волнует меня. Я и раньше делал то, чего мне совершенно не хотелось. Почему бы не делать это и дальше? Всё равно я уже стар как мир. Нарисованное мной – это я. И я не просто стар. Я дремуч, как Святогор. Подойдите ближе, новые богатыри, я расскажу вам, на что не стоит посягать…
Я старел с каждым днём. И к пятнадцати уже, казалось, должен был принять все представления о потустороннем покое. Казалось бы. Но глупое провидение. Дурацкое! Которому абсолютно наплевать на то, что оно вытворяет, – лишь бы тешить себя и дальше. Оно выкинуло свой излюбленный козырь. Я влюбился.
Бог мой! Только руки художника способны на такое! Без пяти минут вросший по плечи в землю-матушку артефакт – и вот уже я маленький зелёный огурчик, только народившийся из соцветия. Крепкий и беззащитный.
Но нет! Я впервые не дал себе воли. Холодный огонь струился с кончиков пальцев, как кровь из глубоких ран. Он растекался под ногами, заполонял собой всю мою небольшую комнатку в отчем доме, выбегал за порог, за дверь квартиры, вырывался… Он хотел всё сделать сам. А мне было даже смешно смотреть на жалкие потуги случайно упавших на холст красок создать картину. Я трепетал и купался в ожидании. Я очистился до игры света богемского хрусталя. Но не позволял себе рисовать.
Её звали Алла. Мне никогда не нравилось это имя. Но это всего лишь имя, подумаешь. Она многим нравилась. И ей нравилось нравиться. И за этим что-то стояло. Остальным было не понять. Они шли за этим «чем-то», как крысы за дудочкой Нильса. А я знал. Не мог объяснить, но знал. Это сейчас я понимаю, что, как и остальные, выдавал за знание свою уверенность. Но тогда я просто знал. И этого было достаточно. И тем нетерпеливее становилось ожидание. И тем слаще становилось нетерпение. И тем глубже сладость проникала в меня. И когда желание уже готово было меня убить – лишь бы вырваться на свободу, – я позволил себе первый штрих. Так. Намёк. Несколькими линиями. Не облекая в сюжет. Опасаясь мастерства. Чтобы не напугать. Чтобы больше никогда не увидеть того ужаса в Её глазах…
Но ужас – коварный дрянной шакал! Не найдя возможности пристроиться в ожидаемом месте, он плюхнулся всей своей тушей в первые попавшиеся распахнутые, как калитка на ветру, глаза. В мои глаза.
Глазами ужаса я впервые видел, как плоть сладостно терзает плоть. Там, где должен был быть я – за несколькими изящными штрихами. Там – в двух движениях от конца ожидания. Там оказался Витька-одноклассник. И тут же крупными, яркими, масляными мазками – её груди, развесистые, как спелый крыжовник. И струйки пота из-под мышек и по вискам. И сводящий с ума запах стремительно разлагающегося желания… Там. Через окно, в которое я по привычке заглянул, прежде чем зайти. На даче Витькиного отца, где мы договорились встретиться. Мы с ним дружили. По-настоящему. А теперь – кто знает? Или это всё просто такая игра – «дружу – не дружу»? И разве не Витьку я хотел набросать твёрдым штрихом на этой же картине своего желания? Просто не успел. Не с того начал? Но это было правильно! Всё было так правильно! Было.
Я стоял и смотрел, а ужас сидел в моём теле, как в крынке с молоком, и лакал. И я не мог его остановить. Он вылакал всё до конца. И ушёл. А я – пустой гулкой посудой – остался. Нет. Не там, под окном. Просто остался. Как никому не нужная, вышедшая из обихода вещь.
Холодный огонь на кончиках пальцев иссяк. Но тот, что уже вылился, не найдя воплощения, не исчез. Он сгустился. Стал походить сначала на мутные лужи. А потом – на смердящую зловонием грязь. Которая, как в глупом фантастическом фильме, бесформенной биомассой сползалась обратно ко мне отовсюду, заполняя вылаканную ужасом крынку. Пока не заполнила меня целиком. Тогда – всё вокруг опустело и превратилось в бесконечный сон. А я превратился в нарыв, откликающийся болью при малейшем прикосновении.
Разве мог я знать тогда, что тот ужас, вылакавший меня до дна, – он даже не зверь. А всего лишь недовызубренный когда-то урок химии.
И лишь мой мозг, оберегая себя от нашествия орды гормонов, нашёптывал мне вечерами: «Зачем боялся? Чего тянул? Что кто-то из них увидит, как ты рисуешь? Да как же им не увидеть, если ты всех без разговоров пускаешь внутрь себя! Не пускай! Бери от них, что хочешь, и не оглядывайся. Их смех – обман. Их плач – ловушка. Их спокойствие – сначала обман, а потом – ловушка. Рисуй им мороженое – и хватит с них! Истинное искусство – не для всех. Оно – для самого творца. А остальным – что останется».
В летнем трудовом лагере, под раскидистой жёлтой черешней, нарыв лопнул.
Её звали Мила. И мозг подсказал мне, что в этом случае можно обойтись даже без мороженого. Зачем что-то рисовать, когда её голова на твоей груди, а твои руки на её бёдрах, и от ящиков, полных спелых плодов, – слабый запах смолы, и полудрёма наломавшегося от работы тела сама регулирует порыв… Крынка опустела. Ядовитая биомасса вылилась из неё, издавая сладкий запах пота и покой. И разум, на правах старшего по званию, в пару приёмов занял собой всё ранее ему не до конца подвластное пространство, упредив нерасторопную влюблённость и не дав ей ни шанса. Ни ей, ни тем более ничему большему, кроме пряного аромата обыкновенной похоти.
Год пролетел где-то за кадрами плёнки с простыми и суровыми умозаключениями. Чисто по-мужски. Там же, в стрекоте проектора, растаяла милая Мила. И звонкая нервная Ирка. И боязливая томная Женька… Плёнка всё стерпит. Она трещит в проекторе и показывает. Трещит и показывает. А потом уже просто трещит. Потому что все спят. И всё спит. И только разум – агрессивный страж своих владений – следит, чтобы никакая случайность не вывела из анабиоза истинные желания. Ведь тогда ему придётся потесниться перед тем, что умеет рисовать.
А потом школьные двери закрылись за спиной в последний раз. И все мы, кто так долго против своей воли или вовсе без воли были вместе, оказались поодиночке там, где, может, и не все предполагали оказаться. И на смену игре «дружу – не дружу» пришла другая: «Зачем?» Игра, приступить к которой можно было, лишь установив правила. Свои. Но никто не знал, как это делается. Не было такой дисциплины на выпускных экзаменах. Поэтому для многих дальнейшая жизнь так и сложилась – из недоумения, сдобренного неуверенностью в себе, и бесконечных попыток выбрать правила игры, приготовленные другими, более удачливыми. Но это как в покере – тебя долго будут водить за нос, пока не отберут всё. Морлоки всегда съедят своего элоя. Технология всегда будет свысока с усмешкой смотреть на браваду развевающихся знамён. Уэллс – гений. А читатели – идиоты! Их опять обманули. Красиво. Талантливо. А они и рады дурацкой надеждой кормить свои сомнения. Но я был среди тех, кто не верил. По крайней мере, так мне тогда казалось. Или, точнее, так считал мой разум. Морлок. Система была пределом его мечтаний. Он строил её, очень уставал и постоянно хотел есть…
И я не вылезал из книг.
Два года? Три, пять? Там, за пределами обложек с фамилиями классиков, я поступил в институт. Всё по правилам: «Нужно учиться». Нужно – значит, учимся. «Мужчина должен уметь зарабатывать». Хорошо. Вот, пожалуйста. «Мужчина должен зарабатывать больше». Как скажете. Это несложно. «Мужчина должен знать…» «Мужчина должен уметь…» «Мужчина должен». Всё. Квинтэссенция. Неинтересно. Отчий дом и бесконечные отражения подобных вокруг исчерпали себя. Кому интересно – на здоровье. А по мне, так играть по правилам можно и не играя. Всё равно все спят. Нетрудно, прикинувшись сонным, или урывками, где-нибудь в недоступном для начальства углу на работе, на лекции, по ночам в постели, за завтраком, в лифте, в метро – читать. Ремарк, Хемингуэй, Сэлинджер, Сартр, Ежи Лец, Гурджиев, Лем, Апдайк, Вольтер, Монтень, Ницше, Рабле, Алигьери, Фаулз, Честертон, Толстой, Достоевский, Бунин, Тургенев, Платонов, Пруст, Теккерей, Диккенс, Гофман, Драйзер, Фолкнер, Флоренский, Платон, Кафка, Гоголь, Соловьёв, Воннегут, Гёте, Брэдбери, Шаламов, Азимов, Шекспир, Золя, Норберт Винер… Ни конца ни края. Я принимал чужие правила одно за другим. Разум лукаво подсовывал мне дотошные объяснения, поглощая так необходимую ему пищу. Но ему всё было мало. Система разрасталась. Интегрируя в себя всё. С какого-то момента стало не так просто договариваться с собой. Появилась необходимость фиксировать. Письменно. Со стороны могло показаться, что я, как говорится, «взялся за перо». Но это глупо – держать что-то в руках, если для того, чтобы рисовать, нужен только ты сам. Но система ещё не была совершенной, по моему мнению. И ещё не была в состоянии по собственному желанию запустить механизм «холодного тока на кончиках пальцев». Это и была цель разума – описать и использовать механизм. Какие-то заметки, размышления, рифмы. Я думал, это поможет систематизировать. Обобщить. Но они помогали только на подходах. А дальше всё это начинало напоминать психиатрический диагноз. Я достаточно быстро выяснил, что никто на самом деле не берётся за перо для себя. Вруны и жульё. С какого-то момента начинаешь думать, что это представляет какую-то ценность. Чушь! Навешивать кому-то чужие правила, сам понятия о них никакого не имея, да ещё в письменной форме – это дикость. Интеллектуальное варварство какое-то. Задавить. Подчинить. Возглавить. Вот алгоритм писателя. А дальше? А дальше – истинных намерений уже не спрятать. Вот и получается – жульё! Да не только с писателями так. Со всеми, наверное. Химия не приходит со страниц с типографским шрифтом. Она может туда попасть. Но она там не рождается. Она рождается и живёт за пределами цветных и казённых обложек. Книги – мертвечина. Ловушка для недостаточно внимательных. А химия – единственное, что позволяет мириться с тьмой и сном. Она провоцирует и заставляет верить, что в те редкие моменты, когда мы просыпаемся, – мы делаем это по собственному усмотрению. Она замещает искренность в наших плешивых желаньицах. Но замена никогда не бывает равнозначной. Поэтому мы несчастливы.
Разум не справился. Несколько лет мучений, тонна въедливо, с карандашом вычитанных книг и ящик комода, чуть не до верха забитый блокнотами, тетрадками, листами и даже картонками с писаниной. Но ему так и не удалось заставить меня поверить в то, что я счастлив. Или когда-нибудь смогу таковым быть.
Разум жаждал крепости. А вместо этого столь трепетно создаваемая им система, обрастая условностями, как ком мокрого снега, достигла критической массы – ком не то что поднять, его нельзя было уже сдвинуть с места. Вместо свободы я оказался прикованным к безмерной тьме собственных заблуждений. Тогда и вынырнуло вновь это чувство – что злее, чище и ярче злости. Огонь зажёгся. И разметал оковы. И я как будто в отместку самому себе нарисовал простую условную сетку двумя-тремя цветами. Пяток простых правил и… «кто не был, тот будет, кто был – не забудет семьсот тридцать дней в сапогах». И взвывший поначалу разум отступил. Сдал часть позиций. Присмирел. Что за толк орать, если твои слова не принимают в расчёт? Так он учился смирению. А я – сну в полглаза и курить в кулак. Он пытался определить границы несвободы. А я, поворачиваясь спиной к ограждениям, уходил от него в бесконечную внутреннюю даль, оставляя рукам и ногам возможность самостоятельно совершенствовать рефлексы. «Сон во сне» – так я назвал свою картину, ещё до того, как она была закончена. Она была полна беспредметным ожиданием и относительным внутренним покоем. При этом пестря яркими красками. Она нравилась мне. Простотой гротескных сюжетов и переходами между снами. Она сама вела меня. Но ей не суждено было стать законченной. В тот день, зажатый вместе со своим отделением в теснине красноватых скал и камней, я бросил рисовать её. Я оставил это полотно, по стилю напоминающее Руссо, ради одного-единственного офорта.
Из узкого ущелья было только два выхода – в пекло и в никуда. Ребята рвались в пекло. И это было понятно. Примитивизм картины не оставлял выбора. Поведи я их туда – и картина стала бы законченной. Холодный ток на кончиках пальцев иссяк бы. И кто знает, с чем бы пришлось столкнуться лицом к лицу после этого? И я повёл их в никуда. С неведомым мне доселе чувством я бросил картину и выплеснулся чёрной тушью на белый лист чужих жизней… Через сутки нас подобрали. Госпиталь поставил последний штрих на странном офорте. Меня комиссовали по ранению.
Сотни тысяч школьников писали в своих сочинениях про «голубое небо Аустерлица». Тонны тетрадок и черновиков ушли макулатурой на вторичную переработку. И скорее всего, среди разветвлений целлюлозы, из которых слеплена страница, на которой я сейчас пишу, есть часть с их банальными рассуждениями, навязанными учителями, пособиями по написанию «чтохотелсказатьавторского» и прочим педагогическим и критиканским маразмом. Забавно. Забавно думать об этом, валяясь на лугу за деревней Семёновское и глядя в голубое бородинское небо. Земля надёжно прикрывает спину. Ветер молча ласкает лицо. Это у писателей он всё время что-нибудь говорит. Вруны и жульё! Ничего он не говорит. И земля ничего не говорит. И даже голубое небо. Тем более – голубое небо. За которым синее небо. Потом фиолетовое небо. Потом – чёрное. А потом – вообще ни черта нет. Пустота. На самом деле это нас тянет поговорить. И мы прикидываемся, что нас кто-то слушает. А те, кто преуспел в актёрском мастерстве, – тем кажется, что им кто-то отвечает. Ветер ли. Небо. Бог… Идиоты!
Какой-то смешной год уходит на то, чтобы понять, что я хочу остаться на этой земле. Иррационально. Но разум уже давно – дрессированная собачка. «Сидеть», «лежать», «ко мне». Беспрекословно. Как в цирке. Иначе останется без кормёжки.
Я лежу в траве и смотрю. И начинаю рисовать. Почему-то сначала дерево. Берёзу. Потом ещё одну. Потом лохматую с корявыми ветвями сосну. Не нравятся мне корабельные. Не знаю, как кому, а мне не нравятся. Кряжистые разлапистые одиночки – вот моё. Идеальный тест для психолога, взявшегося описывать мой характер. Но это не я. Я лишь рисую. Огораживаю деревья невысокой изгородью из жердей. Ворота – как на американской ферме. Отсыпаю въезд гравием. Ставлю высокий деревянный столб. Наверху – резного ворона. Не «застывшего в полёте», как это они все любят. А просто сидящего. Так… Напоминание. Пусть будет. В этом что-то русское. От Волги.
Я рисую людей – они роют колодец. Вообще-то я не очень люблю рисовать людей. Прямо скажем, не получается у меня их рисовать. И если рисую, то тех, кто что-то делает руками. Умеет и делает. А мечтающие, размышляющие, страдающие и надеющиеся на что-то люди – это не для меня. Не могу представить, как они должны выглядеть. Поэтому и не берусь. Вот плотники там, или каменщики – другое дело. С ними просто. И толк видно глазом. Образы мечтателей – это тоже хорошо. Для мечтателей же. А я – ремесленник. Любой художник – ремесленник. А всем остальным он обрастает как раз благодаря тем самым мечтателям. Они и секунды не проживут без своих этих «олицетворений», «поисков» и прочих образов «духовности» в ночном горшке.
Пока рисуешь работающих людей, появляются стены. Перекрываются стропилами. Я боюсь произносить это слово – дом. Это ещё не он. Что-то близкое. Очень похожее. Но я понимаю, что не смогу назвать это строение домом, даже когда плотники закончат своё дело. Просто квадратные метры сухости под дождём. И тепла в морозную ночь. Не более. Всё это тоже важно. Но это не дом. ДОМ – это Твердь (Д), Солнце (О) и Личность (М). Что-то изначальное. Но я не понимаю. Знаю, но не понимаю. Нужен кто-то, у кого можно спросить. Или просто поговорить. Всё равно все наши вопросы – к себе. Я рисую щенка. Никогда не рисовал собак. Получается двортерьер. Вислоухий, приземистый, с огромными глазами. Он чихает, пахнет сырой шерстью, и в его огромных глазах три собачьих библейских заповеди – «Люби», «Терпи» и «Защищай». Он очень любит слушать. Три часа может сидеть, пока я спрашиваю и сам отвечаю за него. Я нарисовал его умным.
Нам тепло и уютно вдвоём зимой. Грязно и весело весной. Беззаботно и ветрено летом. Но осенью я понимаю, что не смогу сейчас закончить картину. И я ухожу. Я не бросаю рисовать. Но эту картину откладываю. Художники иногда так поступают. Значит, и я могу. Накрою холст простынёй – пусть постоит. Не знаю зачем. Что-то не идёт. Такое бывает. Нужно просто уйти куда-нибудь. Что-нибудь сделать. И я ухожу. Чтобы просто встречаться с людьми. С теми, кого у меня не получается рисовать. Я хочу понять. Для этого нужно выучить несколько простых правил – и тогда они примут тебя за своего. Это просто. И обмана в этом никакого нет. Это такая игра. Всё равно все спят.
Правила оказываются до того просты, что мне даже становится любопытно. И я быстро выясняю, что на первом месте у них – деньги. Не как атрибут славы или власти. А просто – как самодостаточный элемент. Как мотив. Как ощутимый потенциал. Это интересно. И даже забавно…
И кто бы мог подумать! Что забава может стать ещё одним ключиком, приводящим в действие механизм «холодного тока на кончиках пальцев». Неужели в этом месте в нас тоже прячутся истинные желания? Я бы сказал, что это не очевидно. Ну и ладно. Зачем вникать, когда можно просто пользоваться?
Рисовать деньги оказалось проще простого. Достаточно, взявшись за чистый лист, делать всё чётко и последовательно. И обязательно до конца. Тогда это ценят. Как раз те самые люди, которых у меня не получается рисовать. Оказывается, большего они и не ждут. Алгоритм прост и всегда один и тот же. Сюжет номер три. Меняй краски. Переставляй тени. В рамку. И обязательно, чтобы подпись. Для них это даже важней, чем сам рисунок. Рамка чтобы соответствовала, и подпись. А рисунок? Ну что рисунок… «Рисующих много – удачливых мало!» Это они так говорят. Ну, приблизительно так. Потому что они имеют в виду другое. Я не спорю. Мне не трудно. Цех нарисовать. Или склад в удобном месте. Кому-то – оборудование несложное. Или услугу своевременную. Они все так серьёзно относятся к моим рисункам, что я развлекаюсь по полной. Давно, если честно, так не веселился. И денег уже вагон и маленькая тележка. Куда они? Что с ними делать?
Кто-то из приятелей пригласил на вечер в казино. «Пойдём, – говорит, – там всегда программа хорошая, клоуны всякие выступают и вообще интересно, ты же не был никогда?» Не был. «Я-то сам, – продолжает, – не игрок». Но пригласил. И всё объяснил. Мол, это развлечение. И если не хочешь проиграться в дым – нужно себя заранее ограничить. «В чём?» – спрашиваю. «В сумме, конечно!» Удивился. Тоже мне. Можно подумать, я простенькую игру не нарисую, если это правда забавно. А тот всё не успокаивается. «Нельзя, – талдычит, – особенно в первый раз, с собой много денег брать. Возьми тысяч пять бакинских, и хватит. Хоть не обидно будет, когда всё спустишь. Хотя… новичкам обычно везёт». Загадочно так добавил под конец. С потаённой надеждой. «Ага!» – подумал я. Значит всё-таки в выигрыше всё дело. А все разговоры вокруг – так, антураж. Вот оно как всё у них, на чистой-то воде. Удача – их маленький и хитрый божок. Ну, посмотрим, кто кого! Игра так игра. Просто эта игра стоит денег. Вот и пригодятся!
Я готов был голову дать на отсечение, что истинным моим желанием было проиграть. Не хотел, чтобы приятель и дальше молился своему божку удачи. Он был неплохим человеком. Каждый игрок любит хвастаться тем, что он может остановиться. Но это не правда. Пока лукавый божок оставляет хоть малюсенький шанс – они будут делать свои ставки. Не умея рисовать. Для них это всё серьёзно – и деньги, и удача. Их развлечение – в ожидании. Если не сказать – в надежде. А дальше – обман. Не деньги на самом деле они ставят на карту. Они всё ещё продолжают играть в ту самую игру – «Зачем?». А в этой игре ставки не деньги, а жизнь. Не фигурально – как антоним смерти. А натурально – временем. Огромными бессмысленными кусками времени собственной жизни…
Холодный ток скользнул по пальцам, заставив двигаться руки. Я рисовал, как Кандинский. Мыслеформа ложилась красным и чёрным на зелёное сукно рулетки настолько безупречно, что в какой-то момент я испугался, что это станет заметным для окружающих. И вовремя. Взгляды сидевших со мной за одним столом игроков оказались обращены на меня, когда я, завершив финальным штрихом рисунок, вернулся в царство теней и снов. И неудивительно. Увесистая гирька стояла на высоком столбике зелёных двадцатипятидолларовых кэшевых фишек на восьмёрке в окружении таких же столбиков из чёрных соток на сплитах, стрите и углах. Такой «пробой» заставил замереть нервные токи не только игроков, но и крупье. Куш, который я сорвал, рисуя безупречный проигрыш, не оставил супервайзеру никакого выбора, кроме как предложить мне перейти для более серьёзной игры в VIP-зал, после того как выигрыш на ставке был подсчитан и выплачен. Я отказался. И ушёл. Обменяв фишки на увесистый кулёк десятитысячедолларовых банковских пачек и оставив проигравшемуся к тому времени приятелю немного подъёмных на удачу. Не из жалости. И не из-за дурацкой «мужской солидарности». Все знают, что это тоже просто такая игра. Мне хотелось ещё раз посмотреть, как в мутном и пустом стекле глаз проигравшегося загораются огоньки беса удачи. Снова. Это забавно.
А потом я долго кружил по ночному городу, вглядываясь в зеркало заднего вида. Глупо. Для казино это не деньги. Они их за час отобьют. А может, и не глупо. Клиент, просто так уходящий с выигрышем, – это для них личное оскорбление. Констатация факта нпрофессионализма сотрудников. Потеря лица. И огромная личная жаба хозяина заведения, получающего on-line отчёты каждые шесть часов, сидя на вилле с другой стороны планеты. Но важнее другое. Почему я выиграл? Неужели за честным желанием проиграть стояло ещё более честное желание? Если так, тогда что я знаю о себе? Опять ничего? Или то, что называется деньгами, вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни и живёт по своим законам, силой иллюзий вмешиваясь, управляя, подставляя или поощряя людей по своему усмотрению? Неужели рядом с нами может существовать что-то, с нами не связанное, само по себе? Тогда что это? Одна из самостоятельных структур в информационном поле? Эдакий Гольфстрим на карте Мирового океана, вслед за малейшим изменением средней температуры которого на нас обрушиваются ледяные бури или мы собираем третий урожай апельсинов за год?
Спустя ещё года три я научился находить применение деньгам. Меня научили те самые люди, которых я не умел рисовать. Скажу честно, я пытался. Но объективно механизм холодного тока на кончиках пальцев запускался только в трёх случаях. Когда я влюблялся. Отдавался чувству, что злее и ярче злости. Или забавлялся. Забава – дело тонкое. Хоть простое и открытое с виду. Чувство, что злее и ярче злости, – вообще коллизия редкая. Выскакивает неожиданно, как чертополох на пашне нашего несовершенства. Влюблённость – доступнее. Химия крутит нам жилы. Разум – хитрым лисом подобострастно обосновывает. В паре они работают практически безупречно. Добавь к ним бесёнка надежды – и все вместе они сделают из тебя идиота. Но это сейчас легко говорить. Многие думают, что воспоминания обременяют. Но это чушь, поверьте! Воспоминаниям нет смысла что-то прятать внутри себя. Их дело – прошлое. А кто считает, что в этом есть какой-то толк – опыт там, сермяжная мудрость, воспитание духа, становление личности и прочий подобный бред, – пусть забудет. Прошлое есть прошлое. Ил на дне Мирового океана. Там, где странные рыбы с фонарями на лбу выедают из него останки того, что когда-то было живым. Кто будет задумываться об иле на дне Марианской впадины, весело старясь в бунгало на Гавайях? Только ненормальный!
Да. Сейчас просто говорить об этом.
Но тогда влюблённость – как самый простой способ рисовать – маячила перед носом запахами феромонов. А разум, довольный уже только тем, что может вернуться к своему любимому занятию, уговаривал меня, что спонтанно возникающие рисунки могут стать неотъемлемой частью системы. И деньги, и люди, к рисованию которых я всё ещё не видел возможности приступить, способствовали этому – каждый на свой манер.
Первую, кого я привёл в дом, звали Катя. Ей очень нравились сосны-одиночки и терраса. Ей даже нравился неутомимый двортерьер, похожий на слишком большую ёлочную игрушку, – хитрюга, сплетник и всё же очень верный пёс. Но девушка так рьяно делала вид, что её не интересуют деньги, и так смешно морщила лобик, продумывая каждый свой следующий шаг, что это достаточно быстро перестало меня забавлять. Забава внутри влюблённости – это отдельный шарм. И открывает тонкости техники рисунка. Ведь забавно морщить свой лобик она могла, например, сидя на ковре перед камином в моей рубашке. Под которой не спрячешь изящные щиколотки, бархатную кожу бёдер или вздёрнутые, как утиные попочки, груди с нацеленными на тебя орешками сосков. Всё было мило, вкусно и прилежно. Но, как известно, всё прилежное наскучивает быстрее вкусного. А всё вкусное – быстрее милого. И в результате остаётся только: «Зачем каждый год пропалывать и травить сорняки на щебёночном въезде, когда проще один раз асфальт положить?!» Или: «Давай уже куда-нибудь слетаем отдохнуть. Хотя бы в Египет». Или: «Найми уже кого-нибудь, чтобы следил за участком! Зачем всё делать самому?!» Ей не нравилась мелкая круглая природная галька. Может, потому что каблуки застревают? Но они же такие красивые, эти – вперемешку – лавовые, гранитные и кварцевые кругляшки, отполированные древней водой. Те, что теперь люди, умеющие работать руками, выкапывают из глубин карьеров. А другие люди развозят их в больших грузовиках – тем, кому нравится смотреть на бисер доисторических стихий. И от чего, спрашивается, нужно отдыхать? Что это вообще такое – отдых? Хочешь съездить в Египет, побродить по помойкам на окраине Каира, где чумазые детишки играют в футбол, используя вместо ворот пару сияющих своей неуместностью и роскошью «мерседесов»? Причаститься пирамид, которые несколько бригад современных каменщиков при должном руководстве соберёт за сезон? Так и скажи: «Хочу посмотреть, чем отличаются немытые верблюды от немытых коров». И как можно, живя на своей земле, звать кого-то, чтобы присматривать за ней? От неохоты? Так, значит, это и не твоя земля. Всё твоё – только от охоты. И от этого не нужно отдыхать.
До Дома в тот раз даже дело не дошло. Дом остался просто домом. Стенами, вещами, пространством без дождя и оазисом тепла в холода.
Год спустя она сделала вид, что обиделась из-за чего-то, и ушла. Её расчёт был прост и мил. Но это уже не позабавило меня. Влюблённость потеряла свой внутренний шарм. Расчёт не оправдался. Я скомкал рисунок и бросил в камин. Художники иногда так поступают. Значит, и я могу.
С Машей было интереснее. Всё, что по-другому, – интереснее. Женщины злятся друг на друга и на мужчин за это. Сравнивают. Но по-другому – это просто по-другому. Не что-то конкретное. Но это не сразу понятно. Для меня по-другому – это иная техника рисунка. Сюжет от вольного. Вызов, если хотите.
Маша была готова к чему угодно. Миниатюрная, как колибри, она не могла долго сидеть на одном цветке. Приземлилась, втянула хоботком «сливки» с нектара, и вот уже следующий цветок манит ароматом пыльцы. Нет. Пока я рисовал для неё всякие бесполезные привлекательные пустячки, её не тянуло к другим мужчинам. Она даже не пугалась, когда я в мгновение ока изображал для неё горнолыжную экипировку на склонах Чегета. Или дельтаплан на планерной горе под Коктебелем. Или рюмочку перно в кабачке на набережной Нюхавн в Копенгагене. Она обожала всякие маленькие вкусности. Она питала мою влюблённость, как никто и никогда до неё. И даже разуму уже почти удалось уговорить меня, что это и есть то самое откровение чувства, безупречно противоречащее его – разума – природе. Почти удалось. Это теперь я знаю, что за этим «почти» порой скрывается целая вселенная. Неизведанная, таинственная. Но тогда я думал, неужели разум прав? И форма бытия не скрывает под собой никакого философского камня содержания? Она сама и есть содержание самой себя? Может быть. Почему нет? Так всегда думаешь, пока всё «хорошо», как любят говорить те люди, к рисованию которых я всё ещё так и не знал, с какой стороны подойти. А потом «хорошо» начинает делиться, как клетка. И вместо одного, общего на двоих «хорошо», появляются два отдельных. Связанных между собой законом притяжения – но всё же отдельных. Я понимал, что колибри должна где-то спать. Отдыхать, смотреть свои быстротечные сны, чувствовать уверенность. Где-то должно быть миниатюрное гнёздышко, которое она называет домом. И, глядя на Машу, я понимал, что она, как и любое живое существо, стремится к этому. Только неосознанно. По-своему. Мельтешение калейдоскопа – это её способ. А кто же я здесь? Инженер, что позволяет калейдоскопу не останавливаться? Рота обеспечения? Да. Я просто позволял ей продолжать поиск. Она не задумывалась об этом. Не могла. Слишком быстро всё, чтобы колибри успевала задумываться.
Единственное, что я мог сделать для неё, – это обеспечить ей скорость передвижения. Насколько мог себе позволить. Вот и опять деньги пригодились! Я расширил для неё горизонт – и она улетела. Даже не успев прислушаться к моим напутствиям. Мне было жаль её. Она всё ещё не понимала, что мир – это не одна сплошная Калифорния.
Вот Вероника была совсем другая. Она точно понимала, где кончаются одни страны и начинаются другие. Она чувствовала границы. И поэтому при всей своей внешней отрешённости была очень последовательна. Просто на квантовом уровне! Часто увлекаясь, она доводила всё до конца. Прочитать Библию в оригинале? – выучивает арамейский и древнегреческий. «Бхагават-гиту»? – санскрит. Не даёт спать спокойно тайна семи нот? – осваивает фортепиано. Мне кажется, она собирала тот самый «багаж», который потом когда-нибудь «пригодится». Её очень любил мой хитроватый двортерьер. Его можно понять. Чувствуя – на своём уровне – это собирательство, пёс надеялся, что и для него там будет припасено что-нибудь вкусненькое на голодный год. Но это лирика. Животные не умеют, как люди, готовиться к «тяжёлым временам». Просто они инстинктивно жмутся туда, где сытнее и теплее. Будут времена такими или уже есть – без разницы. Человеческое время для них – азбука за семью печатями. А не алгоритм скуки, как для нас. Поэтому мы их любим. А вовсе не как младших наших библейских братьев.
Вероника была чудом. Собирательство было её кармой. Что бы я ни рисовал для неё – для всего находилось место. Будь то набросок, до которого «ещё дойдёт время», или фраза, которая «наконец-то отразила». Ей нравилось владеть всем этим. Сейчас я думаю, не было ли это со стороны бога такой шуткой – подкинуть мне её после неуловимой и ничем себя не обременяющей Маши? Но надо отдать Веронике должное – импульс действия в ней не утихал никогда. Забивала ли она себе голову совершеннейшей никчёмностью или упивалась действительно толковым делом – она не тратила время на рассуждения. Но химия взяла своё. Точнее, отдельные её аспекты – скорость и последовательность реакций. Как сказал кто-то из великих: всё, что происходит в постели, – правильно. Но когда там происходят два разных «правильно», рано или поздно вопрос поочерёдного смирения перерастает в обыкновенную усталость. Я устал. Что в этом такого? Когда дело касается художников – это называют творческим кризисом. Почему я не могу? За два года лабораторные эксперименты с химией собственного тела износили даже разум. Все устали. И просто разошлись по домам. Отдохнуть. А потом просто не стали возвращаться. Это нормально.
Земля на окраине деревни Семёновское была щедра на благодать. И мы с псом учились радоваться должному. Закатам и рассветам. Смене времён года. Уюту камелька и тому, что, слава богу, нет войны. Деньги давно уже рисовали сами себя. Я в удовольствие изображал псу натюрморты из вкусных сахарных косточек и тискал гравюры своего терпения на его глупые шалости. А вечерами на террасе пытался делать наброски. Да, я всё не оставлял надежды научиться рисовать людей. Всех без исключения.
Для тех редких женщин, что попадали под нашу с псом общую крышу, я выдумывал долгие и грустные истории своих неудач. Наконец я нашёл, как использовать столь любимого всеми божка для своей пользы. Блеф. С помощью его и своей фантазии я отваживал почти всех дам, кроме тех, кому ненадолго нравилась роль доброй самаритянки или было просто жаль времени, всё равно уже потраченного на приезд в «такую глухомань», далеко от многообещающей столицы, и таких же, как они, охотниц и охотников за удачей. Перевёрнутый божок смеялся над ними, а мне грозил пальцем, вполне оправданно считая мои невинные шалости дискредитацией собственной сущности и власти. Этим он пытался обмануть даже меня, полагая, что я, как и все люди, верю в искренность чьих-то намерений только потому, что они преподносятся в доверительной форме. Глупый божок. Секс, конечно, хорошая штука. Но когда утром неловко вызывать такси, ссылаясь на невозможность сесть за руль из-за похмельной головы, – надо завязывать. Следующим шагом будет: «Деньги на столе. Такси вызови сама». Ни имени, ни шарма. Тупик.
Частота, с которой я искал отвлечения в смене женских портретов, иссушила источник. Влюбчивость иссякла. И больше ничего не забавляло меня. Только пёс да надежда, что редкое чувство, что злее и ярче злости, вдруг проявит себя – и я смогу рисовать. Я не мог без этого долго. Это томило. Прикасаясь ладонями к своей земле, я вновь вспоминал уже почти забытое – когда мне не было места среди мест. Сейчас было. Моя земля, деревья на ней, старый, почерневший от дождей ворон на высоком столбе. Но место было не полным. И ощущение этого всё чаще приводило в судорожную готовность тело. Пока однажды утром сосед не постучал в мою в дверь. Я открыл. С его рук беспомощно свисал раздробленными лапами пёс, неестественно закинув на бок голову. Он уже был мёртв. Сосед принёс его с дороги. А ведь я так и не придумал ему имя. Что он там забыл, ночью, на опасном асфальте? Сколько раз я объяснял ему, что зря на планету пустили технологию двигателя внутреннего сгорания. Толку от этого никакого. Как всегда, все спешат – и всё равно опаздывают. Зато придурков, считающих, что жизнь действительно изменилась, прибавилось стократ. Чем были плохи телеги да брички? Не для нас все эти новшества. Псы-то, вон, бегать быстрее не стали…
Судорожная готовность скрутила и уже не отпускала.
Я похоронил пса – под вороном. И имена нашлись. Сразу всем. Просто Пёс и Ворон. Всё равно они только мои. Нет смысла объясняться, что банально, а что со смыслом. Иногда всё просто так, как есть. Но хоть умом я и понимал это тогда, всё равно из яичка судорожной готовности вылупилось чувство. Что злее и ярче злости. Но в этот раз я рисовал сдержанно. Забвение ремесленника – в его руках. Не хотел потратить запал на бессмысленные метания. Я хотел возвести бессмысленность на пьедестал. Но, видимо, ещё не дорос до смысла древних сказок. И не пошёл «куда глаза глядят», «туда, не зная куда». И уж точно не за тем, чтобы «найти то – не знаю что». Кто думает о таком? Так, да не совсем. Со всей силой уже знакомого чувства я устремился на Север. Туда, где уплотняются мысль и чувство. Туда, где жанр рисунка определён раз и навсегда. Тогда я ещё не знал этого. Но это было ни с чем не сравнимо. Чем дальше я рисовал свой путь, тем явственней осыпались пустые никчёмные краски у меня за спиной. Я рисовал, пока не стало очевидным, что образ очистился, избавившись от южного многоцветья и переходных техник. Великий образ графики. Только тогда я действительно понял, почему похоронил Пса под Вороном. И почему молниеносная ярость солнца никогда не сравнится с терпеливой яростью бесконечной вьюжной ночи… И как-то само собой получилось так, что я нарисовал то, что стало ещё одним ключиком к механизму холодного тока на кончиках пальцев. Как будто кто-то взрослый позаботился о моём неиссякаемом ребячестве. Я получил возможность использовать свой дар в любое время. Не забавляясь, не барахтаясь в тонких сетях влюблённости и не испытывая ярости. Я утвердился сам для себя, и это было воспринято мной как должное. Не как ожидаемое. Но просто как пришедшее, чтобы остаться навсегда.
Пёс и Ворон охраняли мою землю. Деньги обеспечивали им прикрытие. А я чувствовал, что теперь смогу рисовать людей. Чувствовал, но оттягивал этот момент. Не как в детстве – смакуя ожидание. А скорее как настройщик роялей. Работа предстояла долгая, кропотливая, и начать её нужно без особой серьёзности. Как бы невзначай. И тогда она отблагодарит, пойдёт спокойным правильным ходом.
Сами холодные земли подкинули мне случай начать. Двенадцатилетний мальчишка со старенькой «тулочкой» за плечом вынырнул из ночной пурги на моей промысловой заимке в тот момент, когда я прикрывал заслонку печи, собираясь спать.
Оттёр спиртом. Заставил глотнуть. Потом чаю. Через полчаса он смог говорить.
Был с отцом. Тот ногу сломал. Сильно. Нора, что ли, или так, ямина… Из лыж что-то вроде саней сварганили, но он не смог. Отец большой. Гирей пудовой как шапкой играется. Так-сяк пробовали. За два часа – с полкилометра от силы. А там дальше в обход, сани не протянешь. Отец и отослал. Он ему нодью[2] соорудил из пары сухарин, валежника натаскал и пошёл. Отец на посёлок велел. Но они далеко забрались. Двадцать часов шёл без передыха. До посёлка ещё восемнадцать вёрст. Почувствовал – не дойдёт. Про заимку сообразил. До неё версты три было, не больше. Подумал, отогреется, передохнёт часок. Может, этот час, конечно, что и решит. А вот то, что он совсем не дойдёт – решит всё наверняка. Отцу самому не выбраться. Зима морозная, жрать нечего… Волк лютует. От одного – ещё нормально. Но если стая – карабин не поможет. А «тулку» отец оставлять не захотел. Патронташ картечью напихал и отправил. Лютует волк-то…
Он не мог понять, почему я не беру его с собой показывать дорогу. А как я объясню? Разве что – чудо, что он вообще добрался? Или что – обмороженные пальцы и нос не лучшая мотивация для прогулок в снежную бурю. И что или он, или отец – двоих мне не вытащить. То, что дорогу я и без него нарисую, не объяснишь. Я запер его, снабдив дровами, водой и припасами. Окошко маленькое даже для мальчишки – не вылезет. А если что – появится кто-нибудь рано или поздно, – снаружи отопрут.
Собак не взял. Нужно рассчитывать вес. Чтобы налегке. А так – и для них придётся припасы тащить. Ночь. Пурга. Каждый час на счету. Не до охоты.
Спирта. Пару шприц-тюбиков морфина. Ампиокса упаковку. Картечи побольше. Постромки капроновые подлиннее – чтобы тащить удобней. Свечку старую. Фонарик. Батареек запасных. Лосятины вяленой ломоть. Тот там уже двое суток, считай, будет, пока дойду. Успеть бы. Ах да. Лыжину ещё одну. Третьей к саням пойдёт – сопротивление меньше, мужик-то крупный, со слов. А не понадобится – там брошу. Всё. Собакам «праздничную» пайку отвалил и пошёл.
Куда идти, я знал. А вот куда я должен был прийти – нет. Снежная буря явно до завтра не утихнет, раз так завелась. При таком раскладе и грузовик в пятидесяти метрах пройдёт – не заметишь. Тот, конечно, огонь палит. Но с подветренной стороны заходить – время. Ветер задувает так, что рвёт клочьями. Будет за нос водить дымным запахом, пока с ног не свалишься. Интересно, он сынишку правда за помощью отправил или шанс дал? Может, догадается время подхода гипотетической помощи рассчитать и пальнёт в воздух разок-другой, обозначит себя? Нарисовать бы. Жаль, не знаю его совсем. А пацана расспрашивать ни времени, ни – у того – сил не было.
Путь рисовать было просто. Оно как в «Снежной королеве». Только без мультяшности и скидок на детство. У пацана двенадцатилетнего, что на заимке запертым остался, тоже скидок не было – а дошёл. И разум не потерял – до последнего не уступал страху и отчаянию. Крепкие они, мужички, что родились и росли в этих холодных землях. Ох, крепкие. Потому и не воюют. Знают цену живому. И цену. И меру. И срок. Не по талмудам и коранам знают, а по жизни.
К утру, против ожидания, буря утихла. Не совсем, но хоть сверху валить перестало. А к полудню дошёл. Никаких чудес. Выстрел услышал. Сначала вроде показалось. Но через полчаса – уже точно – выстрел. Второй, значит. Рассчитал мужик время-то.
Ещё через сорок минут я скинул лыжи, поклажу и разобрал плотно сложенный лапник с наветренной стороны нодьи. Та уже почти догорела. Верхнее бревно, что потоньше, – переломилось пополам и скатилось в снег. У нижнего, подпёртый парой тлеющих головней, плавил снег небольшой котелок. Я нагнулся осмотреть ногу. Шина отличная. Береста, потом крупная щепа набором, сверху – снова береста. Ещё парой ремней только перетянуть дополнительно – выдержит. Стёганая штанина и поддёвка – надрезаны и подвёрнуты. Перелом открытый. Одна кость порвала мягкие ткани, но несильно. Кожа и края одежды чёрные, подпаленные. Явно порохом. Я промокнул рану спиртом из фляги, сделал тампон и перебинтовал прямо поверх. Пока подсовывал дополнительные ремни для шины, отрезав по куску от постромков, мужика пару раз хорошо дёрнуло. Я достал один шприц-тюбик с морфином и протянул ему. Он отрицательно мотнул головой. Оно понятно. Здесь и потерпеть можно, а в пути – точно пригодится. Я убрал морфин обратно за пазуху.
Когда с раной было покончено, я быстро соорудил из оставшихся дров пирамиду и раздул огонь. Забил котелок снегом и подвесил на слеге кипятиться. После чего осмотрел полозья. Всё было сделано грамотно. В передней части и на задниках лыжин углом топора были прокручены отверстия. Толстые орешины, протянутые через них бечёвкой, давали жёсткий каркас. Оставалось только повторить то же самое с третьей лыжиной, что я захватил с собой, и натереть полозья парафином. Я всё подготовил и отложил пока.
На высоком огне вода в котелке быстро закипела. Я закинул заварку, сахара по-щедрому и отрезал несколько полос лосятины. Разлил чай по кружкам и помог мужику сесть. Бросил в кипяток шипучку аспирина и протянул ему с двумя таблетками антибиотика. Пока он пил чай и жевал жёсткое мясо – я обошёл клочок вытоптанного бивака – оглядеться. За сугробом с подветренной стороны снег был примят, и от него в сторону низины бежали свежие, чуть только припорошенные следы. Волчьи. Приходил, значит. Старый бестия – не показывался. Иначе гильзы стреляные были бы. Ну, кроме тех, что мужик в воздух палил. Так, видимо, и спал – вполглаза. Совсем не спать нельзя. Потом так срубит – не проснёшься. Или мороз добьёт, или этот, шельма, доберётся. Я оглянулся на мужика. Тот, поймав мой взгляд, только пожал плечами.
Допив чай и доев, я подкинул ещё пару коряг в костёр, пристроил свои лыжи ближе к огню и лёг на них, подсунув под голову рюкзак. «Сорок минут!» – сказал я. Мужик молча кивнул. Я закрыл глаза.
В третьем часу тронулись.
Я возвращался по своей тропе. Но заносы и глубина снега местами были такими, что часто приходилось бросать сани, прокладывать путь, а потом возвращаться.
Раз на пригорке нарисовался волк. Я как раз вернулся за мужиком с пробитой тропы. Тут же вскинул ружьё, хотел пугнуть. «Не надо, – мужик пристально разглядывал силуэт на фоне чуть светлого неба. – Мамка». Я опустил ружьё.
Часа четыре двигались в полной темноте. Стекло налобного фонаря залепляло снегом. Я давно уже снял тулуп и накрыл им мужика. Плотная ветровка, из рюкзака, заменила его, защищая меня от ветра. Замёрзнуть и так не выйдет. Мышцы гудели, как высоковольтка. Хоть тем самым волком вой. Мужик, где потрудней – в горку или через валежник, – руками помогал. А там каждые сто метров – то горка, то валежник. Здоровый. Твоя правда, пацан. Повезло тебе с отцом-то. С таким и сорок часов сквозь бурю пройдёшь, не зажмуришься.
Заночевали. Без особого там. Лапнику навалил. Костёр небольшой. Сугроб нагрёб от ветра. Чаю попили. Пожевали. Спирта по паре глотков. Дров накидал побольше. Пальнул в воздух пару раз для профилактики. И валетом улеглись – поплотнее под моим тулупом.
Сон как спазм – взял-отпустил. Мы ещё и трети не протянули, а силёнки тают.
Сразу тронулись. Я только чуть поодаль походил, следы смотрел. Ничего. Может, не заметил.
За полдень первый шприц-тюбик ушёл. Это ничего. Нормально. Я шину проверил – не разболталась. А вот пальцы на покалеченной ноге пришлось растирать. Потом – чаще. Флягу с остатками спирта мужику отдал.
К вечеру буря стихла. И приударил мороз. Да такой, что дыхание колом встаёт. Но оно к лучшему – быстрее дело пошло. За полночь добрались до заимки. Только разобрались – вездеход с просеки заурчал. С врачом из посёлка. Пацан-то смекалистый оказался. Оклемался. Потолок, крышу разобрал и утёк. В посёлок за помощью. Повезло отцу с сыном. И с сыном остался, и с ногой. Что без трёх пальцев – так это мелочи.
«Вячеслав Егорович», – представился мужик, когда меня вместе с ним на вездеход грузили. Руки пожали. «Отца Егором, значит, звали? – говорю. – Хорошее имя. Крепкое».
«Личико мне ваше синее не нравится и общее состояние здоровья, – веселил меня по дороге забавный доктор, не выпуская сигарету изо рта. – А это у вас что? Ух ты! Сквозное? Расскажете как-нибудь?»
Жуткий весельчак был. Он мне все кишки надорвал за неделю, что за мной присматривал. А дочка у него очень серьёзная была. Красивая и серьёзная. Как фарфоровая статуэтка. Ей шесть лет было. Я ей музыкальную шкатулку нарисовал. Как в «Оловянном солдатике». Да не тушью и пером, как рисовал для Вячеслава Егоровича и его сына. А как положено для детей – ярко, гуашью. Но она всё равно осталась очень серьёзной девочкой – шкатулку сразу домой унесла. Даже папе не показала.
Я как оклемался, к себе вернулся – на заимку. Собак только пока у пацана Вячеслава Егоровича оставил. Приглянулись мои лайки ему. Он, когда в посёлок за помощью шёл, с собой их взял. Сообразительный. Зачем пацана расстраивать? Сказал: «Пусть пока». Как по мне – так сильно беспокойные они были. Белка со Стрелкой. Две шелупони. А малому – в самый раз. Пусть воспитывает.
В общем, один вернулся. Крышу за пацаном поправил. Помудрствовал у печки с чайком пару дней, да пора и честь знать. Амуницию всю перетряхнул, оружие почистил. Пошёл снег разгребать, от двери сарая да от окон, глядь – волк у перелеска. Пригляделся – старая знакомая. За нами шла? А сейчас тут зачем? За биноклем сходил. Беременная, что ли, на исходе, или ощенилась уже? Соски висят. Сидит, смотрит. Я-то, как она, сидеть и смотреть не могу. Делом надо заниматься. Да и мороз пробирает. До сарая тоннель в снегу прочистил – дай, думаю, загляну. За собаками прибрать. Захожу, а там на сене – выводок бултыхается. Мяучат, как котята. На вид странноватые какие-то. Да я и не видел волчат никогда. Так, на глазок, недели три-четыре им уже, поди. Я в санчасти чуть дольше отлёживался. Да тут пока туда-сюда. Сена им подоткнул под бока, чтоб не вываливались. С гвоздя под потолком лосятины кусок снял, строганул несколько щепок и под носы бросил. Вот морока. На улицу вышел, глянул в сторону перелеска – сидит. «Ты чего, мать-перемать?!» – ору. Сидит. Ещё раз в сарай заглянул – грызут мясо-то. Вот языческая сила! Думаю, на кой ляд всё это творится? Плюнул. И в лес на тот день уже не пошёл. Так и бегал, как мамка, – к сараю и обратно. Как папка, точнее. Мамка-то весь день у перелеска как на привязи просидела. Пока до меня не дошло в доме запереться да спать лечь, чтобы волю ей дать.
Утром пошёл смотреть. Сытые. От мяса носы воротят. Значит, была ночью. Покормила. Ну и ладно. С мамки ночью – молоко, с папки днём – лосятинка заветренная да замороженная. А там посмотрим.
Через пару дней пацан – сын Вячеслава Егоровича – пожаловал. Хорошо, без собак. А то б резня вышла натуральная. Дверь-то в сарай всегда чуть приоткрыта. То да сё, гостинцев от матери приволок. Суровый такой мужичок. Крышу за собой поправить хотел. «Припозднился малость», – говорю. Так он за потолок взялся. А там всего-то пара досок – разговоров больше. «Брось, – говорю. – Пойдём, что покажу».
«Ух ты! – Он припал к гнезду на колени и прихватил одного из щенков за шкирку. – Ты смотри! Ублюдки». «Откуда знаешь?» – спрашиваю. «Да видно, – говорит. – Помесь с собакой. Можно, я одного себе возьму?» Шустрый. «Выбирай!» – «Вот этого, с чёлочкой, можно?» – «Считай – твой. Только оставь пока. Я чуть позже сам тебе принесу». Довольый ушёл. А я, озадаченный, остался.
На следующий день после обеда пошёл к перелеску и стал ждать. Чуть к вечеру появилась мамаша. С другой стороны поляны. «Ну и что всё это значит?» – спрашиваю. Сидит. Носом водит. Косится то туда, то сюда, но сидит. «Что я должен делать-то? Выкормить и на волю выпустить, или что?» Сидит. «Поближе не хочешь познакомиться? Раз уж так всё вышло?» – спрашиваю. И кидаю в её сторону хороший кусок мороженого мяса. Сидит. «Два раза уговаривать не буду. Или общаемся, или каждый сам по себе». Сидит. Я и ушёл. Стемнело.
Через месяц ответы сами нарисовались. Мамаша пропала. Щенки уже вовсю мясо трескали. Даже сальцом не брезговали и тушёнкой, когда я хотел их побаловать под настроение.
А ещё через неделю пришла телеграмма. Умерла мать.
Пока то да сё. Щенков пацану Вячеслава Егоровича пристроил, собрался, с конторой дела порешал, добрался… На поминки к девятому дню только поспел.
Отец – волком смотрит. Родня – так, с опаской. Лишнего не спросят. Выпили. А мне что удила закусывать? Виделись-то в последний раз года четыре назад. Вышел на кухню, перекурить. Только в окно взгляд бросил – девчонка за мной выскочила. Ну как девчонка – барышня. Тридцатник есть. Материной подруги хорошей младшая дочь, насколько я помню.
– Юля, – представилась. И дверь за собой прикрыла.
– Очень приятно.
– Надолго вернулись?
– Да вот сейчас докурю…
Улыбнулась. Светлая такая. Забавная.
– Что, и чаю не попьёте?
– Попью, – отвечаю.
– И всё?
– Всё. Смерти пока больше ни от кого ничего не нужно, что ещё?
– Расскажите что-нибудь.
Я сигарету затушил и новую прикурил.
– Зачем тебе?
– Интересно.
– За столом скучно?
– Да нет. Мне всё интересно.
Правда, забавная. Чёлка мальчуковая. Тридцатник, может, и есть, но так не скажешь.
– Ладно, – говорю.
Дверь на шпингалет закрыл. Там такой ещё – старый – вместе с дверью раза три крашенный. Потом окно распахнул. Большую фрамугу. Мне всегда вид за окном нравился. А через стекло – не поймёшь. Через стекло – не смотреть, а подглядывать. В городе уж точно. Не знаю почему.
– Видишь дом? Вон тот, панельный, двенадцатиэтажный? Там раньше фабрика швейная была. И булочная на углу. А где вон та стоянка – голубятня.
– А ты где раньше был? – Тоже закурила. Так спрашивает, как будто это и не вопрос.
– Да здесь и был…
Забавная она. Для таких детей рисовать просто. Не стесняешься. Ни красных камней в узком ущелье. Ни примиряющего с собой парения над кронами старого парка. Ни Ворона. Ни Пса. Даже мороженого в необыкновенно большом вафельном стаканчике не стесняешься. Неуместно только. Мороженое, в смысле. На кухне-то холод из-за распахнутого окна. Так что – по чашечке кофе с мёдом и чесноком, справедливо?
Вместе ушли. Чаю за столом со всеми попили и ушли. Мать её шипела что-то ей на ухо в коридоре, но та только рукой махнула. Мой отец даже из-за стола не встал проводить. Всегда трусом был самовлюблённым. Матери нет теперь – вот и защищается. Каждый что умеет, то и делает.
На метро до Белорусского доехали, там – на электричку. Потом такси. Поздно уже добрались, за полночь.
Утром, когда гулять пошли в сторону монастыря, Ворон каркнул. И Пёс вздохнул в своей могиле. И Дом скрипнул, приосаниваясь…
Воскресенье.
– Мне завтра на работу.
– Обязательно?
– Всё обязательно, что уже есть. Нарисуй мне что-нибудь.
– Даже не знаю, получится ли. Меня никто никогда не просил. Ну, то есть так, буквально…
– Попробуй. Ты же сам говорил – что хочешь, то и рисуешь. Ты что, не влюбился в меня?
– Нет.
– Нет?
– Это другое. Я не знаю, что с этим делать. – Дом презрительно скрипнул где-то в районе печки. – Хочешь есть?
– Очень.
– Что тебе изобразить?
– Всё, что захочу, можно?
– Абсолютно.
– Даже суп черепаховый?.. Подожди, подожди! Гречки мне с тушёнкой, пожалуйста. Так давно не ела её… Но чтоб как положено, рассыпчатую.
Пока она ела, я вышел во двор. «Тебе тоже гречки, что ли?» – спросил я у Ворона. Но тот не ответил, зачарованно уставившись на высокую луну. «А ты что молчишь?» – спросил я у Пса. Но в могиле было тихо, как… в могиле, собственно. «Ну а ты что под руку кряхтишь всё время?» – обратился я к Дому. Но тот сделал вид, что это его не касается. И зная его характер, он скорее имел в виду, что глухим обедню по два раза не служат. «Тьфу на вас, чучела языческие!» – И я вернулся назад, к теплу.
– Юлия Владимировна, вы выйдете за меня замуж?
– Вот прям вот так – с первого раза?
– Я не знаю, как это должно быть.
– Юля согласна. А вот Владимировне, кажется, надо подумать.
– Над чем?
– Быть женой художника, знаешь ли…
– Я не художник.
– А кто?
– Рисовальщик.
– Есть разница?
– Кому как.
– И всё же для Владимировны это не так просто – принять такое моментальное решение.
– Может, хватит согласия одной Юли?
– Может быть. Очень даже может быть, что и так…
Понедельник всё-таки случился. Многие относятся к этому как к неизбежности, но это не так. Не их вина. И не моя – в том, что тогда я этого тоже не знал.
Я сказал, что вернусь, и двинул на Север.
Она сказала, что позвонит, но не уточнила куда.
А на станции пересадки ветром расшатало крепление строительных лесов. Ни те, кто ремонтировал фасад, ни те, кто мельком бросал взгляд на уродливую конструкцию, проходя мимо или куря в закутке, не знали об этом.
Только понедельник знал, что сегодня – понедельник. И ветер знал, что ему всё равно. И крепление знало, что от него больше нет толка.
И как закономерный результат – я узнал, что значит не знать вообще ничего. Даже какой сегодня день недели.
Хирург, который меня оперировал, через пару дней зашёл и сказал, что я везунчик. Я в ответ задал всего два вопроса: «Почему?» и «Кто я?». Его это не смутило. Он вышел и вернулся через несколько минут с моими документами. «Помните?» – «Нет», – ответил я, полистав паспорт. Он разложил передо мной на одеяле остальное: права, пару банковских пластиковых карт, охотничий билет, лицензии на оружие, ещё какие-то документы и фотографию очень смешной собаки, похожей на большую ёлочную игрушку. «А теперь?» Я потрогал руками. Улыбнулся собаке… «Нет». «Понятно, – сказал доктор. – Отдыхайте».
Разумный и занимательный молодой доктор. Я последовал его совету. Учитывая, что вся левая половина тела была в гипсе и голова перебинтована, оставалось только отдыхать.
Повязку на голове меняли два раза в день. Что-то мне там проломило, задело… Доктор сказал на латыни – я не понял. А потом сказал, что по моим документам разыскал, кого нужно, и всем сообщил. Кого, спрашиваю, разыскал? Сначала родню, естественно. Отца. Потом – начальника заготконторы. У вас, говорит, договор с ними при себе был. Несложно. Интернет сейчас при умелом подходе на любой вопрос ответ выдаст. Не то что бог. Смешливый такой доктор. Он мне нравился.
Но после этого разговора ко мне стали приходить какие-то люди. Это было интересно.
Первым пришёл мужчина. На вид – лет семидесяти. В сопровождении моего доктора. «Ну что, доигрался?» – спросил он с порога. «Это ваш отец», – доктору явно было неловко. «Хорошо, – ответил я. – Я верю». – «Верит он, слыхали?!» – «Я вам объяснял – иначе никак. Он не может знать. Пока не может. Но готовность принять – это хороший знак. Хороший сын у вас…» – «Да уж!» – «Зря вы так». – «Надолго у него это?» – «Неизвестно». – «Что значит неизвестно?! Вы же врач!» – «Мозг – дело тёмное. До сих пор плохо изученное…» – «Хотите сказать, что он вообще может навсегда таким остаться?» – «Каким?» – «Беспамятным. Впрочем, ему не привыкать – никогда особо не отличался!» – «Вы правда не понимаете? – повысил доктор голос. – Что бы вы сейчас ни говорили – для него это пустой звук!» – «Так и я о том же!» – «Господи, да что вы за человек такой?!» – «Ладно. Ну а если это не пройдёт? Дальше что?» – «У вас будет шанс ещё раз стать отцом. Нет худа без добра, как говорится. Не каждому такое выпадает». «Да уж… Ты правда ни хрена не помнишь или морочишь всех, как обычно?» – это он уже ко мне. Я долго вглядывался в глаза этого человека, искренне пытаясь найти что-нибудь близкое. Но нет. Я так и не понял. «Вам лучше уйти», – сказал я. И он ушёл. Доктор вышел с ним. Но минут через пять вернулся. Открыл было рот, но потом махнул куда-то рукой и спросил: «Горячего чаю с лимоном хочешь?» – «Конечно, хочу! – улыбнулся я. – Топят тут у вас, как… как… хреново, короче!»
Через пару дней помоложе мужик появился. С гостинцами всякими. Стал рассказывать, от кого, да кто что велел передать, но доктор его перебил. Мол, хорошо, что у него – то есть у меня – такие друзья есть. Но лучше не сейчас. Вот восстановится, покрепче будет, вот тогда и… Мужик покрякал, якобы с пониманием, но вижу – не укладывается у него в голове. У меня у самого не укладывается. Хоть и укладывать особенно нечего. Что укладывать-то, когда родился только что, в больничной пижаме, прямо в этой палате? А документы говорят, что я своему доктору чуть ли не в отцы гожусь. В общем, мужик этот сказал, что на работе всё уладит. Помялся немного для приличия и исчез.
А ещё через несколько дней появилась девушка. Забавная. Лучистая такая. Юлей представилась. Её тоже доктор привёл. Но сразу вышел. Подмигнул мне только зачем-то.
– Мне сказали, вам плохо. Я просто побуду здесь с вами.
– Хорошо.
Она ни о чём не спрашивала. Не пыталась выяснить что-то для себя. Или прояснить для меня. Утром приходила. Вечером уходила. Доктор мне сказал, что она сначала номер в их местном клоповнике сняла, но он как узнал – к себе уговорил перебраться. Он-то сам с женой в двухкомнатной. Так что без проблем. Я всю голову из-за неё сломал. Может, тоже родня? Или жена? Нет. Доктор напомнил, что паспорт у меня «чистенький». Но при этом был как-то по-детски заговорщически наивен. А у меня от вопросов всё тело пухнет, не одна голова. Где я живу? Что делаю? Зачем? Кто я вообще такой? Но когда спустя ещё две недели меня выписали с направлением в центр какой-то там реабилитации, Юля просто сказала: «Я знаю, где вы живёте. Я провожу».
До столицы добрались. Там – на вокзал. Белорусский, вроде. Потом – электричка, такси…
– Я здесь живу? – Мы остановились перед воротами, за которыми в окружении разлапистых сосен стоял небольшой опрятный дом.
– Да.
– А откуда вы знаете?
Вместо ответа она сняла хомут, удерживающий воротины, толкнула их и прошла первой. Сделав несколько шагов по хрустящему гравию, я услышал, как над полем прокричал ворон. И вздохнул в деревьях ветер. И ступень на крыльце скрипнула, и хлопнула где-то с другой стороны неплотно прикрытая ставня. И странное ощущение холодного тока появилось на кончиках пальцев. «Кто же я, в самом деле?!» – и в тот же момент тонкие невидимые лучи сорвались с моих рук. И прокричал Ворон. И Пёс вздохнул в своей могиле. И Дом скрипнул, приосаниваясь… Я повернулся к девушке, что в последние дни неотлучно была рядом со мной:
– Я точно помню, что предлагал тебе выйти за меня замуж. Вот только запамятовал, что ты мне ответила?
– Я ответила «да».
– И я не потащил тебя сразу в загс?
– Ты был занят.
– Глупость какая! А какой завтра день недели?
– Вторник.