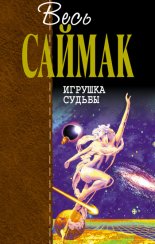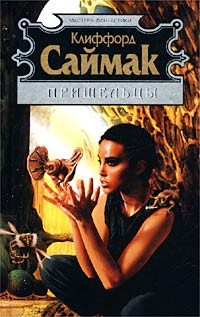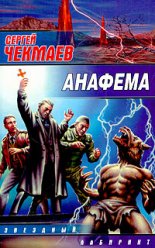Загадки любви (сборник) Радзинский Эдвард

Истории про любовь
Месть. Марина и Юрочка
Как живется вам с другою,
Проще ведь? – Удар весла!
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове…
Я вспоминал эти строки Марины Цветаевой в тот исчезнувший во времени вечер, когда шел к нему.
В те дни в журнале «Новый мир» была напечатана «Повесть о Сонечке», и телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку читать «Новый мир», звонили друг другу…
Помню, как я читал повесть – пугающее извержение любви, казавшееся столь странным в семидесятых – в пуританское, «торжественно-глухое» время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Марина (тогда еще для всех – Марина, ей шестнадцать) лежит в Коктебеле на раскаленном пляже. Там часто находили сердолики с тайным розово-голубым огнем…
И Марина кокетливо говорит поэту Волошину:
– Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.
– О нет, все будет иначе, девочка, – печально отвечает Волошин. – Ты сначала его полюбишь, потом он принесет тебе булыжник, вложит в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»
Это и стало странным эпиграфом к жизни Марины.
Ее любовь пугала. Мужчины боятся чрезмерности любви.
Она заблудилась в нашем опасном и скучном столетии.
В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза – как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях – о поцелуях. И восхитительное описание плача женщины, плача – священного обряда: глаза-виноградины, блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже там – в глазах-виноградинах… И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: она плакала по-моцартовски.
Божественность Плача Женщины… Божественность Женщины… «Повесть о Сонечке» – мечта о Галантном веке:
- Плащ Казановы, плащ Лозэна,
- Антуанетты домино…
Но все телефонные звонки, которыми обменивались в тот баснословный вечер, были связаны, увы, не с великолепием самой повести.
В повести была заключена сенсация. Я даже сказал бы – скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.
Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная – любовь из стихов Марины.
Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриса Вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании – неземная принцесса, описанная со страстью – почти подозрительной страстью…
Что же касается Юрочки – предмета Сонечкиной любви, – тут сарказм и ярость. И тоже – подозрительные…
Красавец Юрочка. Марина пишет об этом «ангельском подобии», о его росте – «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой… О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога-Юрочки… Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце… Тщетно!
– Юрочка у нас никого не любит, – говорит его старая нянечка. – Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки…
(—И себя в зеркале, – зло добавляет Марина.)
– Прохладный он у нас, – ласково говорит нянечка. Этот «прохладный Юрочка» в семидесятых годах продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране. Сколько театральных легенд было вокруг этого имени!
Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!
Но все это прошло. Давным-давно прошло… А тогда, в семидесятых, Юрочка был величественным патриархом, Главным режиссером театра имени Моссовета, лауреатом всех возможных и невозможных премий, Героем Социалистического Труда и прочее, и прочее…
Юрий Александрович Завадский.
В те дни в его театре репетировалась моя пьеса. И вот поздним вечером я шел к нему поговорить об этой пьесе.
На самом деле я шел к нему с понятным садизмом – посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому внезапно дала пощечину истлевшая женская рука.
Я пришел в тот поздний час, когда все нормальные люди спят, но «люди этого круга» только начинают жить. Он сам открыл мне дверь – очередная старая нянечка спала. Как он был хорош в проеме двери – все то же «ангельское подобие»! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора…
Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего спросил что-то о пьесе. Я начал отвечать, но уже через три минуты понял: ему скучно.
Все это время мы оба не отрывали взгляда от журнала. И вдруг он спросил:
– Вы давно читали «Евгения Онегина»?
Я был горд ответить: знаю «Онегина» наизусть.
– Ах, – воскликнул он, – какая удача! Вы знаете его наизусть – и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио… Хотите, поиграем в небольшую игру? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»… ну скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать… А можно и наоборот – вы начинайте.
Я начал:
- Одессу звучными стихами
- Наш друг Туманский описал,
- Но он пристрастными глазами
- В то время на нее взирал.
- Приехав, он прямым поэтом
- Пошел бродить с своим лорнетом
- Один над морем – и потом
- Очаровательным пером
- Сады одесские прославил…
– Стоп! – сказал он и продолжил:
- …Все хорошо, но дело в том,
- Что степь нагая там кругом;
- Кой-где недавний труд заставил
- Младые ветви в знойный день
- Давать насильственную тень…
Потом пришла его очередь начинать. И он начал:
- …А ложа, где, красой блистая,
- Негоцианка молодая,
- Самолюбива и томна,
- Толпой рабов окружена?
- Она и внемлет и не внемлет
- И каватине, и мольбам,
- И шутке с лестью пополам…
Он остановился, а я продолжал:
- …А муж – в углу за нею дремлет,
- Впросонках фора закричит,
- Зевнет и – снова захрапит…
И вот в этом месте – я точно помню – он усмехнулся и спросил:
– Вы любите старые письма?
Я замер.
Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом не глядя взял одно и стал читать.
С первых строчек я понял все. Только одна женщина в России была способна на словоизвержение любви. Точнее – словоизвержение ревности. Это было ее письмо – Марины!
Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи, ее «Попытку ревности». Оно обращено к другому человеку, но там то же отчаяние… Те же проклятия… Те же слова:
- Как живется вам с чужою,
- Здешнею? Ребром – люба?
- Стыд Зевесовой вожжою
- Не охлестывает лба?..
- Как живется вам с товаром
- Рыночным? Оброк – крутой?
- После мраморов Каррары
- Как живется вам с трухой
- Гипсовой?..
- …Ну, за голову: счастливы?
- Нет? В провале без глубин —
- Как живется, милый? Тяжче ли?
- Так же ли, как мне с другим?
Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны.
И какая у него была печаль… но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная – печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 1919 года, видел ее рот, видел ее всю, и знал – этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь – все исчезло!
Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?
Он ошибся. Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая Дон Жуана…
Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя смешная мысль заставила его вздрогнуть.
А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг сказал:
– Я очень хотел бы поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной – знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину к нему, прочь от себя… Женская вечная тяга к запретному, тяга поступать наперекор… Смешная ловушка… – Он остановился и добавил: – Но когда она уже с другим – извольте доиграть свою роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть – только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!
Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.
– За равнодушие мстят!
Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:
– Вам не приходило в голову – как Дон Жуан протягивает руку Командору?
И он показал.
Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора… Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас – ужас смерти… Опаленное лицо с мертвыми глазами… И он захлопнул дверь.
Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:
- Но кто мы и откуда,
- Когда от всех тех лет
- Остались пересуды,
- А нас на свете нет?
Конец одного стихотворения