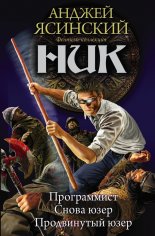Амур с оптической винтовкой Романова Галина

© Романова Г. В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Глава 1
Двор дома, в котором она жила с детства, был непригляден даже в яркий солнечный полдень. Серая бетонная четырехподъездная многоэтажка. Нелепые клумбы с чахлыми цветами между подъездами. По скамейке у старого щербатого бордюрного камня, венчающего нелепые клумбы. Две детские песочницы, в которые давно справляли нужду все дворовые коты. Некое подобие турника, давно позабытого местными спортсменами и облюбованного тетками с первых этажей, цепляющих за него и ближайшие стволы деревьев бельевые веревки. Между песочницами – единственный на весь двор дощатый стол, обитый куском затертого до дыр линолеума. По бокам стола – две скамьи.
В зависимости от того, кто раньше поспел, на скамейку усаживались либо шахматисты, либо картежники, либо гопники со всего микрорайона. Шахматисты сидели тихо, чинно. Расставаясь, пожимали друг другу руки. Картежники шумели, ржали, как ненормальные, пили пиво, оставляли пустые пакеты из-под рыбы и чипсов. Рук при расставании не жали, все больше матерились. Гопники принимались материться сразу, не дожидаясь конца посиделок. Бренчали гитарой, ноя про несчастную любовь и, конечно же, неверность, обещали в песнях скорую расправу неверным любимым. Пить начинали серьезно и почти сразу. Потом дрались. О головы разбивались бутылки, гитары. Несколько раз на ее памяти в ход пускали нож. Правда, все больше для устрашения. Серьезно никто не пострадал. Ее приятель Ромка – тоже. Он вообще считался молодцом. Ею считался. Он всегда умел отскочить. Всегда ходил по самому краю, но ни разу не свалился.
Наверное, причиной тому, что Ромка до сих пор не сел и не умер от чьей-то руки, было воспитание, данное родителями с раннего детства. Когда Ромкина семья поселилась в их проклятом доме, их сразу окрестили «интеллигентами». Прозвище, к слову, не очень почетное на этой улице. Интеллигенты не так жили, не так проводили выходные, не так воспитывали ребенка, заставляя его таскаться в спортивные секции и к репетиторам.
– В школе надо учиться! – презрительно фыркала ее мать, провожая взглядом из окна Ромкину стройную широкоплечую фигурку. – Не сидеть, раззявив рот, а учителя слушать. Тогда и репетиторы не понадобятся. Блажь какая – деньгами сорить! В школе надо учителя слушать внимательно. Правильно, дочка?..
Она послушно кивала, хотя протестные настроения уже зрели в ее неокрепшей подростковой душе. И она втихаря улыбалась Ромке, если встречалась с ним у подъезда, во дворе или в школе на перемене. Ромка учился в параллельном классе с углубленным изучением физики и иностранного языка. И это ее немного интриговало. И еще интриговали его занятия фехтованием и борьбой. Отчаянно хотелось посмотреть, как он это делает. И она ему улыбалась и кивала при встречах.
Но она все равно послушно соглашалась и матери не перечила. Если та считает, что репетиторы – это блажь, значит, так оно и есть.
Вдруг прошел слух, что Ромкина семья скоро съедет. Что его отец, чем-то там промышляющий, строит где-то для них огромный дом. И весь двор замер, ожидая, когда же это семейство съедет.
А потом вдруг все стремительно поменялось в Ромкиной жизни и «интеллигентском» статусе их семьи. Куда-то подевался его отец. А мать, недолго думая, принялась пить. Репетиторов стало оплачивать некому. Секции – тоже платные – пришлось оставить. И из класса с углубленным изучением физики и иностранного Ромка перевелся в их – обычный. И сразу, по умолчанию, занял место рядом с ней. Даже не спросив для порядка, не против ли она. Она, конечно же, была не против. Сколько себя помнила, сидела одна, потому что считалась окружающими странной и замкнутой особой. Но спросить-то он мог? Не спросил. Как и потом ни разу не спросил, чего конкретно хочется именно ей.
– Завтра идем в спортзал, – говорил он после уроков.
– Зачем? Что за спортзал?
– Тренер знакомый позвал, тренирует своих ребят.
– Чему тренирует?
– Там… – Он поднимал глаза к небу. – Всякие боевые искусства. Смешанные, короче. Нужное дело. Главное, бесплатное.
– А-а-а, понятно. И мне это нужно?
– Конечно! – фыркал Ромка, молотя ее сильной ладонью по худенькой спине. – Всегда пригодится!
Она, убей, не понимала, зачем ей смешанные боевые искусства, но не спорила с Ромкой. Он за тринадцать прожитых ею лет был единственным ее другом. Она с ним соглашалась. И тут же лихорадочно принималась сочинять собственную историю для матери, объясняющую ее занятость после уроков. Выходило складно. Мать верила.
Потом к боевым искусствам добавился тир, где у нее отчаянно слезились глаза от пороховой вони и закладывало уши от грохота, потому что тир был какой-то странный. Не такой, где стреляли из «мелкашек». И дарили плюшевые игрушки за меткий выстрел. А самый настоящий боевой полигон, с настоящими пистолетами и даже автоматами. И мишени двигались, предлагая взглянуть, куда именно ты попал.
Ей всегда было жутко наблюдать, как движется к ней щит с нарисованным человеческим силуэтом, в который она метко вбивала пулю за пулей. Она ежилась и отворачивалась от картонного силуэта с пробитой головой и областью сердца и совсем не понимала ободрительных возгласов солидных плечистых мужиков.
– У тебя большое будущее, детка, – сказал ей как-то один из них – мужчина с седой головой и широким шрамом на левом плече и, обращаясь к Ромке, проговорил: – Береги ее, сынок…
И сынок принялся ее беречь! И по ее представлениям, сильно перестарался, потому что, когда она однажды прижалась к нему всем телом и полезла целоваться, он рассмеялся и оттолкнул ее.
– Маленькая ты еще! – фыркнул он тогда и почему-то ушел.
А она была вовсе не маленькой. Ей уже шел семнадцатый год. И ей казалось, что она Ромке очень нравится. А он взял и ушел. А потом и вовсе влетел.
Это мать так сказала, когда Ромка вдруг пропал со двора, перестал ходить в школу и не отвечал на звонки.
– Ромео своего высматриваешь? – оскалилась старшая сестрица Настя, пару дней наблюдавшая за ее силуэтом в кухонном окне.
– Отстань! – огрызнулась она и прижалась лбом к холодному стеклу. – Просто смотрю.
– Ну-ну… Смотри… Пока глаза не лопнут…
Настя взяла из вазы огромное яблоко с бабкиной яблони и ушла в свою комнату. А мать, скорбно поджав губы, несколько минут рассматривала младшую дочь, а потом сказала:
– Нет его, дочка. Влетел он.
– Куда влетел? – не поняла она ни черта.
– Не куда, а за что! – Мать нервно поморщилась. – Ох, чуяло мое сердце, что не так просты эти «интеллигенты»! Ох, чуяло с первого дня!
– Мам, ты можешь говорить внятно? – Она позволила себе непозволительную грубость. – Что случилось?!
– Ромку твоего взяли с дружками на точке с наркотиками, – методично, как учитель географии, начала рассказывать мать. – То ли сам употреблял, то ли паковал, то ли к продаже готовил. Не знаю. Но сидит твой Ромка. – И повторила снова: – Влетел он!
Она тогда очень переживала за него. И даже плакала ночами, вспоминая, каким он был добрым с ней, смелым и… красивым. Она больше не знала ни одного парня с такими крепкими руками, широкими плечами, непослушными волосами, насмешливым ртом и добрыми-предобрыми черными глазищами. Ни одного!
– Влепят ему теперь по полной, – ядовито ухмылялась потом целую неделю ее старшая сестра Настя, это когда Ромка находился под следствием, взаперти. – Выйдет беззубым старичком…
Влепили неожиданно ее сестрице! Десять лет общего режима! За что и почему, она так и не узнала. Мать на все лето отправила ее к бабке в глухую деревню, где даже мобильник не ловил. И по возвращении отказалась отвечать на вопросы.
– Не твое дело! Школу заканчивай да поступи уже куда-нибудь! – рычала мать, отворачиваясь от нее и от соседей, когда проходила по двору. И тут же добавляла: – И не дай бог, увижу тебя с этим «интеллигентом»! Не дай бог!!!
Так она догадалась, что Рому выпустили. И тайком от матери сходила к нему домой, в соседний подъезд на третий этаж, потому что очень соскучилась, потому что была очень рада его освобождению, потому что хотела сказать, что набрала в школьной библиотеке учебников и для него тоже.
Но Ромка неожиданно повел себя очень странно. Он уперся кулаком ей в грудь, когда она хотела повиснуть у него на шее, и буркнул:
– Держись от меня подальше, поняла!
– Ром, ты чего?! – Она чуть не заревела от обиды. – Это же я! Я!
– Вот именно! – Его губы плотно сжались, минуту он ее рассматривал, а потом проговорил со вздохом: – Загорела… Красивая… Вали отсюда!..
Все, больше они не общались. В школу он не вернулся. Поговаривали, что перешел в вечернюю. Учебники ей пришлось сдать обратно в школьную библиотеку. Снова пришлось одной ходить в школу и из школы, снова одной сидеть за партой. Она по-прежнему считалась странной и неконтактной.
А Ромка без особых проблем влился в компанию гопников, орущих песни про несчастную любовь под их окнами. Время от времени дрался, время от времени сам получал. И на нее, что особенно было больно, не смотрел вовсе.
Прошла осень, потом зима. Еще осенью она поступила на подготовительные курсы в местный университет, успешно училась, готовилась к олимпиаде по физике. Из окна наблюдала за активной Ромкиной жизнью в компании районных гопников. Настырно кивала ему издалека, если он вдруг случайно посмотрел в ее сторону. И переживала, если он делал вид, что не замечает ее.
Мать ее тоже почти не замечала. Общались только по необходимости. Ей иногда казалось, что матери было бы намного легче, если бы в тюрьме оказалась она вместо Насти. И соседи Настю любили, а ей шипели что-то неприятное в спину, когда она, коротко им кивнув, проходила мимо.
Однажды она расслышала, как одна из них сказала:
– Вот ведь противная девка! Вроде ничего и не сделала такого, а вот несет от нее злобой какой-то! Противная…
– Не противная, – возразил кто-то. – Опасная…
И дома, встав перед зеркалом, она долго пыталась понять, что же такого в ней окружающие видят опасного, чего не видит она?
Высокая, худенькая, с аккуратными ступнями и руками, аккуратной скромной прической – высокий хвост на самой макушке. Добродушное губастое лицо без хищного алчного взгляда. Глаза голубые, взгляд открытый, нос самый обычный с легкой горбинкой. В чем опасность-то?! В том, что она умеет тремя выстрелами снять сразу трех противников за несколько секунд? Или против двух сильных мужиков может выстоять в рукопашном бою? Так об этом мало кому известно. Ромке только. Да еще инструкторам. Так забыли они о ней давно, она уже год не посещала ни секцию, ни тир.
Она сочла все это соседскими придирками, оделась и тут же позабыла. На носу были олимпиада по физике и экзамены…
Глава 2
Шел дождь. Вторые сутки мощные потоки воды топили в грязи пробивающиеся ростки скучных цветов в клумбах. Загаженный бродячими котами песок расползался сквозь широкие щели старых детских песочниц. Дворовые скамейки набухли, сделались черными, как…
Как гробовая доска.
Почему-то ему гробовая доска виделась именно такой – разбухшей, черной, воняющей прелыми листьями и свежей вскопанной землей.
– Мы с тобой, Ромео, теперь повязаны до самой гробовой доски, – вспомнил он тут же опасный шепот своего старшего товарища. – И ты мне должен…
Он всем и всегда оказывался должен, черт бы всех побрал!!!
Сначала должен был своим родителям соответствовать какому-то надуманному статусу и таскаться по секциям и репетиторам. И если первое ему нравилось, то со вторым он едва мирился.
Потом, когда отец исчез из их жизни, он стал должен своей матери. Должен стал ее поддерживать, оберегать. Хотя понятия не имел, как можно поддержать сползающую на самое дно жизни алкоголичку! Он пытался бороться с ее недугом, но тщетно. Мать губила себя в алкоголе и, кажется, делала это намеренно.
Потом стал должен этому чертову старшему товарищу, от звука голоса которого он всякий раз просыпался с криком, если тот ему вдруг снился.
И ведь, что характерно, он сам был в этом виноват! Сам!!! Как-то так вышло, что он сам обратился к этому гаду за помощью. Принял за чистую монету его проницательный взгляд, добродушный смех, желание помочь. А потом…
А потом превратился в его раба! Послушного, беспрекословно подчиняющегося, безвольного. А следом превратился и…
Рома крепко сжал подоконник сильными пальцами. Мышцы на животе и плечах напряглись.
Как так вышло, а? Как так получилось, что он стал тем, кем стал?! Как так получилось, что он потерял тех, кем дорожил?! Круг его друзей редел день ото дня, остался один человеческий мусор.
И Диана… Он никогда не простит себе, что потерял ее…
Дверь соседнего подъезда распахнулась. Под козырек, словно по зову его мыслей, вышла она – Дианка. Высокая стройная фигурка замотана в нелепый серый плащ, на голове такая же серая косынка, ниже плаща темные джинсы, на ногах грубые черные кроссовки. В руках дерматиновая сумка.
Будь его воля, он никогда не позволил бы ей надевать подобные вещи. И сумки такие в руки брать. Она создана для других вещей. Для другой жизни. И… для других людей.
Тебе не было теперь места с ней рядом, забыл? И воли твоей теперь не было. Воли, распространяющейся на нее. Ты ее потерял. Навсегда.
Дианка нахлобучила поверх косынки капюшон, но, прежде чем шагнуть под дождь, подняла взгляд на его окна. Она всегда так делала. Заученно, машинально. Он знал. И ему пришлось резко податься назад, чтобы она не видела, как он смотрит на нее.
Как именно он смотрит на нее!!!
Поймай она его взгляд, который непременно рассмотрела бы – у нее было невероятно острое зрение, она бы все поняла. Она бы поняла, что он тоскует по ней. И, может, поняла бы, что он страшно жалеет о том дне, когда оттолкнул ее от себя и назвал маленькой.
Как она доверительно жалась к нему тогда! Как тянулись ее губы к его губам! Он чувствовал своим телом всю ее – горячую, жадную, не знающую, что будет дальше. Он знал, поэтому оттолкнул. Не мог же он взять эту неумеху прямо на лестничной клетке! Стащить до коленей ее джинсы, задрать кофточку и под стон старого лифта взять ее в пыльном заплеванном подъезде.
Это не для нее, это не для ее жизни. Она у нее должна быть другой. Красивой и удачливой. Без грязи и пошлости.
– Не нужна она тебе, сынок, – раздалось неожиданно со спины.
Рома обернулся. Мать, сильно постаревшая сразу после исчезновения отца и превратившаяся в развалину после нескольких запойных лет, стояла, согнувшись, в кухне и смотрела через его плечо в окно на удаляющуюся под дождем Диану. Светлые волосы, поредевшие и немытые, были скомканы на затылке в какой-то лохматый пук и затянуты резинкой. Халат до коленей, старый, почти истлевший, хорошо что чистый. Стоптанные тапки.
– Зачем ты встала? – спросил он, отворачиваясь. – Ты же больна.
Последний месяц у нее сильно скакало давление.
– Больна, – подтвердила мать. – Но если я стану лежать, моя болезнь не пройдет.
– Водки не будет! – жестко отрезал Рома.
– А и не надо. – Мать прошаркала подошвами стоптанных тапок до подоконника, выглянула на улицу, вздохнула: – Какая мерзость на улице… И в душе… А в твоей душе, Ромео, как?
Он промолчал, хотя и был сильно удивлен ее вопросу. Последние несколько лет – а с исчезновения отца прошло пять лет – она его, казалось, вообще не замечала. Упивалась горем и водкой. А тут вторую неделю не пьет. В квартире навела порядок. Вопросы задает. Странно. Не помирать ли собралась?
Он представил мать под разбухшей черной гробовой доской и передернулся. Как ни надоели ему ее запои, смерти он ей не желал. Она, по сути, осталась единственным человеком, с кем ему не нужно было притворяться. И она не могла его предать. Никогда! В этом он был уверен.
– Плохо тебе, сынок, да? – Мать присела к столу, погладила старый пластик. – Я вижу, что плохо. Только не очень понимаю, почему? Есть подозрения, но…
– Но что?
Рома со вздохом сел напротив матери. Дианка исчезла за углом дома, можно было в окно больше не таращиться.
– Но ты ведь не расскажешь мне, нет?
Поблекшие глаза матери глянули на него неожиданно остро и требовательно. Он уже и не помнил, когда она так на него смотрела. В классе пятом, может быть. Когда еще отец был с ними.
– Не расскажешь… – Ее сморщенные ладони снова погладили по столу. Голова слегка качнулась. – Я очень виновата перед тобой, сынок. Очень!
– Мам, не начинай. – Он сморщился.
Подобных разговоров ему и с ее пьяных глаз было предостаточно.
– Погоди, не перебивай. – Грудь матери судорожно колыхнулась, раздался странный всхлип. – Знаю, что я долго пила, долго ныла. Помощи никакой. И ты… Ты совершил большую ошибку. И в этой твоей ошибке виновата я…
Роман почувствовал, как бледнеет.
– Я виновата, Рома. Только я. И не смей никогда винить себя в том, что случилось, – почти шепотом закончила мать, и снова странный клекот разбавил ее голос.
– Откуда ты…
Его бледность стала почти болезненной. Кажется, даже щеки заломило. И не стало хватать воздуха, чтобы дышать. Стены кухни сдвинулись, сомкнулись над его головой. Не зареветь бы, вот что! Он же не слюнтяй! Он же мужик! Сильный, пусть и не вполне независимый.
– Откуда ты знаешь про мои проблемы, про мои ошибки, мам? Откуда ты можешь знать? – сдавленным голосом спросил Рома.
– Я пила эти пять лет, но не была безумной, сынок. – Бесцветные губы матери скривились. – Когда тебя взяли на точке будто бы с наркотиками, я сразу поняла, что это.
– И что?
– Из тебя сделали подсадного! Из тебя сделали… суку! – выдохнула она с благоговейным ужасом. – Если бы был жив отец…
– Жив?! А он что?! Умер?! Не сбежал – умер?!
Из всего, что она сказала, он услыхал только это. И это его придавило, прибило! Больше, чем то, что она, оказывается, все, все, все про него знает. И даже, кажется, осуждает. Впрочем, как и сам он себя.
Отец – что? Умер?! Господи! Он столько лет надеялся, он столько лет ждал! Первый год вскакивал с постели, когда глубокой ночью громыхала подъездная дверь, скрипел поднимающийся лифт, слышалось осторожное шарканье чьих-то подошв по бетонным ступенькам подъезда. Он вскакивал и, замерев, стоял, приложив ухо к входной двери. И слушал. И надеялся. И закрывал глаза, моля бога, чтобы сейчас, ну вот сейчас, в дверной замок вошел ключ и дважды провернулся. И отец вошел, и…
И тогда все было бы по-другому.
А он что – умер??? Она знала все эти годы и не сказала ему???
Он же не знал. Он же потом начал ненавидеть его! Своего отца! Ненавидеть за предательство, за подлость, за бегство, за трусость. За то, что он сделал с матерью. С ним…
– Он умер?! Мам?! Говори!
Он с такой силой хватал ртом и толкал из груди воздух, что колыхались листочки отрывного календаря, висевшего над обеденным столом. Календарь был старым. Ему было пять лет. Отец любил отрывать за завтраком странички и зачитывать им дурацкие приметы и рецепты. И смеялся при этом звонко и заразительно. И находил это забавным. И находил забавными тех людей, которые следуют этим приметам и используют календарные рецепты.
После его исчезновения никто этих страниц больше не трогал. И со стены календарь не снимался. И ежедневно на них таращилось с пожелтевшего маленького прямоугольника тринадцатое число августа месяца пятилетней давности. И ежедневно приходилось рассматривать замахрившиеся ребра оставшихся страниц. Страниц, не оторванных рукой отца.
– Отца давно нет, сынок, – произнесла через силу мать и прикрыла дрожавшими пальцами правой руки глаза. А левой ткнула в численник. – Нет с тринадцатого августа.
– А где он?! Почему?! Почему так все скотски?! Мы его не хоронили!!! Я тебе не верю!!!
Рома вскочил с табуретки и заходил по тесной кухне. Три шага до окна, три обратно, до двери. Три шага до окна…
Там снова Дианка! Чего вот она сегодня душу ему рвет?! Стоит под дождем, стащив капюшон серого плаща и сняв косынку. И смотрит на его кухонное окно. И острые струи дождя бьют ее по голове, по лицу, делая больно. Ей же наверняка больно!
И он не выдержал.
– Я сейчас! – крикнул он матери, так и сидевшей с прикрытыми рукой глазами.
Выскочил за дверь, едва всунув ноги в стоптанные летние туфли. Сбежал с третьего этажа в две минуты. Лифта ждать не стал. Пока этот старый пенал со скрипом спустится, пока, лязгая всеми механизмами, распахнет свои обшарпанные двери, он уже будет на улице.
– Ты чего тут?! – заорал он на девушку, дергая ее за руку и втаскивая из-под дождя к себе в подъезд. – Ты чего мокнешь, дура, что ли?!
– Рома… – шепнула Диана посиневшими от холода губами, ее мокрые ресницы заметались. – Здравствуй, Рома.
– Привет, – буркнул он и на всякий случай отошел от нее на два шага. Оглядел всю: от мокрых спутанных волос до промокших насквозь грубых кроссовок. И снова буркнул: – Промокла вся, как курица. Посмотри, на кого похожа!
А она, вместо того чтобы обидеться, чтобы наговорить ему гадостей, оттолкнуть, убежать, просто послать его – идиота – куда подальше, едва заметно шевельнула губами, пытаясь улыбнуться. И проговорила:
– Я так рада тебя видеть, Рома.
– Рада она! – фыркнул он.
И снова перехватило в груди от недостатка кислорода, и теперь уже подъездные стены начали смыкаться над головой, заключая его в страшный бетонный куб, напоминающий тюремную камеру, в которой ему было жутко. Камера все время казалась ему кубическим безвоздушным пространством.
– Рада, – кивнула она. И улыбнулась чуть убедительнее. – Я так скучала!
– Скучала она! – возмутился он. – Я же сказал тебе: держись от меня подальше! Чего ты вот…
– Это не я. Ты сам, – возразила Диана, тараща на него свои неподражаемо голубые глазищи. – Ты сам вышел… Ко мне…
– А чего мокнешь, как дура?
Он убрал руки за спину, с силой сжал кулаки, уставился на нее злым, исподлобья взглядом. Он изо всех сил старался, чтобы взгляд был именно злым, почти ненавидящим. Он старался.
Но он не мог ненавидеть все то, что видел, не мог, не мог! Черт!!! Как же тяжело быть беспристрастным! Где же этому учат, черт?! Где учат ледяным взглядам, спокойному биению сердца, волевому равнодушному дыханию?!
– Я не дура, Ром. Я просто… – Ее нижняя губа предательски задрожала, и Дианка прижала ее верхними зубами на мгновение.
– Просто что? – Кулаки, от того, с какой силой, он их сжимал, онемели.
– Я просто люблю тебя… кажется, – едва слышно пискнула она и заплакала, опустив голову.
– Кажется ей!
Он так плотно стиснул зубы, что воздух сквозь них снова перестал попадать в легкие. И там так жгло в груди. Так нещадно жгло!
– Нет, не кажется. – Диана горестно всхлипнула, вскинула голову, глянула на него самыми распрекрасными на свете голубыми глазищами, в которых замерли слезы. – Я люблю тебя, Рома. Очень люблю! Не могу без тебя просто. Даже дышать не могу!
– Дура… – простонал Рома, на мгновение зажмуриваясь. – Какая же ты дура, Дианка!
Пальцы разжались. Он шагнул вперед, протянул к ней руки, погладил ее по плечам, затянутым в шуршащий серый плащ, насквозь промокший от дождя. Вцепился в них. И почувствовал, что она дрожит. Замерзла? Дотянулся подбородком до ее головы, потерся о мокрые спутавшиеся волосы. И снова зажмурился. И снова шепнул:
– Какая же ты дура, Дианка. Господи, какая же ты дура!
– Почему?
Она стояла и не шевелилась. Боялась намочить его яркую рубашку с оторванной пуговичкой у воротника или спугнуть. Боялась, что он снова оттолкнет ее и обзовет маленькой.
– Нам же нельзя… Нельзя быть вместе. – Он прижался щекой к ее виску, обхватил пальцами ее затылок. – Нам нельзя…
– Можно.
Диана запрокинула голову, нашла его губы своими и очень осторожно прижалась.
– Даже целоваться ты не умеешь, дурочка. – Он тихо рассмеялся. – Маленькая… Какая же ты маленькая еще!
– Нет!
Она так испугалась, что он снова ее оттолкнет, снова исчезнет и она снова будет месяцами ловить силуэт в его кухонном окне или выглядывать сквозь свое окно на улице в дурной компании. Забыла, что в промокшем плаще. Забыла, что их могут увидеть и доложить матери, а она запрещала…
– Нет! – Диана крепко обвила его руками, прижала голову к его груди, в которой сильно бухало. – Нет! Не уходи! Прошу! Я не могу! Я не могу без тебя! Мне плохо, Рома! Мне больно! Мне ничего не нужно без тебя, Рома! Ничего…
– Мне тоже.
Он взял ее лицо в ладони и поцеловал. Умело, по-мужски, ломая сопротивление ее неопытных губ, разжимая ее зубы, требуя ответа. А потом оттолкнул. И долго рассматривал в упор ее смятение, застывшее на выдохе.
– Я… Я не маленькая, – дребезжащим голоском произнесла Диана, совсем не так все поняв. – Я просто… Просто целоваться не умею. Не бросай меня, Ром, а?
Он отвернулся. Отвернулся, чтобы устоять. Чтобы не схватить ее за руку и не втащить к себе на третий этаж и там, закрывшись в собственной спальне, делать с ней все, что хотелось.
– Уходи, – буркнул он, начав подниматься по ступенькам.
– Рома! – ударил ему в спину отчаянный крик. – Пожалуйста! Я научусь! Научусь целоваться! Честно, честно.
– Вот дура, а! – Он тихо рассмеялся, оглядываясь и повисая на перилах. – Научится она! Я тебе научусь! Иди домой, Дианка. Пока иди домой.
– Ты меня не бросаешь, нет?
Она топталась возле подъездной двери, не замечая, как отвратительно чавкает вода в старых худых кроссовках. Серый вымокший плащ, перетянутый в талии, стоял колом. Под подмышкой зажата большая дерматиновая сумка. Мокрые волосы сбились комком на воротнике. Веки припухли от слез. Губы…
Она была смешной, нелепой и самой прекрасной для него. Она была его женщиной. Женщиной, которую он выбрал.
– Я сам научу тебя всему, Дианка, – проговорил Рома, не сводя глаз с ее рта. – Сам. Только я. Сбереги себя, хорошо?
– Да. – Она закивала часто-часто. – Да… Да, Рома. Так ты меня не бросаешь? Нет?!
– Нет, – сказал он и пошел наверх, уже не оборачиваясь.
А про себя добавил: нельзя бросить того, кем не обладаешь. Нельзя! И сразу сделалось тошно.
И мать еще тревоги добавила. Когда он вернулся, она говорила с кем-то по телефону, что само по себе было поразительным. Он больше года не видел ее с трубкой. С бутылкой – да. С телефонной трубкой – нет. А тут заперлась у себя в комнате и с кем-то говорит. И голос непривычно резкий. Она давно так не говорила. Обычно, разбавленные алкоголем, слова у нее выходили длинными, с затянутыми гласными.
Он встал под дверью ее спальни и прислушался. И подумал, что, не дай бог, она знакомых таксистов просит водки ей привезти.
– Я слушаю, слушаю! И не перебиваю! – громко произнесла мать, когда его ухо прижалось к ее двери. Помолчала. А потом со злостью воскликнула: – Да что ты?! И не знаешь?! Хочешь, я тебе скажу?!
Снова тишина, нарушаемая скрипом старого деревянного кресла, стоящего в углу в ее комнате. Кресло было раритетным, доставшимся отцу от деда. Стояло в их комнате музейным экспонатом. Мать на нем, на памяти Романа, не сидела ни разу. Утверждала, что сидение на нем напоминает пытку. Чего сейчас уселась? И с кем говорит? И телефон-то, телефон откуда?! Она свой год назад пропила за семьсот рублей. Так ему сказала. Может, просто потеряла?
– Не смей, сволочь!!!
Рома вздрогнул от резкого материнского крика после тишины, разбавляемой лишь скрипом старого деревянного кресла.
– Не смей втягивать его в свои грязные дела!!! Не смей, или я… – Она замолчала, видимо, ее перебили. И потом вдруг: – Я знаю, гад, под каким могильным камнем ты его спрятал. Сказать адрес безымянной могилы?..
Глава 3
– По статистике, дорогой, вы самые неустроенные в семейном плане люди, – проговорила Наталья, сбрасывая с кровати длинные ноги и поднимаясь чрезвычайно грациозно.
Спинка прогнута, попка зазывно оттопырена. Наверняка репетировала подобный подъем не единожды. Наверняка знала, как он отреагирует. Он и отреагировал. Тут же поймал ее за коленку, дернул на себя и снова заставил улечься на соседнюю подушку. И не выпускал потом из кровати полчаса. Выдохся и тут же задремал. И, как следствие, проспал запланированную с Лешкой рыбалку. И Наталья, как и хотела, получила его к завтраку, над которым долго трудилась.
Молодец! Все продумала! Хитрая. И главное, упрекнуть ведь не в чем. Он сам ее схватил, сам проспал. Самому теперь и перед Лешкой извиняться. Его пропущенных вызовов Артем насчитал с десяток. И одно пропущенное сообщение, в котором друг утверждал, что их дружбе на этом конец, что его закадычный друг Артем последний скот и что променял его на…
Дальше было не очень прилично, и Артем поспешил сообщение удалить. Если Наталья, не дай бог, прочтет, она из кожи вылезет вон, но на самом деле их дружбу похоронит, тщательно все продумав и обустроив все так, что упрекнуть ее будет не в чем.
– Доброе утро, – проговорил он неуверенно и окинул взглядом стол. – Ничего себе! Гостей ждем?
– Нет. Все для тебя, дорогой. – Девушка, на которой он уже полгода собирался жениться, но всякий раз почему-то откладывал, лучезарно улыбнулась. – Прошу к столу.
Каша, омлет, блинчики, сок в графине, кофе в кофейнике, еще творожный крем, взбитый с замороженной черной смородиной, сметана. Все это еле уместилось на его обеденном столе. Артем со вздохом оседлал стул. И тут же вспомнил свои прежние холостяцкие завтраки с Лехой в «стекляшке», через дорогу от отдела.
Что они там обычно ели? Что придется? Правильно! То глазунью с желтком, подернувшимся окаменевшей сморщенной пленкой. То манную кашу с комками и запахом пригоревшего молока. То пончики или беляши, плоские и жесткие, как подошва. Оладьи тоже там случались со сметанной каплей вприкуску. Все стоило гроши. Съедалось залпом. И даже казалось сносным.
Потом там все поменялось. Поменялся персонал, поменялись завтраки и поменялись цены на них. Старые пластиковые столы заменили деревянными, застелили скатертями, поставили салфетки. И неожиданно им с Лехой перестало там быть вкусно.
– Может, мы с тобой какие-нибудь ущербные, Тёма? – с тоской чесал отраставшую за три часа щетину напарник. – Красиво ведь стало, вкусно. Это тебе не манная каша с комочками! И не остывшие сырники с кусочками непромешенного творога. А нам «стекляшку» жаль. Что с нами не так?
Артем, честно, не знал. Но по «стекляшке» тосковал тоже.
– Что-то не так, дорогой? – Наталья, в миленьком домашнем костюмчике ярко-красного цвета, удивительно оттенявшем ее жгучую красоту, потянулась к нему через стол. – Тебе не вкусно?
– Все замечательно, – пробубнил он с набитым ртом, даже не поняв, что только что положил себе в рот. – Ты умница.
И он не врал. Наталья была умницей. Во всем. Упрекнуть было не в чем.
– Спасибо. – Она тепло улыбнулась и вдруг спросила: – Леша не звонил?
– Звонил, – ответил он тут же и подозрительно сощурился. – Только почему-то я не слышал его звонков. Не знаешь, почему?
– Тёма-а-а… – Она рассмеялась красиво и игриво и погрозила ему пальчиком. – Ты все забыл? Ты же вчера вечером, когда тащил меня в койку, сам поставил на беззвучный. Забыл?
Сам? Когда? Вечер, вечер, вечер…
А что было вечером? Он пришел со службы поздно. Принял душ, поужинал. Потрещал с Лехой. Договорились на утро на рыбалку. Потом Наталья перед ним уселась в чем мать родила. И он завелся. И она! Она, черт возьми, посоветовала ему убавить звонок. Чтобы не мешали. Чтобы не спугнули. И он сам, да, да, сам, своими руками убрал звонок, чтобы не мешали, чтобы не спугнули в самый ответственный момент.
Упрекнуть не в чем! Ее снова упрекнуть не в чем. Как же это она все так мастерски устраивает, а? Он, получается, бредет, будто и не по указке, но как-то так получается, что у нее на поводу. И вроде сам решения принимает, но какие-то почему-то неправильные, не его.
Артем схватил стакан с соком, сделанным из нескольких фруктов, оттого с непонятным приторным вкусом, сразу ему не понравившимся. Прикрылся стаканом от Натальи, не пропускающей ни единого его движения. Внимательно вгляделся.
Что с этой девушкой не так? Почему он медлит? Почему не берет ее в жены? Еще полгода назад купил кольцо, и оно до сих пор у него в сейфе на работе пылится в бархатной коробочке. Постоянно какие-то причины находились, и он оттягивал и оттягивал важный судьбоносный момент.
Она красива? Несомненно! Более чем! Высокая, фигура потрясающая. Ноги бесподобно стройны и длинны. Черные глаза, ласковые, сверкающие. Был бы поэтом, что-нибудь такое сочинил про них, про глаза. Нос обычный, маленький, прямой. Рот нормальный, аккуратный. Скулы, лоб, все в норме. Тоже можно было бы что-нибудь сочинить и про них, умей он. С характером тоже вроде ничего такого. Не истерит, не обижается, когда он задерживается или когда его дергают по вызовам. Ни разу не упрекнула его ни в чем. Хотя, на его взгляд, можно было бы. Кроме алчного секса, он ни на что такое не способен, ни на какую романтику. А девушкам это просто необходимо, Леха говорит. Они без этого жить просто не могут, опять же с его слов. А Наталья не требует. Почему? Ее все устраивает? Или притворяется? Или просто приручает его? Это снова Леха, его цитата.
– Милый, все в порядке? – Наталья тронула его за голое плечо, погладила нежно. – Тебе не нравится сок?
– Почему? – Артем поставил стакан на стол, в нем убавилось на палец.
– Ты почти не выпил.
Между ее бровей пролегла крохотная складочка, Наталья осторожно потрогала ее кончиком пальца, видимо, знала о ее существовании и тревожилась.
– Странный рецепт, в самом деле. Рекомендован, как сжигающий калории. Больше так делать не буду. Хочешь, сделаю тебе другой?
Нет, ну золото, а не женщина! Другая бы сейчас губы надула. Или орать принялась, что он бездушный и неблагодарный. Что она старалась, готовила, пока он дрых. А он неблагодарный просто скот! Это Лехина жена так надрывалась, если он молча что-нибудь сжирал и не нахваливал. А Наталья…