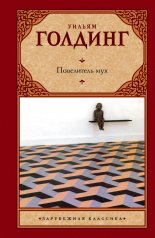Дар нерукотворный (сборник) Улицкая Людмила

– Вчера гости все подъели, а сегодня я из дому не вылезала, – объяснила скудость стола Гуля. – Сейчас мы с тобой немножечко хряпнем, друг сердечный! – ворковала Гуля, смолоду любившая веселое винное ускорение крови, и вытаскивала большие, зеленого стекла бокалы. – Глупость, конечно, коньяк из таких бокалов, да еще и зеленых, но эта мелкота, они все грязные, – и махнула рукой в сторону помоечного, как его называла, столика возле двери, где стояла вчерашняя немытая посуда. – Знаешь, я подумала: к черту рабство! Если я не хочу ее мыть, то могу, в конце концов, и не мыть, не правда ли, друг мой?
– Гуленька, конечно, правда, – улыбаясь, умиляясь ей, ответил Сан Саныч, склонив голову набок. Он смотрел на нее восхищенно, и она чувствовала это и приходила в кураж. – Ты просто молодец. В нашем поколении таких людей, как ты, уже нет.
– Что ты имеешь в виду? – переспросила Гуля, любившая всякого рода комплименты и ожидавшая услышать приятное. – Налей-ка, голубчик. Вот так. И хватит.
– За твое здоровье! Гуля, ты поразительная женщина! Ты – прекраснейшая из женщин! Я тебе ничего нового не скажу, но ты – эвиг вайблих! Елена, Маргарита и Беатриче в одном лице! – восторженно, искренне и вдохновенно понес Сан Саныч, подымая мутный зеленый бокал.
Гуля захохотала, положив на лоб худую, съехавшую внутрь, как это бывает у пианистов, кисть.
– Я так давно не слышала этих благородных имен, что в первый миг изумилась, с чего это ты мою милую Беатриче, Беатрису Абрамовну, в такую возвышенную компанию записал! Ох, я забыла ей позвонить! – сквозь смех вспомнила она.
– Да ну тебя, Гуля! Не даешь собой восхищаться!
– Я? Да сколько угодно! Что может быть приятнее даме, чем восхищение… Разве что… – И она снова залилась смехом.
– Ах, Гуля, Гуля, ну как тебя не любить! Это же просто невозможно! – простуженно трубил Сан Саныч.
Она сидела в широком кресле, ручка которого была подвязана старым поясом от халата. Голубые, свежевыкрашенные волосы дымились вокруг ее маленького черепа; как всегда, круто была подрисована бровь, а под ней – драгоценный, смеющийся, умный глаз. Сан Саныч налил по второй.
– Да, Гуля, дорогая, я хочу выпить за чудо женственности, за чудо твоей женственности! – торжественно провозгласил Сан Саныч и, склонившись, поцеловал ей руку.
Что-то хрустнуло в памяти. Близко-любимо-знакомое, что проступало в чертах капитана Утенкова, – это же Шурик был, Шурик!
А Сан Саныч, дурак, все витийствовал. Размякнув от коньяка, лепетал о шелковых коленях, которые он так любил в детстве, о нежных перчатках, прикосновение которых так волновало, и даже о подзорной трубе, которую она когда-то ему подарила…
Пальцами, обряженными в большие некрасивые кольца, Гуля расстегнула три верхние пуговицы своей лиловой блузки, глубоко вздохнула и тихо, раздельно произнесла:
– Шурик, мне плохо…
– Боже мой! Гуленька, что с тобой?! Может, врача вызвать?! – осекся Сан Саныч, искренне встревоженный ее нездоровьем.
– Нет, нет, что ты, ни в коем случае! Это бывает. Сосудистое. Перемена погоды. Помоги мне перейти на кровать. Вот так. Спасибо, мальчик! – И, следуя хитрому вдохновению, Гуля повлекла ничего не подозревающего, невинного, восторженного, совершенно уже обреченного Сан Саныча к причаленной своей ладье.
– Подушку повыше, пожалуйста, и корсет расстегни, милый! – томным голосом приказала Гуля.
Сан Саныч повиновался.
Две тонкокожие осенние дыни медленно выкатились на руки Сан Саныча.
– Может, тебе какое-нибудь лекарство? Я сейчас… – пролепетал Сан Саныч в некотором смятении.
– Ах, какое уж тут лекарство, – великолепно и снисходительно произнесла Гуля – и Сан Саныч наконец понял, что он приперт…
Ладья поплыла, и в этот же миг Сан Саныч почувствовал, что все его дурацкие комплиментарные, извилистые и дохлые слова, которые он лепетал полчаса назад, – святая, истинная правда.
Джульетка протопала своими костяными коготками от бархатной подушки к креслу, вспрыгнула на него и уселась, не сводя черных глазок с тонких белых ног хозяйки.
Без четверти шесть щелкнул замок Гулиной комнаты – она провожала Сан Саныча к дверям. Они были одного роста – длинноногая Гуля и приземистый Сан Саныч в толстом зимнем пальто. Она задела вешалку, уронила половую щетку, стоявшую у соседской двери, и, поцеловав его в лоб, сказала неожиданно громко и низко:
– Спасибо тебе, Шурик!
– За что? – тихо спросил Шурик.
– За все! – подвела трагическую черту сияющая Гуля.
…Три дня не убирала Гуля с овального стола двух зеленых бокалов. Заходили приятельницы. Она сажала их в кресло и, указывая на бокалы, томно говорила:
– Должна тебе сказать, что в нашем возрасте любовные игры – слишком утомительное занятие. – Она делала паузу и продолжала небрежно: – Любовник был. Молодой. Так устала, что нет сил вымыть пару рюмок.
И она приподнимала средним пальцем веко, которое в последние годы немного западало, и внимательно следила за выражением лица приятельницы – чтобы не упустить и этой последней крупицы нежданно случившегося праздника.
Народ избранный
Седьмого октября, в канун Сергия Радонежского, Зинаида приволокла к церкви свое жидкое, стекающее книзу волнами, скорбное тело и остановилась на ничейной земле, где ларьки уже кончились, а церковная балюстрадка, возле которой паслись нищие, еще не началась.
Месяц уже прошел с тех пор, как она похоронила мать; похоронные деньги, скопленные матерью, издержались, еще восемнадцать рублей пришлось доложить к поминкам из инвалидской пенсии. С деньгами Зинаида управляться не умела, мама все покупала, пока была здорова, а как заболела, так пошло все непонятно, и с едой стало плохо. До маминой смерти Марья Игнатьевна со второго этажа приносила то суп, то еще чего, а как мама умерла, Марья Игнатьевна перестала ходить к Зинаиде, потому что обиделась: хотела взять мамину кофту китайскую, а Зина не дала, пожалела. Не потому пожалела, чтобы себе оставить – Зина мамины вещи носить не могла, мама была сухая, как таракан, и росту маленького, а Зинаида была такой ширины, что в трамвай не влезала. Не дала кофту Зинаида потому, что это память была о матери, – китайского зеленого цвета, с обтяжными пуговицами и шерстью вышитыми цветами на плечиках.
Была еще вторая, синяя, но ее тоже теперь не было, потому что мама велела ее хоронить в синей. Она была мерзлява, боялась холоду могильного и велела хоронить ее в синей кофте и в носках шерстяных. Так Зинаида и сделала, как мать велела, и Марье Игнатьевне ничего не досталось, она и досадовала.
И еще мать велела, чтобы Зинаида надеялась на Божью Матерь и, как деньги кончатся, чтобы шла к храму и стояла бы: «Добрые люди помогут твоему убожеству за ради Божьей Матери».
Вот теперь Зинаида пришла и стала. Стоять ей было еще хуже, чем ходить, она считала, что главная ее болезнь в ногах, хотя районная врачиха говорила, что в железах-надпочечниках.
Две нищие у балюстрадки, возле самой церкви, сидели на складных стульчиках, но стульчики такие Зинаиде не годились, они бы ее не удержали.
Обута была Зинаида мягко, в разрезанные впереди войлочные тапочки, к которым у нее дома были и галоши на мокрое время. Носки ей вязала мама просторные из деревенской шерсти, и тренировочные штаны носила Зина, потому что никакие чулки на ее складчатые ноги не налезали. Поверх надет был новый огненно-ржавый халат фланелевый и хорошая кофта – по своей неразумности надела она на себя все самое лучшее, как в поликлинику, потому что шла на люди.
Так стояла она, мимо шли бабушки и некоторые женщины помоложе с сумками, и совсем молодых несколько, но никто ничего Зинаиде не давал. Видно, она стояла либо не там, либо не так. Полчаса прошло, и ноги стали гореть огнем, и сильно захотелось есть – и она вспомнила, что в буфете стоит пачка вермишели. И пошла она потихоньку домой в недоумении, что мама-то ее обманула – или сама ошиблась: никто ей на убожество ничего не подал ради Божьей Матери.
Наутро сообразила Зинаида, что никому из проходящих не говорила она, что ради Божьей Матери. Спохватилась, но идти было поздно, потому что обедня отошла.
Зато на другой день Зинаида встала пораньше и собралась в храм. День опять был не простой, с хорошим праздником, Иоанна Богослова, и погода была солнечная – теплая для этого времени необыкновенно. Опять надела Зинаида свой огненный халат, хорошую кофту, опять не дотумкала одеться победнее. Повязала платок розовый холодный и заколыхала через проспект.
Народу возле храма было побольше, чем в прошлый раз, а нищих целая череда выстроилась. Зинаида подошла к ним поближе, но не совсем близко – стеснялась. Теперь она уже помнила, что надо просить не просто, а ради Божьей Матери. Но все, кто проходил, не смотрели в ее сторону, а она не знала, как их окликнуть.
Наконец старушка совсем плохая шла мимо, в очках, с клюкой, остановилась возле Зинаиды и дала ей мутную копеечку.
– Ради Божьей Матери, – невпопад сказала Зинаида, а старушка ловко ей ответила:
– Господь с тобой!
Зинаида обрадовалась, стала рассматривать свою копеечку, она была совсем обыкновенная, но все же дареная.
«Мама-то не зря сказала», – подумала Зинаида. И тут подошла к ней черная длинноносая женщина на каблуках, в темных страшных очках и, положив в руку ей двугривенный, попросила:
– Помолись об упокоении Екатерины.
– Спасибо вам большое, помолюсь, – сказала Зинаида и перекрестилась. Она не знала, как правильно отвечать, но, похоже, женщине в очках было не важно.
Народ все шел, шел мимо, не густой толпой, а так, по одному, по двое, и набрала Зинаида полную ладонь, правда, больше меди. Ноги стало сильно крутить, и очень хотелось есть. Она решилась идти домой, только прежде зайти в храм и поблагодарить Божью Матерь за пособие.
Взлезла Зинаида на паперть, лестницы были тяжелые, ей показалось, что кто-то ее окликнул: «Эй, ты», но знакомых у нее здесь не было, и она вошла внутрь, крестясь трижды возле всех дверей. Купила свечку за тридцать копеек – еще много денег оставалось, не меньше рубля, – поставила возле Казанской – мама всегда здесь ставила – и поковыляла к выходу.
Возле ящика старуха-тарелочница пхнула ее остренько в бок и прошипела:
– Стой на месте, как люди, куда тебя несет, Херувимскую поют!
Но Зинаида не поняла, за что старуха ее ругает, и, сгорбившись, пошлепала к двери.
Она вышла из храма, бок все еще отзывался на старухин пинок, и вдруг – напасть какая-то! – еще одна старуха в клетчатом платке с жирной родинкой под глазом, из тех, что стояли на самом давальном месте, перед ступенями, набросилась на нее, вывернула ладонь так, что посыпались на землю набранные монеты:
– А ты сюда боле не ходи, ноги тебе переломаем! – и стала толкать ее в спину корявой сумкой.
Хромой старик поднялся с земли, зашел с другого бока и, черным словом обругав ее, замахнулся:
– Давай, давай отсюдова!
Зинаида зажмурилась и остановилась. Ноги у нее как будто отнялись, и она почувствовала, как горячо стало ляжкам и икрам.
– Иди, иди, нечего тебе здесь делать, своих хватает! – гнала ее совсем уж крохотная старушонка в плешивой меховой шапке.
Зинаида рада была бы убежать, да ноги не держали – подогнулись, и она осела на самой дороге, как огромная растрепанная курица, укрывая голову белыми и пухлыми руками.
И вдруг над головой ее раздался свирепый хриплый голос:
– У, шакалья стая, рванина несытая! Мразь ты, Котова! Двадцать лет стоишь, все мало набрала! На тот свет заберешь! А ты куда, старый хрен, лезешь, прислуга фашистская! Вставай, что ли!
Зинаида почувствовала, как железная рука легла ей на плечо и потянула вверх.
– Эй, женщине плохо, помогите поднять! – зыкнул голос, и чьи-то руки потянули Зинаиду вверх, потащили чуть не волоком к скамье и усадили. Тут только она открыла глаза. Перед ней стоял маленький широкоплечий – сначала показалось – мальчишка, нет, не мальчишка, мужиковатого вида женщина в брюках с косыми бровями и разбойным лицом. Желто-рыжая челка торчала из-под белого ханжеского платка. Растопыренные ноздри подрагивали. – Ничего, ничего, я им хвоста накручу, банда попрошайская! Ты ходи и стой где хочешь, места некупленные! Ишь, мафию развели, как в Сицилии! Убогому человеку уже и притулиться негде! Хуже милиции! – орала эта странная женщина. – А ты не слушай их! Если тебе кто хоть слово скажет, ты им сразу говори: а мне Катя Рыжая велела!
Катя Рыжая стояла, опираясь на два здоровенных костыля, потом, низко склонившись к Зинаиде и угасив гнев, спросила:
– А ты сама-то откуда?
Зинаида хотела ответить, но язык не ворочался.
– Где живешь-то? – переспросила Катя. – Глухая?
Тут Зинаида покачала головой.
– Здесь живу, через проспект.
– Какая группа? – деловито осведомилась Катя.
– Вторая, – радостно ответила Зинаида.
– Ага, – удовлетворенно кивнула Катя.
– Мама у меня померла. Месяц, как похоронила, – поддержала разговор Зинаида.
– А моя все никак не помрет, – с сожалением заметила Катя. – Вот трешничек, возьми. Ты пьющая?
– Не-ет, – удивилась Зинаида.
– Бери! Раз непьющая, тебе и до Покрова хватит. Завтра не приходи. Приходи четырнадцатого или тринадцатого, ко Всенощной можешь прийти. Я здесь буду. Если чего, ты так им и скажи – Катя Рыжая велела! Зовут-то как?
– Зинаида, – застенчиво ответила Зинаида.
– Они, Зинаида, темные, сил нет. Есть злые как собаки. Да что собаки, хуже собак! Чуть цыкнешь, хвосты прижимают. Все больше попрошайки, настоящих нищих здесь почти что и нет. А ты ходи, ходи, не бойся!
Катя помогла Зинаиде выбрать свое тело из глубокой садовой скамьи, в которую, как в западню, затекла Зинаида. И пошла она восвояси, ощущая мокрель в тапках и холод по всему низу.
Остывшая и как бы даже похудевшая своим рыхлым телом Зинаида втиснулась в квартиру и, не проходя вглубь, села в прихожей на табурет, стянула с головы платок, свила его жгутом, куколкой, стала жалеть: «Бедная, бедная», – и заплакала…
Зинаида была слаба, она, и с мамой живя, часто обижалась на маму за то, что она ей есть не давала. Аппетит у Зины был непрерывный, и он был ее болезнь, а мама ей препятствовала. Тогда Зинаида, скручивая из платка куколку, садилась на табурет возле двери и говорила маме:
– Уйду от тебя, уйду…
– Куда ты уйдешь, квашня? Куда пойдешь, прорва? – равнодушно ворчала мама.
И Зине казалось немного, как будто эта куколка из платка и есть она, Зина, только маленькая, и она шептала:
– А мы уедем. Весна придет, мы в Анапу уедем.
Возили Зину в санаторий в Анапу, когда ей было лет десять и болезнь только начиналась.
…Отдохнув от страха и обиды, Зинаида сняла свои подмокшие тренировочные и пошла в ванну стирать. Она купала в мыльной воде свои огромные полупрозрачные руки, вздыхала – ничего она не умела. Раньше мама все делала, а теперь вот приходилось самой.
Мысли были большие, одутловатые, неповоротливые – она думала про свое будущее нищенство, про всякую еду, которую будет сейчас есть, и про Катю Рыжую, которая ее защитила от злых людей…
Зинаида пришла к Покрову. Больше ее не гнали. Она собрала много денег, почти четыре рубля. Все время, прислонясь спиной к балюстрадке, она искала глазами Катю Рыжую, но так и не нашла.
Когда деньги кончились, пришла опять и опять набрала денег, но Катю не встретила. Старухи ее не гоняли, а одна даже приветила, сама подвинулась и другой сказала:
– Дай Слонихе встать, подай влево.
Так вернулось к Зинаиде ее давнее прозвище – Слониха. Она и впрямь была Слониха, еще в школе ее так дразнили, но по малолетству это было обидно, а теперь как имя родное…
Только на третий раз Зинаида встретила Катю. Та шла по асфальтированной дорожке, косо ведущей к храму, валкой походкой, с припаданием на одну ногу, в то время как вторая, в ортопедическом ботинке, довольно высоко задиралась вбок. Катя увидела Зинаиду, кивнула и вошла в храм.
«Наверное, в притворе стоит», – подумала Зинаида. Ей тоже хотелось под крышу, но она боялась, что снова ее прогонит та старуха с родинкой. Так, в раздумьях, простояла она почти час. Сначала в ногах бегали мурашки, а потом они как бы онемели. Подавали ей мало, меньше всех. Это она еще раньше заметила и про себя решила, что и правильно, худого всегда жальче, чем толстого.
Поколебавшись еще немного, Зинаида решила поискать Катю в храме. Увидела она ее в левом приделе, в очереди возле исповедующего священника. Вид у Кати был строгий, челка ее не торчала из-под платка, повязанного низко, с двумя глубокими складками на висках. Она шагнула к седобородому желтому священнику, он что-то долго ей говорил, она качала головой, потом и сама стала что-то говорить, к большому удивлению Зинаиды. Старик все качал головой, а потом положил ей на голову тускло-золотую епитрахиль. Она поцеловала его желтую руку и поковыляла к царским вратам.
Зинаида подстерегла ее, потянула за рукав, но Катя посмотрела на нее пустым янтарным глазом и сказала: «После, после…» Тут храм весь загрохотал огромным пением, запели «Верую…», и Катя отвернулась от нее и неожиданно тонко стала выводить: «…во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…» – с такими замираниями, падениями и подъемами, что казалось, Катя одна ведет всю эту толпу по горной перепадистой дороге.
Потом все пение кончилось, снова говорил священник, немного пел хор, потом опять всем храмом пропели «Отче наш», это Зинаида знала, потому что мама ее этому научила. Но было очень душно, тесно, люди все были не отдельные, а как одно громадное, слившееся из отдельных дрожащих капель существо, и Зинаида чувствовала, что все делается густым туманом, но не сырым, а душистым, медовым. Свечной огонь как будто расплавился в воздухе, все стало сладким, снотворным, вся жизнь снаружи, на улице, пропала, как радужные разводы в луже, а здешнее, золотое, все сгущалось и стало наконец точно таким же по плотности, как ее тело, и она оторвалась вверх и поплыла между золотых столбов, арок и зыбких нимбов, а густой воздух, которого она касалась рукой, был к ней благосклонен и ласков…
Она и сама не заметила, что давно уже сидит на широкой и удобной скамье, рядом с другими, а кто ее подвел и посадил, она не помнила. Здесь, на лавочке, ее и нашла Катя.
– Ну что, не гоняют больше? – спросила склонившаяся Катя.
– Нет, не гоняют, – просияла в ответ Зинаида.
– Ну и ладно. – Катя было двинулась прочь, потом задержалась и спросила: – Ты собрала чего? Так пошли, что ли?
И они вместе вышли, колышущаяся на ходу Зинаида и маленькая, как кривое высохшее дерево, Катя.
– Пошли, что ли, к тебе, – предложила Катя, и Зинаида обрадовалась: гости к ней не ходили, кроме тети Паши, маминой сестры.
По дороге к дому Зинаида купила хлеба и мороженого – много. Теперь, после смерти мамы, она ела вволю и пристрастилась к мороженому. Мать ей мороженого не давала, говорила: больно сладко для тебя! А Зинаида себе сахару не жалела.
В доме Катя вострым глазом все оглядела, несколько даже принюхиваясь, заметила немытый пол и сказала:
– Мне тоже согнуться по-нормальному невозможно, я полы ползком мою. Лягу на живот и ползу себе назад. Может, помыть тебе?
Зинаида застеснялась такому предложению, да и на что? И так хорошо. Заглянула Катя и во вторую комнату, запроходную. Туда Зина после маминой смерти и не заходила, нечего ей там было делать. Пока Катя осматривалась, Зина приготовила поесть: накрошила в белую миску вареной картошки и плавленого сыру, налила туда кефиру. Она сама себе такую еду придумала, ей нравилось, и первое, и второе сразу, и варить не надо. Так крошила она все подряд, и хорошо было. Едой Зинаида очень утешалась. Только во время жевания ей и было хорошо. Как только она еду проглатывала, как будто большой зверь в животе начинал шевелиться и требовать: еще, еще!
Сели было есть, но Катя вскочила, опираясь на один костыль, – тут Зинаида увидела, что совсем без подпорки Катя вообще ходить не могла, сразу валилась, – проковыляла в коридор и принесла ковровую изношенную сумочку на замке, щелкнула звонко замком и вытащила четвертинку, поставила на стол.
– Ради праздника не возбраняется, – наставительно сказала, но Зинаида и не думала возбранять. Она поискала стопочки, не нашла, вынула чашки. Катя наморщила короткий нос: – Тогда уж стаканы давай.
Зина поставила два стакана и разлила в обеденные тарелки окрошку. Катя сковырнула толстым ногтем крышечку с четвертинки, разлила по стаканам. Зина охнула – она водки не пила.
– Много, что ли? – удивилась Катя. – А не хочешь – не пей, – разрешила она снисходительно, ткнула своим стаканом Зинаидин и, сказавши «С Богом, Зина», перекрестилась и выплеснула водку в открытый редкозубый рот.
Зина понюхала свой стакан, отпила маленький глоток – было невкусно и драло горло.
Катя быстро поела тарелку крошева, поела и мороженого – в меру, без большого удовольствия. Дождалась, когда Зинаида оближет обертку, собрала со стола и сложила в раковину тарелки и многозначительно сказала:
– Вот.
Зинаида подняла свое слегка запачканное мороженым лицо и, приоткрыв рот, приготовилась слушать.
– Поди-ка умойся! – приказала Катя, но Зина умываться не пошла, вытерла рот тряпочкой – и так сойдет. И Катя начала: – Вот, Зина, что я хочу тебе сказать. – Голос звучал торжественно и многообещающе. – Мать твоя померла, сама ты неумная. К тому же и больная. – Зинаида закивала головой, все было правда. – И правильно ты сделала, что к храму пришла. Однако зачем ты пришла? – Вопрос Кати не требовал ответа. – Просить пришла. И правильно сделала. Там тьма народу просит. Все больше попрошайки. Это дело нехитрое. Для тебя, Зина, я хочу, чтоб стала ты не попрошайкой, а настоящей нищей.
«Нет, мне такой, как Катя, никогда не быть, – восхищалась про себя Зинаида новой подругой. – Вот у нее какой голос, то зычный, когда она на старух напустилась, то вдруг детский, переливчатый, когда она запела божественное…»
А Катя дальше вела свою речь:
– На меня не смотри, мое дело особое, я ни туда ни сюда, сбоку припека, я и в техникуме училась технологическом, и сколько по больницам промытарилась, и еще в каких местах была, это тебе не приснится. На меня не смотри. Скажи мне перво-наперво: чего тебе не хватает, Зина?
Зина наморщила брови, насупилась, подумала, сказала:
– Сегодня у меня всего есть, Катя.
Катя довольно засмеялась:
– Правильно, правильно я про тебя догадалась! Редкий человек говорит: все у меня есть. Обыкновенно всем всего мало. Всего хотят, бесятся, страдают, ненавидят аж до смерти, и все от зависти, что у другого есть, а у меня нет. Понимаешь?
– А как же! – важно согласилась Зинаида, польщенная значительностью разговора. Она вся заволновалась, даже немного покраснела. – Я не завидую, мне ихнее и не подходит ничего… я вон какая толстая!
– Проста ты, Зинаида, проста, – как-то разочарованно заметила Катя. – Ну ладно, а в Бога ты веруешь?
Зинаида застеснялась, заерзала на табуретке.
– Ну? – строго спросила Катя. Зинаида стала крутить из тряпки куколку.
– Эх ты, Божий человек, а в Бога не веруешь, – совсем уж разочарованно протянула Катя.
– Я в Божью Матерь… – опустив голову, тихо, как двоечница на уроке, проговорила Зинаида.
– Ну, – учительским голосом требовала Катя, – говори, Матерь-то она кому?
Зинаида надулась и тихо проговорила:
– Дочки своей матерь.
Тут обомлела Катя. Она вылупила желтые глаза, развела руками, так что прислоненный к подоконнику костыль с грохотом упал.
– Чего? Дочки? Какой дочки? Господа нашего Иисуса Христа матерь! Да ты, Зина, хуже татарина! Это ж надо, дочки!
Зина сидела совсем багровая, и в голове у нее громыхали колокола.
– Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес ради одного только – сказать, чтоб не были зверьми, чтоб любили друг друга, а его схватили и смерти предали, убили его, Зина! Потом спохватились, а все! Поздно! Воскрес – и нету его! Ищи-свищи!
Катя подвинула к себе Зинаидин стакан, выпила, помолчала, покачала головой:
– Ты не пьешь и не пей! А я выпью! Всем людям, Зин, одному много, другому мало: красоты, ума, добра всякого. Вот ты послушай, как со мной случилось. Это еще когда было, когда я освободилась… вышла… – Катя полезла в ковровую сумочку, вытащила из нее еще одну четвертинку и подозрительно покосилась на Зинаиду, но та сидела простодушно, не выражая никакого неудовольствия или удивления. Катя опять сколупнула ловко крышечку, налила полстакана и махом выпила. – Я из Химок, из области, статья прописная, прихожу домой, а мать меня прописывать не хочет. Мать у меня не старая, красавица собой, глаза черные, брови, цыганская кровь в ней сказалась. Не пойму я, чего она не хочет меня прописывать? Мы с ней никогда особенно не скандалили… Это мне потом сказали, Зин. У меня, Зин, мужик был, вроде муж, постарше меня, но так, нормально. Так когда меня посадили, из-за него, между прочим, все вышло, так маманя моя его себе приспособила. А у нее этого добра и без Витьки моего пруд пруди, на что он ей сдался, не пойму. В общем, мать не прописывает, без прописки я даже мою инвалидскую пенсию получить не могу, сунуться некуда, на работу опять же без прописки не берут, хоть ложись и помирай. А она – ни в какую. Одежки у меня – что на мне: телогрейка да сапоги рваные. Подружка у меня в Новодачной жила, я туда поехала, а ее нет – съехала. Приезжаю на Савеловский вокзал, не помню, как доковыляла до «Новослободской». Слышу, звонят. Думаю, пойду в церковь. А что? Или я некрещеная какая? Настроение – хоть вешайся. Вошла, стою. Денег даже на свечечку маленькую нет. Церковь полна, праздник какой-то, сейчас уж я не помню какой. Только я стою и думаю: что же ты, Господи, создал меня на свет такой несчастной? Калека, да нищая, да мать родная гонит, мужик, черт с ним совсем… что она его отбила, родная мать – вот что обидно. Думаю я так и всё больше серчаю на него: что же делаешь-то? Разве это по справедливости? За что мне такое мыкать, в то время как другие, нисколько меня не лучше, в полнейшем порядке проживают? Если, говорю я Ему, ты мне Царствие Божие уготовил, то мне этого не больно и нужно, мне бы сейчас, на сей момент… Стою и злюсь, и так меня разбирает все больше и больше. И себя жалею – что калечная, что ни красоты, ну ничего не дал Бог… – Катя шмыгнула носом. Зина все крутила в руках свою тряпочку с самым жалостным видом. Катя короткопалой рукой ухватила за горло четвертинку, но не налила. – Вдруг слышу, позади меня железом звяк-звяк, я оглянулась – старуха сзади меня раскладушку раскладывает. Сбрендила, что ли, думаю я… И не смотрю в ту сторону больше. Потом времени несколько прошло, опять звень-звень. Я оглядываюсь, вижу картину, Зина, не поверишь. На раскладушке три подушки горкой, а в них упирается подбородком, лежит – не мышь, не лягушка, а неведома зверушка. Женщина завернута в одеялко детское, чуток не хватает ей на ноги, спеленута, как младенец, шнурками перевязана. Одно личико торчит из черного платка, а глаза огнем горят, ну точно боярыня Морозова, не знаешь ты, конечно, хорошую такую картину художника Сурикова. У меня память, Зина, такая, что увижу раз – как припечатано. Все помню. Вот, лежит, а глаза горят. Как будто меня прожгло всю. А старуха ее берет, как ребенка, взвалила на себя, а голову ее через свое плечо перевесила, не держится у нее головка-то, падает. Вся она как ребеночек семилетний, одеялка на все чуток не хватает, ножки в носках шерстяных торчат, крохотные, неходячие, и понесла ее старуха к исповеди. А я, Зина, иду за ней, как коза на веревке. Как держит меня она. Подносит ее старуха к священнику, тот молитвы долгие читает, я тогда ничего не знала, я уж потом все узнала, что читает да зачем. Теперь-то я всю службу наизусть знаю, до последнего слова, а тогда я ничего не понимала по-церковному. Он отчитал, а потом сразу к ней и говорит ей что-то. А она в ответ как мышь – писк, писк! Зина, а у меня внутри – с тех пор такого со мной не бывало, – внутри пошла такая почесуха, и в горле, и в груди, и в самом сердце, ну просто влезла бы рукой и ногтями бы драла, драла, сил просто нет. Это же надо, это же надо! Ведь ни ног, ни рук, ни голоса человеческого, как мешок ее таскают… И тут во мне как бы что-то треснуло и потекло… Заплакала я, Зина, аж брызнуло! Уж так мне ее жалко стало, не передать… – губы у Кати поползли, задергались, она высморкалась, вытерла глаза и строго продолжала: – Я потом, Зина, все про нее узнала, монахиня Евдокия она, а старуха, ее мать, тоже постриг приняла, в миру, понятно, живут, кому они в монастыре нужны. Вот уж кому злосчастье выпало! Господи, да за что? Вот тут меня и осенило, Зиночка! Ведь каждый человек, который на нее смотрит, одно думает: вот несчастье, хуже моего, хуже уж некуда, а мои-то обстоятельства куда ни шло, еще можно жить-то. Вот уж кого пожалеть надо, а не себя. Дошло тут до меня, Зиночка, зачем это Господь таких, как мы, немощных, уродов и калек, на свет выпускает! Понимаешь ты меня, Зиночка?
Зинаида сидела как замороженная. Рот открыт, глаза закосили, она слушала Катины слова и не слышала их, но смысл входил в нее каким-то странным образом – не то через кожу, не то через воздух.
– Для сравнения, для примера или для утешения, уж и не знаю, как тебе сказать, – пояснила Катя. – Люди-то злы, им очень утешительно видеть, что другому еще хуже. Вот ты посмотри, есть артистки известные, красавицы, в ларьках продают, все в цветах-розах, а ты на нее посмотришь, и так уж тошно делается – нету, нету справедливости. А когда, с одной стороны, артистка такая, ей всего отпущено, а с другой – сестра Евдокия на раскладушечке-то… Вот и думай! Господь поставил, там и стой! Ах, думаю я, хорошо! Вот оно, мое место: калека, стою у храма, проходят люди мимо, каждый посмотрит и про себя скажет: слава тебе Господи, что ноги мои здоровы и что не я стою здесь с рукой-то! А другой и совестью зашевелится, смекнет, что Богу неблагодарен за все благодеяния его. Ты на попрошаек не смотри, Зина, у них одна забота – денег набрать. А настоящий нищий, Зиночка, Божий человек, Господу служит! Он избранный народ, нищий-то!
…Зина погружалась в полусон. Глаза ее были открыты, но она не видела Кати, не слышала ее слов. Ей представлялось, что она сидит на земле и ноги у нее тонкие, загорелые, а вокруг несметная россыпь мелких иссиня-голубых и лиловых цветочков, слегка подсохших, но ярких необыкновенно. Листья и стебли были жесткими, слегка кололи голые ноги, но уколы эти были веселые, вроде газа в лимонаде, и она встала и пошла прямо по этим цветкам, а земля была немного упругая, а ноги ее будто были сделаны из чего-то более твердого, чем зыбкая земля, по которой она шла…
А Катя все говорила, говорила, но речь ее делалась тише, и быстрей, и неразборчивей:
– А мы теперь хвалим. Он нам болезни, а мы хвалим! Он нам бедность, а мы хвалим! Всякое дыхание да хвалит… – так, на полуслове, Катя положила голову на клетчатую клеенку. Большая, мужского вида кисть правой руки лежала на столе, вторая рука болталась – и наливалась темной кровью.
А Зина все шла через яркие жесткие цветочки, а сбоку из-за большого камня вышла мама в синей кофте, с вышитыми на плечах шерстяными цветочками, хотя Зина точно знала, что цветочки эти с зеленой, китайской. Мама шла наискосок, но все приближалась к Зине, и махала ей рукой, и улыбалась, и была молодая.
Девочки
Рассказы
Дар нерукотворный
Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс «Б». Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустящестеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой.
Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных девяти лет. Были в классе «Б» и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.
Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять из «В» надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку, – чем восстановилась парность колонны.
Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны.
Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.
Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миуссы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.
Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых.
– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой.
– Это не хулиганы, – проницательно заметила Маша.
Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.
– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.
Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.
Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек.
Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.
Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесным образом не запятнанных сапогах – старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.
– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.
– Что? – удивилась хладнокровная Алена.
– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей… а дальше забыла…
– …торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.
– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!
Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.
Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буковки, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.
Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из седеющих, пестровато-серых печальных волос.
– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.
– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожала плечом жестокая Алена.
– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Челышева.
– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.
– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.
– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?
Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.
– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.
– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.
– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Т. Колыванова».
– Танька Колыванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.
– Да вы что, с ума сошли? Какая же Колыванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.
– Но здесь же написано Тэ Колыванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?
– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила: – Все же спросить надо.
И тут всё двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой – горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное, самая старшая пионервожатая громко скомандовала:
– На знамя равняйсь! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.
Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подожгла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.
Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.
Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.
А потом все хором прочитали торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньке, и она утешилась.
Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.
На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс «Б» просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Челышева и сказала ей на ухо:
– А давай спросим у Колывановой, ну, про ту, безрукую?
Алена оживилась, и они подошли к Таньке Колывановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Колыванову.
Колыванова очень смутилась и сказала:
– Какая же она девочка, она большая…
– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.