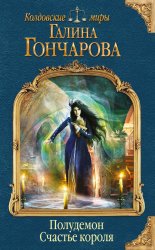Добрые люди Перес-Реверте Артуро
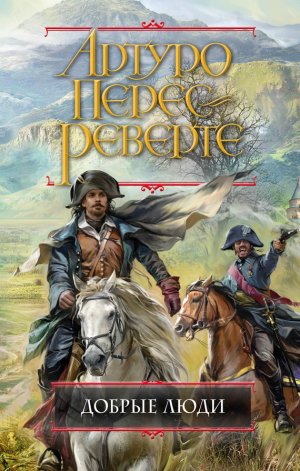
На Турачкине не было лица, и весь он выглядел как побитый пес: глаза потупленные, хвост прижат.
– Патрон в патронник забыл дослать, первый раз на медведя, волнение, только клекнул – и все. Надо же, а…
Феофан хохотал над Санькой долго, сидел на кокорине и хохотал. Турачкин спросил:
– А ты-то чего не попал, вроде ведь выцелил? Я смотрел, крови на следах нету.
– Так я же седьмым номером шмальнул, «пшенкой». Какая может быть кровь?
– У тебя что, пули даже с собой нету?
– Не-а.
Надо бы и Саньке теперь посмеяться, да не до смеха ему, все же крепко он опростоволосился. Самолучшее оружие доверили, честь, можно сказать, оказали… Надо же…
По дороге домой он сообщил, что медведь-то меченый – на левой передней лапе не хватает указательного пальца, беспалый медведь.
– То ли вырвал где, то ли с рождения так. Это бывает.
Еще он просил Феофана не рассказывать никому про их приключение. А то засмеют ведь, клички какие-нибудь приклеят, народ на язык остер.
Все же выстрелы в деревне слышали, и Пищихин допытывался: в кого стреляли, почему не попали? Ему объяснили, что стреляли на шум: медведь, мол, ходил далеко в кустах, но ворчал, в его сторону и стреляли, чтоб отпугнуть от сальницы. Пищихин был доволен.
– Ну, теперь не подойдет больше, напуганный…
Феофан считал так же. Через пару дней ударила «морянка» – сильный шторм, рыбаки выехали с тонь домой, зверя никто пока не сдавал, и он закрыл сальницу на замок, для пущего спокойствия приколотил поперек двери два толстых горбыля, крест-накрест, как в свое время делали на военкоматах, когда все уходили на фронт.
Через день к нему домой прибежала Люда Петрова, телятница. Собирала она анфельцию на берегу и увидела такое…
– Разор там у тебя, – сообщила, – двери с корнем выдраны…
Ну, двери не двери, а горбыли и замок были и в самом деле отодраны. Действительно, какая силища… В сальнице мишка набедокурил на этот раз шибче, чем раньше: изодрал три шкуры, все раскидал, а потом, зайдясь, видно, в разгульном кураже, опрокинул на пол тяжеленный чан со шкварками – все было залито вонючим суслом.
Прибежал Санька Турачкин, откуда-то узнал тоже про новое нападение. Сел рядом с Феофаном на бревно, поглядел на безобразие.
– Это он нам отомстил, падла, за испуг свой, – сделал заключение Санька. – Злопамятный, гад!
Он нашел на песке самые четкие следы, стал показывать:
– Видишь, вот левая передняя, вот пальца одного не хватает. Тот самый безобразничает, беспалый.
Действительно, когтей на лапе было четыре, а не пять, как на остальных.
Пришел и Пищихин, оценил обстановку, поматюгался.
– По миру нас пустит, так растак! На полтыщи уже убытку принес, не меньше! Это ж шутка сказать… – Потом отдал распоряжение Турачкину: – Чтобы этот ваш одноглазый, или, как там его, ушкуй этот, был немедленно отстрелян. Иначе деньги с тебя и Павловского высчитаю, как с бездельников. – И ушел, энергично бормоча что-то в смысле «трах-тах-тта-тта-тах». В общем, смысл был понятен.
– Раскомандовался, видали ево, – вяло возразил вослед ему Санька. – Сам ты одноглазый.
Посидели они, покурили, и Турачкин сказал:
– И в самом деле, «решать» надо этого медведяру. Вопрос чести. Я тут пошевелю извилиной, покумекаю…
Самокритичный он насчет своей извилины.
Через день под вечер они сидели в стоге сена на Кирил-лихиной пожне. Стратегическая задумка Саньки Турачкина заключалась в том, что пожня эта как раз на дороге Беспалого к сальнице. До нее отсюда – всего с полкилометра, а дальше начинается чащоба, ельник. Где-то там медведь залегает на день, оттуда выходит ночью куролесить.
Но главная мудрость заключалась не в этом. Охотничья гениальность Саньки воплотилась в том, что метрах в сорока от стога бродил козел по имени Валет. Козел был привязан на веревке. С другого конца веревка крепилась за кол, воткнутый в землю. Валет и служил приманкой, он расхаживал вокруг кола, тряс своей козлиной бороденкой и беспрестанно блеял.
– Затвор-то на этот раз хоть передернул? – не без основания интересовался Феофан. – А то получится, как в прошлый раз.
Санька болезненно кривился. Вспоминать свой позор не хотелось, переводил разговор:
– А сам-то пулю взял, опять «пшенкой» лупанешь?
Провинились они оба, чего там говорить.
Время летело медленно.
Санька ворочался на сене, несколько раз прикладывался опять к фляге, нервничал:
– Вдруг козла тяпнуть успеет, пока застрелим? Пищихин штаны с нас тогда снимет. Валет-то производитель, сказывают, что надо, из других деревень коз к нему приводят. Сексуальный рекордсмен…
Августовская ночь опускалась на землю плавно, с неохотой, принося с собой сыроватую зябкость, настороженность, неуют.
Окружающие предметы теряли привычные формы, становились неузнаваемыми, похожими на больших странных зверей.
В ночном лесу, в самом воздухе, началось таинственное, жутковатое движение теней. То вдалеке, то где-то рядом пронзительно вскрикивали ночные птицы.
Колхозное имущество – козел Валет, не привыкший спать в ночном лесу, видно, побаивался этих звуков и теней и частенько громко взблеивал.
Турачкин от этих взблеиваний вздрагивал, но действия Валета одобрял:
– Валяй, козлятина, валяй, подманивай зверюгу.
Ветерок, потерявший в сумерках свое направление, кидался в разные стороны. Иногда он поддувал со стороны Валета, и Санька затыкал нос, плевался:
– Воняет как от падали. Помылся бы хоть, что ли, гад такой. Как его козы выносят?
Ночь они отдежурили честно. По очереди накоротке вздремнули, но беспалый медведь так и не пришел.
Утром разом зазвенели, защебетали кругом птицы, на востоке солнце сначала раскидало во всю горизонтальную ширь густую малиновую зарю, а потом размыло ее и вскинулось над верхушками окружавших пожню елок, белесое, чистое, обещающее погожий день. Валет, подохрипший и уставший от ночных тревог, лег на траву, подогнув ноги, закемарил.
– Во обнаглел, медведяра! – жаловался Санька. – Ему мясо предлагают свеженькое, душистое, а он выламывается!
Днем, к обеду, солнце нагнало жару, сидеть в сене без долгого движения стало невмоготу. Турачкин ерзал, наконец взмолился:
– Пойдем, Фаня, перекусим, что ли? Какой сейчас медведь, посередке-то дня? Спит он где-нибудь на лежке. Днем медведи не охотятся, это точно.
– А вдруг? – засомневался Феофан. Хотя валяться на солнцепеке и ему порядком надоело.
– Не-е! Говорю – значит знаю.
Ну что спорить со специалистом? Они сползли с зарода и направились на обед.
Вернулись часа через три, размявшиеся, отдохнувшие, с запасом еды.
И Санька заорал:
– Где козел, мать его за ногу?!
Валет действительно куда-то пропал вместе с веревкой и даже колом.
Турачкин горячился, бегал туда-сюда, искал Валетовы следы, чтобы хоть определить направление его побега. Наконец нашел!
Как стоял, так и сел, прямо на траву. Снял с лысой головы кепку, шмякнул ее в сердцах оземь.
– Иди сюда, – негромко сказал Феофану.
Тот подошел.
Средь вырванной травы четко виднелся медвежий след с четырьмя когтями. Турачкин тихо, с присвистом, как бы про себя, заматюгался. Сидел он так несколько минут, шептал бессвязную ругань, покачивался, переживал потрясение. Феофан не знал, что делать: то ли горевать по козлу, то ли смеяться над Санькой и самим собой.
– Ты же сказал, что они не охотятся днем, ушкуи-то, – подначил он впавшего в прострацию Турачкина, переживающего очередной позор.
Тот даже не огрызнулся, совсем упал духом.
Через какое-то время начал соображать.
– Сидел где-то тут за кустом, караулил, когда надоест нам. Дождался, змей… Вот Пищихин-то… теперь кураж устроит. Скажет, производителя медведю скормили за здорово живешь… Козлы же мы, а…
Козла они нашли уже под вечер метрах в четырехстах от Кириллихиной пожни, в густых елках, в кокорнике. Сначала наткнулся на веревку Феофан, потом увидели козла, вернее, то, что от него осталось.
Рога и копыта в буквальном смысле.
Саньку Турачкина с тех пор зовут Медвежатником.
К Феофану никакая кличка не пристала, потому что он был у Медвежатника на подхвате, ассистентом был. Санька сдал обратно на склад карабин и сдался сам – отказался от медвежьей охоты.
А у Феофана была еще не одна встреча с Беспалым.
Однажды попался в юнды морской заяц, огромный лах-так-тюлень.
Феофан освежевал его прямо в воде: попробуй такую тушу завалить в карбас!
Да никогда в жизни, человек пять надо, не меньше. Одна шкура с салом килограммов сто весит.
Ножом с краю шкуры он сделал прорез, продел веревку, привязал к ней якорь и бросил якорь в залудье, ближе корги – каменной россыпи.
Пусть поплавает шкура день-другой, потом он пойдет на дорке в деревню и заберет шкуру, отвезет на сальницу.
После ужина, уже в сумерках, Феофан вышел к морю, сел на бревнышко и закурил.
На море был отлив, матово отсвечивал длинный заплесток, и торчали из воды камни.
Метрах в ста от него, у корги, кто-то бродил по мелкой воде и крепко ругался.
«Кто же это может быть? – предполагал Феофан. – Может, Толя Полотухин? Только что он запоздал-то так?»
Толя Полотухин сидел на соседней тоне – Спасской, километрах в двух, и иногда наведывался к нему, чтобы скрасить одиночество.
«Наверно, приехал на дорке, ткнулся в коргу, в мель, не может выбраться».
Толя кряхтел там, в темноте, ворчал, барахтался со своей доркой.
«Что ты, в первый раз? Мель эту не знаешь? В сухую воду решил протолкаться, вот дуреха!» – так размышлял Феофан о Толе и покуривал.
Толя меж тем что-то ворчливо бормотал и все приближался…
То, что это не Толя, Феофан разглядел слишком поздно и удрать не успел. Это был Беспалый, который тянул к берегу от корги стокилограммовую шкуру вместе с якорем.
Шкура и якорь здорово упирались, цеплялись за камни, и медведь крепко ворчал, был недоволен.
Удирать было поздно. Беспалый вышел прямо к нему, нос к носу…
– Васька! – крикнул Феофан, сильно струхнув. – Брось шкуру!
Они разбежались в разные стороны.
Но в сальницу Беспалый больше не полез. И не потому совсем, что образумился наконец или же оробел. В его отчаянной наглости и готовности совершить новое вероломство сомневаться не приходилось.
Просто Феофан пошел на хитрость – стал подкармливать медведя.
Он попросил рыбаков привозить к сальнице не одни только шкуры, а целых нерп, неосвежеванных. У сальницы снимали теперь шкуры, и рауки – нерпичьи тушки – Феофан бросал в кусты за сальницей.
Каждое утро это место навещал.
И почти всякий раз видел там остатки медвежьего пиршества и следы, следы…
Следы Беспалого.
Так они и жили до сентября, и жизнь эта стала привычной. А в сентябре Феофан однажды увидел на песке рядом со следами Беспалого другой медвежий след, более мелкий и тонкий, – след медведицы.
И услышал темной и теплой ночью в лесу страстный и восторженный медвежий рев.
Так ревут влюбленные медведи.
И больше никогда в жизни не видел он ни самого Беспалого, ни его следов.
Увела его любовь в другие лесные дали.
И стало немного грустно. Будто от жизни оторвалась какая-то дорогая и важная частица, упала на дорогу и потерялась, и на том месте, где она оторвалась, образовалась прохлада и пустота.
Моряк со «Стремительного»
Сколько лет я себя помню, в море, на траверзе нашей деревни, всегда ходило много разных военных кораблей. Вероятно, Белое море являлось для них родным водоемом, где они резвились как дети малые, хвастались друг перед другом своими пушками, радарами, красотою боевых форм.
Иногда корабли крепко хулиганили. Однажды сын нашего председателя сельского Совета Герасим Петров шел по берегу пешком из соседней деревни Летний Наволок в родную деревню Лопшеньгу. Где-то на полпути его обстреляли орудия военного судна, что ходило в море километрах в трех от берега. Конечно, с судна никто Герасима не видел, конечно, стреляли военные по какой-то там мишени, устроенной на берегу, и, конечно, снаряды были холостые. Но, как всегда, наши доблестные краснофлотцы, понадеялись на авось и на то, что берега наши, как всегда, пустынны, боевого охранения не выставили, и хороший парень Герасим попал в серьезную заваруху. Снаряды со страшным гулом проносились у него над головой, некоторые падали довольно близко. Наш Герасим в такой боевой обстановке еще не бывал, он спрятался за огромный песчаный бугор и крепко перепугался.
Некоторые злые языки что-то рассказывали о содержимом его штанов в тот непростой момент, но я не знаю точно той ситуации и не буду наговаривать на замечательного человека и славного земляка Герасима Петрова.
Знаю только, что его отец, Степан Матвеевич, ветеран войны и председатель сельсовета, поднял по этому поводу страшную бучу. Кому-то из военных, вероятно, крепко всыпали, и орудийные обстрелы наших берегов раз и навсегда прекратились.
Еще с довоенных времен в городе Молотовск (ныне – Северодвинск), что в ста километрах от нашей деревни, началось строительство дизельных подводных лодок. Вновь построенные субмарины проходили обкатку прямо напротив нашей деревни. Ох и шумные эти создания были – дизельные подлодки! В надводном положении стук их дизелей был слышен на добрый десяток километров.
Выйдешь, бывало, в белую ночь на берег, сядешь на бревно – и слышишь, как где-то далеко-далеко над морем разносится гул работающих моторов. Ну, где же она – подводная лодка? И только с трудом увидишь, как на самом краешке сизого горизонта, над еле видимой линией морской дали, чуть-чуть возвышается маленький носик и маленькая рубка гуляющей по горизонту таинственной субмарины.
Я был совсем несмышленым тогда, но эти картинки помню до мелочей.
Когда мне было лет семь или восемь, в Северодвинске начали строить атомные подводные лодки. Для их производства потребовался большой приток рабочей силы, и множество ребят с Белого моря, окончивших восьмилетку, стали уезжать в северодвинские ПТУ – профтехучилища, готовившие слесарей, фрезеровщиков, электриков, сварщиков и специалистов всех других, необходимых для судостроения специальностей.
И вот время от времени мимо нашей деревни стали проплывать огромные китообразные черные чудовища с задранной мордой и торчащими из воды хвостами. Я украдкой разглядывал их в бинокль, а мой отец – бывший краснофлотец-североморец, меня увещевал и потихоньку шептал:
– Ты, Паша, будь поаккуратней, оттуда люди тоже на тебя смотрят. Это же секретные атомные корабли. Знаешь, какие у них приборы наблюдения? Они наверняка каждую пуговицу на тебе разглядывают.
Осознание этого несомненного факта рождало одновременно и чувство гордости за нашу военную технику, и очевидную жутковатость: а ну, если эти их приборы тебя и в бане разглядывают, и в туалете? Создавалось ощущение полной подконтрольности хитроумной военной технике. Мы, деревенская ребятня, откровенно побаивались этих вездесущих глаз военных кораблей. Хотя теперь я понимаю, что все такие легенды создавались нашими родителями с благороднейшей целью – обуздать нашу шкодливость. То, что они секретные, эти самые атомные подлодки, было понятно и так. Приезжавшие в отпуск из Северодвинска земляки загадочно закатывали глаза, когда их спрашивали, чем это они занимаются на работе, и мычали что-то вроде:
– Эт-то, брат, большой секрет.
На высоких местах берега стали возводиться маяки. Их обслуживали местные жители, которых стали называть маячниками.
И когда в августовские и сентябрьские вечера мы с отцом ходили на моторной лодке вдоль берега, кругом – то там, то тут – вспыхивали яркие огоньки маяков. И я считал, через сколько секунд зажигается вон этот маяк, через сколько – вон тот, и тот, третий.
Темнота северной ночи не казалась от этого такой уже темной, и огоньки на берегу вели нас к цели, к дому.
Однажды я совершил воинское преступление: я погасил маяк. Дело было летом, в жаркие июльские денечки. Мы с мамой и сестрой Лидой гребли сено на склоне пологого угора, распластанного напротив морского простора. К полудню все мы маленько притомились от работы и от жаркого солнышка, и мама дала заветную команду:
– Давай-ко, ребятки, пообедаем.
Эх, посреди летнего разнотравья, разогретого летним теплом, свежего дурмана высохшей травы, да рядом с костерком, на котором шкварчит кипящий чайник, да с видом на белесо-синее море, в котором на горизонте купаются белые-белые облака, так бесконечно отрадно поесть привезенной с собой свежежареной селедочки, попить холодненького молочка из-под своей коровушки… А молочко холодное потому, что оно в бутылке, положенной в струи ручья, бегущего прямо по нашей пожне…
После плотного перекуса мы лежим в тенечке под густым ивовым кустом, слушаем сердитое гудение летающих где-то рядом вечных тружеников – шмелей и дремлем.
Впрочем, безмятежно дремлют лишь мама да сестра Лида. Меня же тайно теребит, не дает авантюрной душе моей успокоения крепкая забота-заботушка. Я весь уже там – у маяка, высящегося на самой вершине угора, считай, прямо над нашей пожней. Уже много раз проплывал я вместе с отцом вдоль морского берега мимо него, разглядывал снизу. В дневное время мигающего огонька не было видно, но во время вечернее там, в вышине, над черной громадой высоченного холма, через равномерные промежутки времени вспыхивала стеклянная бочка. Северная вечерняя темнота скрывала очертания деревянного маячного строения, и эта бочка словно висела, ничем не поддерживаемая, в черноте неба.
Все равно был перекур, и я спросил у дремлющей мамы:
– Можно мне к маяку сбегать?
Мама, утомленная домашними и сенокосными работами, разогретая солнышком, лежа на теплой травке, закрыв полусогнутой рукой глаза, проморгала опасный момент. Она мне ничего не ответила, только приподняла в разморенном движении и опустила обратно на траву загорелую свою другую руку Дураку ясно, что это движение означало полное ее согласие с поставленным мною коварным вопросом. Так люди принимают опрометчивые решения. Мама продолжила дремать, вероятно, не особенно-то и разобрав, что же такое спросил у нее бедовый ее сыночек. Мать моя поступила легкомысленно.
Спустя совсем немного времени я был уже в зоне недостягаемости маминого оклика, если бы такой вдруг последовал. Еще через несколько минут я продрался через последние кусты и взобрался на вершину угора.
Передо мной возвысилась четырехсторонняя маячная громада. Доски, выкрашенные в белый цвет, уходили вверх, сужаясь там, в далекой выси. На всю высоту, снизу доверху, посреди каждой белой стороны пролегала широкая черная полоса.
Понятно каждому непонятливому гражданину, что самой первой мыслью, залетевшей в мою авантюрную мальчишечью головенку, было не восторженное созерцание деревянного шедевра, а вполне конкретное изучение таинственного маячного устройства, спрятанного где-то в его чреве. Больше всего на свете хотелось мне разобраться: как же, с помощью какой неведомой силы мигает на самом верху этой хламины ровно через каждые шесть секунд яркий огонь? Настолько яркий, что виден в каждой точке нашего бескрайнего моря.
Первым делом я проник на площадку первого этажа. Благо, деревянная дверь была совсем даже не заперта. Говоря точнее, замка на двери не было, а вместо него в металлическую дугу была воткнута простая обструганная палочка. Ну а если замка нет, значит, люди доверяют мне войти в эту дверь. Что я и сделал.
В углу на деревянном настиле стояла сколоченная из досок будка. На ней-то и висел огромный замочище. Рядом с ней лежало несколько (наверно, пустых и огромных – с мой рост) баллонов, на каждом из которых красными аккуратными буквами было написано: «Газ ацетилен. Руками не трогать! Пожароопасно!». Надпись была пугающая, и я не притронулся к этим жутковатым баллонам. Долбанет еще, в самом деле… Да и потом, не внизу же, не здесь, вспыхивает маячный огонь. Надо забираться наверх. Все интересные дела там.
Путь к маячной вершине пролегал через четыре высоченные лестницы (как я узнал потом, каждая высотой по пять метров), после лестницы шла площадка. Переходишь площадку – опять лестница. Вниз и по сторонам старался не глядеть: после третьей лестницы глянул вбок – и захотелось быстро-быстро вернуться назад. Кусты и деревья оказались где-то внизу, и еще бросился в глаза край обрыва и уходящее вниз пространство…
Но я же готовился поступать в Суворовское училище. Мне нельзя было малодушничать.
Я постоял с закрытыми глазами на третьей площадке и крепко взялся за поручень последней лестницы…
В конце ее, перед самым окончанием подъема, дорогу преградил закрытый люк.
Вдруг и на нем висит какой-нибудь замок? Попытался приподнять его руками, но сил не хватило, и я навалился спиной. Тяжелая крышка поднялась, повернулась на шарнирах и отвалилась набок. Путь к таинственному маячному свету был открыт!
Какое-то время я сидел на последней площадке и боялся открыть глаза.
Первое, что я увидел, когда со страхом приподнял веки, – это бесконечное синее пространство распахнувшегося моря. То, что оно совсем близко, маленько меня успокоило. На море стоял штиль, и далеко от берега плыл в нем маленький кит – белуха. Он поднимался к поверхности из морских глубин, глотал порцию воздуха, и опять уходил в придонные места, чтобы гоняться за любимым своим лакомством – селедкой. Отсюда, с большой высоты, странно было видеть, что силуэт белухи, уходящей вглубь, не пропадает сразу, а, ломающийся и тающий в толще воды, виден еще долго.
Но надо было осваиваться на этой жутковатой высоте. Я стал оглядываться.
Сначала нашел глазами маму и сестру Лиду. Вон они, далеко от меня, между морем и краем холма, на серо-золотистой площадке скошенной пожни. Уже поднялись от дремы, ходят по травяной стерне и что-то там делают. Мама, скорее всего, меня поругивает, спрашивает Лиду, куда же я пропал. Да ладно уж, скоро я прибегу, совсем скоро.
Передо мной на толстом красном металлическом постаменте высится огромная прозрачная бочка, вероятно, сделанная из толстого стекла. Вот это и есть объект давнего-давнего моего интереса. Что же это за штуковина такая? Что в ней спрятано такое, что светит на все море? Как же устроена эта чудесная вещь?
Очень не хотелось мне подниматься на ноги. Страшно было сделать любое движение на такой высоте. Тем более явно ощущалось, что маячное это строение – не такая уж и надежная штука: всем телом я чувствовал, что вершина маяка покачивается на ветру. Да и перила, опоясывающие верхнюю площадку, казались мне хлипкими, совершенно ненадежными. Казалось мне: обопрись на них – и полетишь вниз вместе с дощечками и столбиками, из которых они сварганены.
Но подниматься надо было, и я поднялся. И вцепился руками в стеклянную бочку.
Прямо передо мной оказалось чрево этой стеклянной громадины. Показалось мне, что в нем, этом чреве, расположено множество линз, линзочек, стеклянных уголков, других искусно сделанных прозрачных предметов. А посреди них, в самой сердцевине стеклянно-хрустальных чудес, бьется яркое крохотное сердечко: там время от времени вспыхивает тонкий, слегка удлиненный огонек. Огонек этот отражается во всех изгибах цветного хрусталя, во всех линзах и линзочках, и яркое пламя дивных огней заполняет все пространство стеклянной бочки.
Ничего подобного я никогда не видел. Это огненное волшебство было настоящим чудом!
И уж выше всяких моих сил было жгучее стремление заглянуть туда, вовнутрь, проникнуть в сказочный хрустальный мир, заполненный волшебным светом.
Все сущее на земле имеет к себе какой-нибудь доступ. Маяк – не исключение. Дверца, ведущая к таинственному огоньку, нашлась скоро. Сбоку, на стеклянной бочке, обнаружил я стальной крючок. Откинул его вверх – дверца и открылась.
Там, в глубине, посередке бочки, что-то слегка регулярно хлопало. Да это и есть тот самый огонек! Только не огромный, во всю ширину стеклянных чудес, а совсем маленький, как пламя свечки.
Он трепыхался во чреве стеклянного изобилия, его окружавшего, словно крохотное сердечко в чьем-то большом теле. «Как же он светит на все море?» – подумалось мне. В своем далеком детстве я совсем не знал законов физики, так разительно меняющих мир.
Не знал я и того, что мне ни в коем случае нельзя было открывать ту стеклянную дверцу. В ту же самую секунду дунул порыв ветра, и огонек вдруг погас.
Я не знал, что мне делать. Несколько раз распахнул и опять закрыл дверцу – результата не было, огонь не горел.
Вот тогда я и понял, что совершил воинское преступление. Хорошо мне было известно, что маяк служит для ориентации кораблей в море. Нет маяка – и корабли, как слепые котята, могут сойти с курса, заблудиться, потеряться и не выполнить боевую задачу.
А еще хуже, если, потерявшись в штормах и туманах, в отсутствие видимости они начнут ударяться друг о друга… Тут и до гибели людей недалеко.
Мысли у меня были прескверные. Вот уж натворил, так натворил!
Дома не удержался и задал отцу вопрос: что сделают с человеком, если он погасит маяк? Все же отец служил на флоте и много чего повидал.
Он ответил коротко и определенно: если на войне, то расстреляют. Потом он оторвался от газеты и уставился на меня подозрительно:
– А зачем это тебе, Паша?
– Да так, чтобы знать. Мало ли какие придурки бывают.
Вот тебе и перспектива. Ну, до расстрела, может, и не дойдет, все же не военное время, но в детскую колонию отправят, точно. Нашего брата хулигана этим пугали постоянно.
Ареста и отправки в колонию ждал два дня.
Картина мерещилась ужасная: ведут меня по всей деревенской улице промеж толпящихся односельчан два милиционера. Оба со здоровенными наганами наперевес, а люди говорят мне горькую правду:
– Эх, Паша, Паша, ты с виду парень неплохой. И поспеваешь в школе хорошо, и в клубе песни поешь славно, а на самом деле такой ты бандюган оказался! Это ж надо: весь Северный флот подвел. Вот теперь в колонии-то посиди лет двадцать. Может, там ума тебе добавят.
Мысли мои были печальны.
Через два дня к нам в дом явился уважаемый в деревне человек, Тюков Ким Иванович, начальник всего маячного хозяйства, и сел передо мной на лавку. Откуда он узнал, что это именно я натворил столько бед, до сих пор не могу себе представить. Отец и мать почему-то оказались в тот момент не на работе, а тоже дома. Теперь-то я понимаю, что они сговорились, а тогда все было как назло.
Ким Иванович какое-то время сидел молча и сердито сопел. Я думал: «Сейчас как даст по затылку!»
Лучше было бы, если бы и дал. Но он сидел, молчал и только медленно переваливался с боку на бок.
– Ну что, Павел, будешь еще так делать? – спросил он наконец тихим, но очень твердым голосом.
И тут меня прорвало. Сказались дни реальных переживаний: я ведь совсем не хотел вредить ни маячной службе, ни военным кораблям. Я был обычным деревенским шалопаем, сующим свой нос куда не следует. Я зашелся в слезах и завыл совершенно искренне и честно.
Не знаю, почему простил меня хороший человек, Ким Иванович? Может, потому, что понял меня, любопытного мальчишку, и догадался, что я никогда больше не принесу вреда его хозяйству.
Доверие его я оправдал. Мы поддерживали добрые отношения с его сыном, Сашкой Тюковым, моим одноклассником.
Как далеко теперь все это – и фосфорный шорох воды, и темные силуэты холмов, и доброе лицо отца, освещенное блеклым светлячком вечной папиросы, и эти мерцающие огоньки маяков – путеводных звездочек, плывущих в море кораблей.
Все это – картинки моего уплывающего за далекий горизонт детства.
И вот однажды напротив нашей деревни бросил якорь военный корабль.
Стояло лето, не помню, какого года, мне было тогда десять или одиннадцать лет, и я был вполне сформировавшимся молодым человеком, способным на дерзкие поступки.
По какой-то мальчишеской надобности я вышел в тот день на морской берег и увидел чудо.
В солнечной дорожке, длинным-предлинным треугольником разбросанной в колыхании мелких синих волн, на дальнем ее конце, я увидел очертания боевого корабля.
Какая картина может быть милее и желаннее для любого мальчика, чем вид корабельных надстроек военного судна? Эти строгие и точные линии хищного морского охотника, эти пушки и пулеметы, эти рубки и флаги!
Корабль стоял совсем недалеко, может быть, в километре от берега, торжественный и надменный, и блики солнечной дорожки, казалось мне, плясали по его неотразимым серо-голубым формам.
Не знаю, какая сила толкнула меня на этот шаг, но я подошел к заплестку, где стоял слегка затянутый носом на песок и лениво булькался кормой в мелкой волне карбасок соседа – Николая Семеновича. Добрейший сосед никогда не бранил меня за то, что я пользовался его карбаском, потому что всегда возвращал его на место. А еще потакал мне сосед за то, что я каждый день, увидев его около дома, кричал на всю деревню:
– Здравствуй-ко, дядя Коля!
А жене его кричал:
– Здравствуй-ко, тетушка Афия!
Они шутейно кланялись мне и отвечали:
– Здравствуй-ко, Павлушко!
И радостны были мне эти незатейливые соседские величания.
Я поднял с берега якорь-кошку, смотал цепь и аккуратно уложил их в нос карбаса. Затем веслом оттолкнулся от берега, закрепил кочетья и на веслах пошел к кораблю.
Плыл я долго. Карбас шел медленно, так как слабых моих силенок не хватало для упругих гребков. И, похоже, на корабле мою лодку никто не заметил. Я часто оглядывался, чтобы плыть точно.
И вот передо мной свинцово-стальная громада. Я сложил весла и уцепился за толстый канат, висящий вдоль борта.
– Эй, на судне, – крикнул я громко.
Сверху на меня никто не смотрел.
– Эй-е-ей! – прокричал погромче.
Ответа не было. На меня не обращали внимания. Пустой какой-то корабль. Тогда я поднял со дна карбаса плицу, которой вычерпывают воду, и стал стучать ею о железный борт.
Через некоторое время наверху показалось заспанное, молодое, веснушчатое лицо. В безкозырке.
– Ты кто? – спросило меня лицо вполне серьезно.
Я замялся. Что тут скажешь?
– Да я вот из деревни, – ответил я.
Тот, в бескозырке, замахал руками и прошептал:
– Дуй обратно в свою деревню. А то мне влетит сейчас из-за тебя. Как же это я тебя проморгал-то?
Не ждал я такого приема. Я ведь с дружбой, с миром.
Я понял, что этот краснофлотец меня сейчас точно прогонит, потому что он часовой, а меня вместе с карбасом он прозевал и хочет скрыть следы своего разгильдяйского отношения к боевой службе.