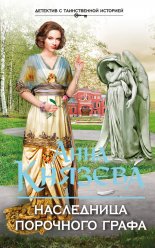На край света (трилогия) Голдинг Уильям

– То есть, сэр?
– Боже правый! Где ваша сметливость? Она чиста и нетронута, сэр!
– Ах, вот как! Я… я рад это слышать. Конечно, я…
– Рад? Рад?! Почему это вы так «рады»? И никаких «конечно», сэр! Не случись со мной несчастье и не сломай я ногу, все было бы по-другому – с ней, я имею в виду…
– Я понял, сэр. Можете не продолжать. Я немедленно сделаю то, что вы просите, и с большим удовольствием…
– Но не поспешно, а с осмотрительностью, мой мальчик, то есть мужчина, конечно же.
– Надеюсь, сэр. Хотя «Эдмунд» звучит лучше.
– Не пристало юнцу нестись по коридору, размахивая листом бумаги, словно… словно он…
– Лейтенант Бене? Я буду осторожен.
– И – Эдмунд, вы прекрасно читаете.
– Спасибо, сэр.
– Не хуже миссис Преттимен. Впрочем, она не знает греческого – язык античности слишком сложен для женского ума.
– В случае с миссис Преттимен я в этом сомневаюсь, сэр. Есть ведь и весьма образованные особы. Однако я вас понял. И должен сказать, рад и польщен, что могу скрасить невеселые часы, сидя у вашей постели. А теперь прошу прощения, но…
– Заходите в любое время – если я, конечно, не сплю.
Я ушел в смешанных чувствах, главным из которых, как ни странно, была радость. Именно радость с тех пор и ассоциировалась у меня с этой парой. Я вспомнил мисс Чамли – не только милейшую, но и самую здравомыслящую из девушек! – и осознал, что она согласится со мной в том, что Преттимены располагают к себе, но заблуждаются, в то время как я…
Что сказать? Какую бы чепуху ни нес мистер Преттимен – а мне не всегда удавалось убедить себя в том, что это чепуха, – слушатель уходил от него взбодрившимся, окрыленным, чувствуя, что вот она, правда: мир велик и прекрасен, а испытания духа и тела – лучшее, что в нем есть. Чувство это, однако, быстро рассеивалось, вытесняясь другими мыслями и событиями.
Так началось самое странное из приключений, выпавших на мою долю за время нашего долгого путешествия. Корабль наш, потрепанный, но подгоняемый крепким и не очень порывистым ветром, спешил к востоку, к цели, а жизнь моя освещалась общением с этой парой – парой, потому что миссис Преттимен временами приносила стул и сидела рядом, слушая мое чтение. Преттимены отличались ото всех, кого я встречал раньше. Он – слишком обстоятельный и дидактичный, но совсем не смешной, не считая разве что привычки вскипать по любому поводу. Разум его свободно странствовал во времени и в пространстве, не говоря уже о мире книг! Она всегда следовала за супругом, не боясь, однако, спорить с ним и временами затрагивать такие сферы, о которых мы и не помышляли! Монаршая власть, наследственные привилегии, опасности демократии, христианство, семья, война – иногда мне казалось, что я сбросил свое воспитание, как воин сбрасывает доспехи, и стою перед ними обнаженный, беззащитный, но свободный!
Подремав вечером несколько часов, я заступал на вахту, где испытывал новые идеи на Чарльзе, с его абсолютной прямотой и честностью. Неожиданно обнаружилось, что никогда раньше я не анализировал мысли. Читать Платона, не задумываясь над его идеями! Звучит невероятно, и все же раньше я никогда ничего подобного не делал.
(17)
Не прошло и двух дней с тех пор, как я сблизились с Преттименами, а Чарльз заметно переменился, стал более молчалив. Поначалу я решил, что друг мой озабочен состоянием корабля, но вскоре понял: он расценивал мое внезапное расположение к нашему философу, как нечто странное, если не сказать ненормальное. Сам Чарльз не склонен был к обобщениям. Он не желал осмысливать идеи свободы, равенства и братства, напротив – отрицал эти модные веяния, особенно после их насаждения среди галльской расы посредством гильотин и злобного корсиканца! Чарльз мыслил практически.
– Если вы будете носиться с подобными идеями, Эдмунд, да еще так, словно вы их одобряете, вы испортите отношения с губернатором колонии.
Честно говоря, на своем месте Чарльз был хорош. В отличие от меня, его убеждения подкреплялись огнем веры. Преттимену же придавала силы борьба с социальным неравенством и неприязнью. Через несколько дней после того, как я начал читать Преттимену, я попенял Чарльзу неразговорчивостью и был буквально сражен его ответом:
– Вы отдаляетесь от меня, Эдмунд, только и всего.
Я схватил его за руку.
– Нет! Никогда!
Тем не менее Чарльз был прав. Я по-прежнему испытывал к нему привязанность и был готов для него на все, но в свете нового мира, открытого для меня Преттименом, Чарльз стал – уменьшаться. Я все так же ценил его открытую и честную натуру, его смекалку, неустанную заботу о корабле, борьбу с ревностью и обидой, приверженность морским традициям, которые не позволяли ему осуждать капитана, даже когда тот был неправ! Меня восхищала его природная доброта. «Разве этого недостаточно?» – говорил я себе, вспоминая, как он нашел для меня сухую одежду: на нашем насквозь отсыревшем судне это казалось чудом. Именно в те дни я осознал, что четырьмя часами вахты он ловко избавил меня от еженощных кошмаров в жуткой каюте. Я припомнил Главка и Диомеда: медные доспехи, которые Чарльз отдал мне, и золотые, которые, по моим уверениям, достанутся ему! Но единственные доспехи, которые Чарльз сочтет золотыми, – пост капитана!
Нет, я не сомневался в храбрости Чарльза, в его умении хлопотливо и неустанно заботиться о судне, но я с трудом представлял Чарльза на месте капитана, командира военного корабля, короче – на месте человека, на котором лежит ответственность за судьбу мира!
Своими сомнениями я поделился с мистером и миссис Преттимен. Преттимен предложил мне «раскрутить», как он выразился, ситуацию в обратную сторону, и я понял, что наобещал больше, чем мог и должен был предложить. Помочь мне Преттимен отказался.
– Вы, разумеется, должны делать то, что считаете нужным. Если вы всерьез полагаете, что он недостоин поста капитана, следует так ему и сказать.
Ну как я ему скажу?! И кто я буду после этого? Теперь на ночных вахтах молчали оба – я и Чарльз. Ах, это путешествие, на которое я когда-то смотрел как на развлекательную прогулку! Сколько на нашей утлой посудине сложностей, сколько работы для ума и сердца, сколько волнений, грустных открытий и уроков, банальных трагедий и печальных комедий! Сколько не очень-то приятного самокопания! Не в силах решить, что же делать, я дошел до того, что воображал, как в будущем, когда мой протеже обнаружит свою полную неспособность к командованию судном, кто-нибудь скажет: «А ведь мы его взяли по рекомендации Тальбота, представляете?» Временами я мрачно думал, что единственное человеческое качество, которому нет предела, – моя низость.
Тягостные размышления были прерваны очередным событием, а именно определением долготы. Лейтенант Бене и капитан погрузились в разбор какой-то замысловатой теории навигации, однако я почти не обращал на них внимания. Последние новости сообщил мне угрюмый Боулс. В лужице воды, разлитой на столе, он наглядно показал вставшую перед капитаном задачу. Рано или поздно судно доберется до нового континента. И хотя известно, что лежит у нас, так сказать, по правому и левому борту, мы понятия не имеем, что у нас перед носом и за кормой! Иными словами, если не определить долготу, то возникает риск врезаться в берег раньше, чем мы его заметим! В плавании эта проблема решается следующим образом: корабль двигается вперед только при свете дня, а с наступлением темноты судно ложится в дрейф. Безусловно, капитан Андерсон не мог позволить подобной роскоши, учитывая, что экипаж сидел на полуголодном пайке, да и эту еду могли проглотить лишь те, кто сохранил здоровые зубы. Ко всему прочему, не было уверенности, что циркумполярное течение донесет нас до цели. Тем не менее лейтенант Бене по-прежнему уверял, что определит долготу без хронометров. Я оставил на время свою к нему неприязнь и, зная часы его вахты, решил дождаться Бене на своем излюбленном месте.
– Мне надо с вами поговорить, сэр.
– Это что – вызов?
– Пока нет…
– А, так, значит, мы снова разговариваем?
– Я насчет хронометров и долготы…
– А я-то думал – насчет пистолетов. Боже мой, мистер Тальбот, вы полагаете, что капитан Кук вышел в плавание с хронометром?
– Ну конечно!
– А вот и нет!
С этими словами он поспешил вверх по трапу, где за пару минут до склянок начинался привычный ритуал смены вахты. Я побежал следом, но Бене уже увлеченно беседовал с Андерсоном. Вахта сменилась, мистер Аскью спустился со шканцев, а Бене и капитан продолжали с жаром толковать о спутниках Юпитера и перекидываться астрономическими терминами, словно мячиком – затмение, параллакс, перигей, апогей… У меня возникло подозрение, что они мое присутствие заметили и таким образом пытаются отделаться!
– Да-да, мистер Бене, лунное расстояние[118], согласен. Но проверка…
– Прохождение Калипсо! Мы еще представим лордам адмиралтейства наш метод – метод Андерсона – Бене!
Андерсон радостно засмеялся.
– Ни в коем случае! Это ваше достижение, мой мальчик!
– Нет-нет, сэр, – я настаиваю!
– Хорошо. Но давайте-ка сперва его опробуем.
Все понятно. Разница между этими двумя, которые приходили в восторг независимо от того, успешным или нет окажется их метод, и бедным, замотанным делами Чарльзом была до боли велика. Я делал вид, что любуюсь морем, пока мне не надоело. А Бене с Андерсоном по-прежнему притворялись, что не замечают меня, так что ничего не оставалось, кроме как уйти прочь: одно из тех поражений, которые так легко описать и так трудно пережить. Я спустился вниз, чувствуя, что меня оттолкнули от решения задачи, которая была важна не только для моряков, но и для каждого пассажира нашего корабля, будь то мужчина, женщина или даже ребенок. Впрочем, по неясной для меня причине, для того, чтобы вмешаться в беседу Бене и Андерсона, нужна была уверенность побольше той, с которой я впервые ступил на борт корабля.
По трапу я спускался осторожно – качка в тот день усилилась. Волны заливались даже на шкафут, хотя после недавних штормов я не придавал этому такого значения, как раньше. Вода на несколько дюймов покрывала заново отскобленный от Чарльзова масла пол, перекатываясь туда-сюда по доскам, между которыми отвратительно, словно личинки и червяки в затопленном поле, колыхались пряди пакли. Я уныло брел к салону. В распахнутой двери показалась высокая, тучная фигура Брокльбанка, замотанного в грязную накидку. Он шагал, широко расставляя ноги. Мне не хотелось с ним разговаривать, и я завернул в каюту Преттимена с вопросом, не надо ли ему почитать. Он обрадовался мне, посетовал, что провел бессонную ночь, так как маковая настойка вся вышла. Боли были не сильными, но постоянными и изматывающими. Его, похоже, чуть лихорадило: на щеках красные пятна, да и глаза чересчур блестят. От чтения он отказался, объяснив, что не сможет слушать с должным вниманием. Вместо этого попросил рассказать о состоянии судна. Преттимену чудилось, что погода ухудшилась. Я успокоил его ответом, что море чуть разволновалось, но мы движемся вперед с приличной скоростью. Тут в каюту зашла миссис Преттимен, и я сообщил: «В политической жизни корабля происходят важные события: мистер Бене обещает без хронометра определить долготу». Рассказывал я об этом, похохатывая, и миссис Преттимен ко мне присоединилась, сообщив, что она немного разбирается в движении планет, так как учила этому детей. Не зная точное время по Гринвичу, ни один гений на Земле не определит долготы.
– Вы ошибаетесь, Летиция.
Миссис Преттимен опешила, как и я.
– Бене утверждает, что у капитана Кука не было хронометров.
– Он прав, Эдмунд. Угловое расстояние между луной и солнцем использовали для определения долготы до изобретения или, верней, до усовершенствования хронометра. Главная слабость метода – невероятное мастерство, которое для этого требуется.
– Выходит, Бене снова прав!
– Андерсон рассматривает его предложение всерьез?
– На мой взгляд – даже более чем с восторгом. С другой стороны, все, что бы ни предложил наш флотский Адонис, встречает на шканцах восхищенный прием.
Миссис Преттимен открыла было рот, но передумала и промолчала. Мистер Преттимен нахмурился, уставившись в переборку в нескольких футах над собой.
– Андерсон далеко не дурак. Говорят, он отменный мореход.
– Как и мистер Саммерс, сэр. А мистер Саммерс сказал… – возразил я сникшим голосом.
Тишину нарушила миссис Преттимен:
– Мы все в долгу у мистера Саммерса, мистер Тальбот. Он неустанно печется о нас и о судне.
– А как он бесстрашен, мадам! Во время последнего, ужасающего шторма, когда кругом вздымались водяные валы, он в одиночку удержал штурвал – чуть не погиб!
Мистер Преттимен откашлялся.
– Никто не сомневается в том, что наш старший офицер именно таков, как вы говорите. Но дело в том, что, на мой взгляд, вы не учитываете разницы между человеком, наделенным математическими способностями, и тем, кто их не имеет. А она велика – и дело тут не в количестве, но в качестве.
Мне нечего было ответить.
– Утверждают, что вы помогали мистеру Саммерсу у штурвала, сэр. И снова я перед вами в неоплатном долгу. Прошу, примите мою благодарность, – произнесла миссис Преттимен.
– О Господи, мадам! Да не стоит! Совершенно не стоит…
– Поскольку совсем недавно я была о вас совсем иного мнения, сейчас я рада сказать, что нахожу ваше поведение достойным настоящего мужчины!
Мистер Преттимен покачал головой.
– И все-таки не понимаю – он собирается свериться с затмением юпитерианского спутника? Но как? Это совсем не просто…
– Алоизий, дорогой, может быть, попробуете заснуть? Я уверена, мистер Тальбот…
– Конечно, мадам. Мне пора…
– Останьтесь, Эдмунд. Что за спешка? Я в своем уме, Летиция, и четко представляю себе небесный свод. Созерцательные размышления всегда идут на пользу.
– И все-таки не стоит вам перевозбуждаться, сэр!
– «Этот… царственный свод, выложенный золотою искрою…»[119].
– Скорее, сэр, он «весь выложен кружками золотыми…»[120].
– Неужели мистер Бене именно так видит звезды в свой секстан?
– Молодой человек – поэт, Алоизий. Не правда ли, мистер Тальбот?
– Да, мадам, он пишет стихи, однако кто их не писал?
– И вы тоже?
– Только на латыни, мадам. Не смею доверить свои скудные мысли обнаженной простоте английского.
– Вы все больше поражаете меня, мистер Тальбот.
– Ловлю вас на слове, мадам, и рискую обратиться с просьбой: не могли бы вы, следом за мистером Преттименом, звать меня Эдмундом?
Мое предложение, похоже, обескуражило ее. Не давая ей опомниться, я продолжил:
– В конце концов, мадам, это будет вполне пристойно, учитывая ваш… как бы это сказать… учитывая мой… и ваш…
Миссис Преттимен рассмеялась от всего сердца.
– Учитывая мой возраст, вы имели в виду? Эдмунд, мальчик мой, вы просто неподражаемы!
– Мы вели серьезную беседу, Летиция. На чем я остановился?
– Вы с Эдмундом обменялись цитатами, чтобы подвести под вселенную надежную литературную основу.
– Что может быть лучше, чем возвыситься над пустяками, вроде нашего точного положения на земном шаре, и перейти к раздумьям о вселенной, в которой мы рождены?
– Выражать размышления сии лучше стихами, а не прозой, сэр!
– Алоизий, может, и согласен с вами, Эдмунд, а я женщина простая.
– Вы на редкость несправедливы к себе, Летти. Но продолжайте же, Эдмунд!
– Дело в том, что только сейчас, во время нашего плавания, мало-помалу, то по одной, то по другой причине, поэзия обернулась для меня не простой забавой и красивыми словами, но – высотой, которой способен достичь человек. Особенно ночью, когда светят звезды, когда кругом непостижимая Природа – честно сказать, мне неловко об этом говорить…
– Юноша, послушайте! Разве это не само добро? Если нет – то именно таковым добро и должно стать! Неужели вы не видите в этом жеста, свидетельства, указания, не слышите того, что называют музыкой или гласом абсолюта? Если жить в мире с этими понятиями, впустить их в себя, довериться и открыться им – уверяю вас, Эдмунд, даже самый закоренелый преступник в том краю, к которому мы движемся, сможет поднять голову и заглянуть в горнило этой любви, этой благодати, о которой мы с вами говорили!
– Преступник?
– Представьте нашу процессию: мы – пламя земное, пламя негасимое, искры Абсолюта – сталкиваемся с пламенем небесным! Во тьме ночной мы движемся по пустыне нашего нового мира к Эльдорадо, и ничто не встанет между нашим взором и Абсолютом, между нашим слухом и дивной музыкой сфер!
– Да, я понимаю. Это будет приключение из приключений.
– Присоединяйтесь к нам, Эдмунд. Мы всех принимаем. Никто не встанет у вас на пути!
– А ваша нога, сэр? Кажется, вы о ней забыли.
– Нет, не забыл. Я поправлюсь, точно знаю. Пламя души моей вылечит меня. Я поправлюсь и поеду, куда задумал!
– Как бы то ни было, прислушайтесь к миссис Преттимен. Лежите спокойно, сэр.
– Так вы пойдете с нами?
Я ничего не ответил. Тишина росла и длилась до тех пор, пока в шипении воды, трущейся об обшивку, не зазвучал чей-то бессловесный зов… Наконец я понял, что слова не нужны – есть то, что понятней слов: холодный, рассудочный голос здравого смысла.
И все же – и все же я видел! На мгновение в зловонной душной каюте я ощутил силу ее обитателя, невероятную притягательность его страсти. Передо мной мелькнуло, или мне показалось, что мелькнуло, видение нашего мира: огромный пузырь на поверхности необъятного золотистого океана Абсолюта и мириады вспышек, каждая из которых – драгоценный камень во лбу животного, способного «поднять голову и заглянуть в горнило…».
Преттимены смотрели на меня. Я почувствовал, как сами собой сжались кулаки, по лбу заструился пот. Меня охватил странный стыд – стыд за то, что я нашел в себе сил ответить им: «Да, пойду». И еще злость на то, что меня как будто припер к стене странный разбойник с поэзией в одной руке и философией – в другой. С трудом я оторвал взгляд от его пылающего лица и выжидающих глаз и посмотрел на миссис Преттимен. Она опустила взор и изучала свои руки – не так, как матрос, который разглядывает мозоли, а по-женски, глядя на тыльную сторону ладоней и ногти. Она взглянула на мужа.
– Алоизий, постарайтесь заснуть.
Я неуверенно встал, балансируя на ненадежной палубе.
– Я почитаю вам завтра, сэр.
Он нахмурился, словно не сразу понял:
– Почитаете? Ах да, конечно!
Я изобразил жалкую гримасу, долженствовавшую служить улыбкой для миссис Преттимен, неловко выбрался из каюты и, закрывая дверь, услышал, как она что-то шепчет мужу. Что – не знаю.
Я уверял себя, что при случае мы обязательно возобновим этот разговор, укрепим возникшую симпатию друг к другу. С внезапно вспыхнувшей страстью, похожей на Преттименову, я возмечтал назвать себя товарищем этих людей. Однако даже тогда я чувствовал, что цена непомерно высока. Я, в конце концов, животное политическое[121], но с искрой – ежели позволительно обратиться к «языку солдафонов» – scintillans Dei[122], пусть и скрытой. Надеюсь, Абсолют простит меня, зная, что я хочу употребить все свои силы на благо родины; к счастью, в случае с Англией, это означает – на благо всего мира. Не будем об этом забывать.
В ту ночь меня разбудили пораньше. Я поднялся на полуют, под звездное небо, украшенное луной и облаками, и стал ждать Чарльза. Не скрою – я любовался небесным сводом и наслаждался его красотой, но, как ни бился, не мог разглядеть ни Добра, ни Абсолюта. Увы, логика не рождает веру, в то время как страсть и убежденность делают это с легкостью, поэтому,когда мистера Преттимена не было рядом… Да что об этом говорить! Его воспаленное воображение было мне необходимо: в его отсутствие в памяти возникали прозвучавшие слова, но не возрождались чувства и – если можно так выразиться – ощущения. Пришлось с грустью признать, что я сделан не из того теста, из которого лепят сторонников и последователей, и жаль, что миссис Преттимен во мне разочаровалась. Я страшно обрадовался появлению Чарльза, однако он держался прохладно. Некоторое время мы стояли бок о бок, не решаясь начать разговор, а потом заговорили разом, да так дружно, что тут же расхохотались.
– Только после вас, сэр.
– Нет, лейтенант, я – после вас. Гардемаринам должно знать свое место!
– И все-таки.
– Ну хорошо… Это что – Юпитер? А где Южный крест?
– Южный крест вон за теми облаками. В любом случае для навигации он не обязателен.
– Даже для мистера Бене с его новым методом?
– И не напоминайте. Я от этого просто…
– Просто – что?
– Не важно.
– Зависть вам не к лицу.
– Зависть?! Кому мне завидовать – этому шарлатану?! Не очень-то по-дружески так говорить, Эдмунд!
– Прошу прощения.
Он кивнул и ушел проверить компас. Облака уплыли, но я так и не смог определить Южный крест, хотя Чарльз несколько раз мне его показывал. Что за неприметное созвездие!
Чарльз вернулся.
– Простите меня, Эдмунд. Я хожу, как в воду опущенный, и никак не могу вынырнуть.
– Вот что, старина, вам необходима доза очень необычного лекарства – пропишу-ка я вам курс Преттименов!
– Они чересчур остроумны, а у меня плохое чувство юмора.
– Ох, Чарльз! Преттимены вытащили бы вас из вашей воды. Они с легкостью заставляют забыть о мелких неприятностях: не успеешь сообразить, где ты и с кем, а уже что только не обсуждаешь…
– И вы тоже?
– Да, когда я с ними. Только Преттимен способен жить в неизменном горении, на невероятной высоте!
– И что в этом хорошего?
– Попробуйте хотя бы одну дозу!
– Нет, благодарю вас. Видели мы, к чему приводят такие лекарства – и в Спитхеде, и в Норе[123].
– Но Преттимен совсем не таков! Есть в нем нечто, что даже я, человек политики, состоящий в равных частях из честолюбия и здравого смысла, чувствую, когда нахожусь рядом…
– Вы соображаете, что говорите? – понизив голос, спросил Чарльз. – Соображаете, до чего дошли? Ведь это же безрассудство! Вам нельзя якшаться с якобинцем, атеистом…
– Он ни то и ни другое!
– Рад слышать.
– Непохоже.
– И тем не менее. Я рад, что и его распущенности есть предел.
– Вы к нему несправедливы.
– А вы меня не понимаете. Я всю жизнь провел на кораблях, и, если повезет, проведу тут и оставшуюся ее часть. Но с судном, полным пассажиров и переселенцев, столкнулся впервые.
– «Свиньи» – так вы нас зовете?
– Он завоевал их восхищение. Действовал очень умно – не сказал ничего, что можно было бы расценить, как прямой призыв к…
– К чему, Господи помилуй?
– Я не желаю произносить это слово, – пробормотал Чарльз.
– Как же вы меня раздражаете!
Чарльз отвернулся и по трапу поднялся на полуют. Я остался на месте, взбешенный и расстроенный нашей размолвкой. Чарльз обеими руками взялся за поручни и глядел на пенный след за кормой, над которым лила неровный свет убывающая луна. Бросили лаг. Матрос доложил скорость – Чарльзу, а не мне. Они отрывисто перебросились какими-то словами. Матрос спустился, подошел к вахтенной доске, приподнял парусину и нацарапал семерку. Снова унижение – вроде того, коему подвергли меня Бене и Андерсон!
Вот до чего мы дошли. Чарльз сгорбился у одного поручня, я гляжу в сторону, прислонившись к другому, на шканцах. А посмотреть было на что – корабль качался на волнах, ветер свежел, на мачтах вздулись паруса – целый мир цвета слоновой кости, пожелтевшей слоновой кости. Семь узлов! Да, Чарльзу трудно такое проглотить. Я вскарабкался на полуют, встал у него за спиной и с напускной беспечностью произнес:
– Выходит, я уволен?
К моему изумлению, он ответил – но не в том же тоне, и даже не рассерженно, а сжал голову руками и произнес голосом, полным глубокой тоски:
– Нет! Нет…
– Знаете, он говорит совсем не так, как вам кажется. Если я его правильно понял, он рассуждал о божественном огне, о негасимом пламени в небесах и об огне земном здесь…
Чарльз вздрогнул.
– Здесь, у нас?!
– Разумеется, нет – это была метафора!
– Железо до сих пор не остыло. Боюсь, что здесь, внизу, и впрямь пылает негасимое пламя.
– Нет, нет, нет! Вы меня совсем запутали! Речь о другом.
– Боюсь, я запутал всех и запутался сам. Бене обласкан. Андерсон говорит со мной, как с неразумным юнгой. А теперь и вы подвергаете себя опасности. Неужели вы этого не понимаете? Корабль – странное место. В былые времена людей вешали на реях.
– Чарльз, Чарльз! Возьмите себя в руки! Боже правый, мы идем на восток со скоростью семь узлов, все паруса поставлены, ваша обнайтовка не дает судну развалиться – все прекрасно, дружище!
– Я совершенно растерян. Выбит из колеи. Боюсь, вы впутались во что-то не то.
– Перестаньте брюзжать как старуха! Ни во что я не впутался: обсуждаю философские вопросы и вовсе не собираюсь делиться своими мыслями с простыми моряками.
– Могу я поблагодарить вас от нашего имени – от имени простых моряков?
– Ну вот, опять! Да что с вами сегодня? Только и пытаетесь меня уколоть. Выше голову, старина! Глядите – на востоке встает рассвет…
Чарльз расхохотался в голос.
– И эти слова я слышу от человека, который хотел стать настоящим морским волком!
– Что вы имеете в виду?
– Рассвет в этот час!
– Ну как же, вон там… нет, исчез, облака скрыли. И все-таки говорю вам, Чарльз, мы делаем семь узлов к востоку. Это радует любого моряка, простого или нет, и нечего дуться!
– Рассвет!
– Вон там, по правому борту – видите, светлое пятно.
Чарльз вгляделся туда, куда я указал.
– Его прекрасно видно, вон там и там. Да что с вами? Вы будто привидение узрели!
Чарльз умолк и крепко сжал мне руку.
– Силы небесные!
– Что случилось?
– Это лед!
(18)
– Боцман! Свистать всех наверх! Доложите капитану! Эдмунд, вам лучше отойти…
Я прошел вперед и вниз, к поручням шканцев. Тусклое, прерывистое сияние льда, что заставило меня принять его за рассвет, исчезло из виду: только брызги да туман (видимо, ото льда), дождь да облака, что покачивались над носом корабля, словно наведенные каким-то морским колдовством, чтобы скрыть густой дымкой все, что находится дальше нашего носа.
За спиной послышались твердые шаги Андерсона.
– Как далеко до льда, мистер Саммерс?
– Не могу сказать, сэр.
– Его протяженность?
– Лед заметил мистер Тальбот.
– Мистер Тальбот, какова протяженность ледяного покрова?
– Ему нет конца, сэр, ни в ту, ни в другую сторону. Он расстилается по левому и еще больше – по правому борту. Без всяких просветов.
– Лежит на воде?
– Нет, скорее походит на ледяной обрыв.
Мне до дрожи хотелось, чтобы капитан поскорее скомандовал сменить курс – ведь мы по-прежнему двигались на восток!
– Вам показалось, что по правому борту льда больше, чем по левому?
– Да, сэр. Хотя, возможно, меня обманул туман.
– Сигнал от вахтенного, мистер Саммерс?
– Не было, сэр.
– Арестовать.
– Так точно, сэр.
На кончике языка у меня вертелся крик: «Ради Бога, смените же курс!», но капитан Андерсон отдавал приказы размеренным голосом, столь же твердым, как и его походка.
– Мистер Саммерс, лево руля.