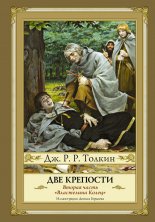Талантливый мистер Рипли Хайсмит Патриция

Бобу Деланси он сказал, что через неделю переезжает, но не сказал куда. Да Бобу это и неинтересно. В доме на Пятьдесят первой улице они виделись нечасто. Том сходил к Марку Прайминджеру на Сорок пятой улице – ключи от дома у него еще были, – чтобы забрать кое-какие вещи, и отправился туда в такой час, когда Марка не должно было быть дома, а тут Марк явился со своим новым соседом, Джоулом, тощим некрасивым парнем, работавшим в каком-то издательстве, и Марк выдал в своем стиле, чтобы покрасоваться перед Джоулом: «Разумеется, делай что хочешь», а ведь не будь там Джоула, Марк набросился бы на него со словами, к которым даже португальские матросы не часто прибегают. Марк (при рождении – подумать только! – его назвали Марселлусом) был препротивным типом. У него водились деньжата, и его хобби было вызволять молодых людей из временных финансовых затруднений. Разыгрывая роль покровителя, он позволял им жить в своем двухэтажном доме с тремя спальнями и развлекался тем, что говорил им, что там можно делать, а чего нельзя, советовал, как жить, где работать, – да от таких советов просто тошнит. Том жил там три месяца, причем половину этого времени Марк находился во Флориде, и он был предоставлен самому себе, но, вернувшись, Марк поднял жуткий скандал из-за того, что разбилось несколько стекляшек, – он снова вошел в роль покровителя, этакого строгого отца. Том разозлился и, решив постоять за себя, отвечал ему в том же тоне. После чего Марк вышвырнул его, взяв шестьдесят три доллара за разбитые стекляшки. Старый жмот! Быть бы ему старой девой, думал Том, и заправлять в женском лицее. Том горько жалел, что Марк Прайминджер вообще ему на глаза попался, и чем быстрее он забудет глупые свинячьи глазки Марка, его квадратный подбородок, безобразные руки с нанизанными на пальцы безвкусными кольцами (требуя от окружавших то того, то другого, он имел обыкновение размахивать руками), тем лучше.
Из всех своих приятелей он одной только Клио хотел рассказать о поездке в Европу. В четверг, накануне отплытия, Том к ней и отправился. Клио Добелл была стройной темноволосой девушкой, которой можно было дать от двадцати трех до тридцати лет, – Том так толком и не знал, сколько ей. Она жила с родителями на Грейси-сквер и немножко рисовала – ну очень немножко, покрывая рисунками кусочки слоновой кости размером с почтовую марку, так что рассматривать нарисованное приходилось с помощью увеличительного стекла. Клио и сама пользовалась увеличительным стеклом, когда рисовала. «Ты только подумай, как это удобно: все мои картины можно носить в коробке для сигар! Другим художникам, чтобы развесить свои холсты, сколько нужно стен!» – говорила Клио. У нее была комната с маленькой ванной и кухней в дальнем конце родительской квартиры, там было довольно темно, потому что окна выходили в небольшой двор, где рос заслонявший свет китайский ясень. У Клио в комнате были включены светильники, горевшие тускло: в какое время дня ни придешь, там царил полуночный мрак. На Клио всегда, кроме того вечера, когда он с ней познакомился, были облегающие слаксы разных цветов и веселенькие полосатые шелковые рубашки. Они понравились друг другу с первой встречи, и уже назавтра Клио пригласила его к себе домой на ужин. Клио то и дело приглашала его домой, и как-то само собой подразумевалось, что сам он не будет приглашать ее ни на ужин, ни в театр и не станет делать с ней ничего такого, что обыкновенно ожидают от молодых людей. Приходя к ней на ужин или на коктейль, он не приносил ей ни цветов, ни книг, ни сладостей – этого от него и не ждали, – но иногда дарил ей какой-нибудь маленький подарок, потому что ей это очень нравилось. Клио была единственным человеком, которому он мог рассказать, что едет в Европу и почему туда едет. И он рассказал.
Клио пришла в восхищение. Том этого ожидал. На ее продолговатом бледном лице раздвинулись накрашенные губы, она хлопнула себя по затянутым в вельвет бедрам и воскликнула:
– Томми! Как это… как это замечательно! Как в пьесе Шекспира!
Том и сам так думал. Он ждал, что именно это кто-то ему и скажет.
Клио суетилась вокруг него весь вечер, спрашивая, все ли у него есть для поездки, взял ли он бумажные носовые платки, таблетки от простуды, шерстяные носки – ведь в Европе осенью начинаются дожди, – сделал ли прививки. Том ответил, что к путешествию готов.
– Только не приходи меня провожать, Клио. Не хочу, чтобы меня провожали.
– Конечно нет! – сказала Клио. Она прекрасно его понимала. – Ах, Томми, это так здорово! Напишешь мне, как там у тебя с Дикки? Ты единственный из моих знакомых, который едет в Европу по делам.
Том рассказал ей о своем посещении верфи мистера Гринлифа на Лонг-Айленде. На мили тянулись столы с оборудованием, на которых изготавливали сверкающие металлические части, полировали и покрывали лаком деревянные панели, в сухих доках находились лодочные каркасы всех размеров. Он поразил ее знанием терминов, заимствованных у мистера Гринлифа, – комингс, бархоут, кильсон, острая скула. Рассказал о том, как ужинал у мистера Гринлифа во второй раз и как ему подарили наручные часы. Он показал Клио часы – не то чтобы безумно дорогие, но именно такие Том и сам бы себе купил: обыкновенный белый циферблат с тонкими черными римскими цифрами, в простом золотом футляре, с ремешком из крокодиловой кожи.
– А все потому, что несколько дней назад я обмолвился, что у меня нет часов, – сказал Том. – Он относится ко мне как к сыну.
Об этом он тоже мог сказать только Клио.
Клио вздохнула.
– Везет вам, мужчинам! С девушками такого никогда не случается. Мужчины такие свободные!
Том улыбнулся. Ему-то казалось, что все как раз наоборот.
– Не у тебя ли там отбивные подгорели?
Клио вскрикнула и выбежала из комнаты.
После ужина она показала ему пять-шесть своих последних работ – два романтических портрета молодого человека в белой рубашке с расстегнутым воротом, которого оба они знали, три воображаемых пейзажа, похожих на джунгли, хотя на самом деле это был вид из окна на китайский ясень. Том подумал, что шерсть обезьянок выписана просто удивительно. У Клио было несколько кисточек всего с одним волоском, причем бывали волоски довольно грубые, а бывали тончайшие. Они выпили почти две бутылки медока[3] из родительских запасов, и Тому так захотелось спать, что он готов был всю ночь провести на полу, – они часто лежали рядом на двух больших медвежьих шкурах перед камином. Помимо всего прочего, ему нравилось в Клио то, что она не позволяла приставать к ней, да он и не приставал. Без четверти двенадцать Том заставил себя подняться.
– Я тебя больше не увижу? – печально спросила она у дверей.
– Вернусь месяца через полтора, – ответил Том, хотя сам так вовсе не думал. Неожиданно он наклонился к ней и запечатлел крепкий братский поцелуй на ее щеке цвета слоновой кости. – Я буду скучать по тебе, Клио.
Она стиснула ему плечо; еще ни разу, сколько он помнил, она не прикасалась к нему.
– Я тоже, – сказала она.
На следующий день по поручению миссис Гринлиф он отправился к «Братьям Брукс», чтобы купить дюжину черных шерстяных носков и халат. Насчет цвета халата миссис Гринлиф ничего не сказала, положившись на его вкус. Том выбрал фланелевый халат каштанового цвета с темно-синим поясом и лацканами. По мнению Тома, в наличии имелись алаты и получше, но ему показалось, что именно такой выбрал бы Ричард и что Ричард будет им доволен. Он попросил выписать Гринлифам счет за носки и халат. Тому очень понравилась льняная спортивная рубашка с деревянными пуговицами; ее тоже можно было вписать в счет Гринлифов, но он не стал этого делать, а купил за свои деньги.
5
Утром, в день отплытия – он с таким нетерпением ждал этого утра! – случилось нечто кошмарное. Том шел вслед за стюардом к своей каюте, поздравляя себя с тем, что был прав, проявив твердость и высказав Бобу нежелание видеть его среди провожающих, но не успел войти в каюту, как его оглушил грохот голосов: