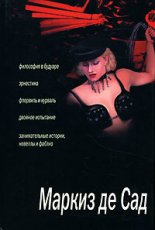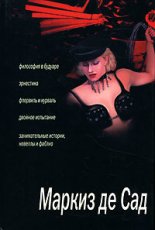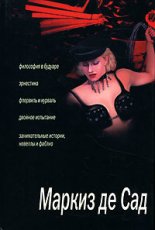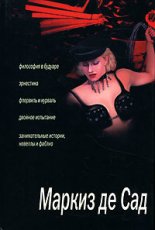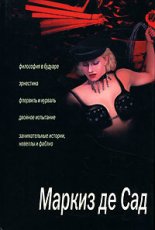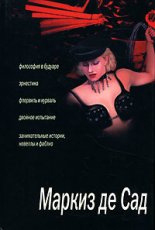Приключения Джона Девиса. Капитан Поль (сборник) Дюма Александр

На другой день, после чистки оружия, то есть часов в десять, военный суд собрался в кают-компании. Там поставлен был большой стол, покрытый зеленым сукном, и посередине его лежала большая Библия. Судьи сели в конце стола против дверей: капитан Стенбау, два вторых лейтенанта, подшкипер и Джемс, как старший из мичманов. По сторонам стояли сержант и офицер, которому поручено было поддерживать обвинение, оба с непокрытой головою, а первый с обнаженною шпагою в руках. Как скоро судьи заняли свои места, двери растворили и впустили матросов, которые стали в оставленном для них полукружии; что касается до первого лейтенанта, то он оставался в своей каюте.
Привели преступника: он был бледен, но совершенно спокоен; все мы вздрогнули при виде этого человека, которого насильственно отторгли от жизни безвестной, но спокойной и счастливой, и который, как безумный, наткнулся на преступление. Закон, конечно, был справедлив; но между тем этот человек был некоторым образом вовлечен в преступление нами самими, и, несмотря на все наше соболезнование, мы могли только столкнуть его в бездну, на край которой он ступил.
Несколько минут продолжалось молчание, и такие же мысли, конечно, представлялись всем участникам этой торжественной сцены. Наконец раздался голос капитана.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Девид Монсон, — отвечал преступник голосом тверже голоса судьи.
— Который тебе год?
— Тридцать девять лет и три месяца.
— Откуда ты родом?
— Из деревни Сальтас.
— Девид Монсон, тебя обвиняют в том, что ты в ночь с четвертого на пятое декабря пытался убить лейтенанта Борка.
— Это правда.
— Какие причины побудили тебя к этому преступлению?
— Некоторые из этих причин вы знаете, капитан, и я не стану говорить о них. А вот и другие.
При этих словах Девид вынул из-за пазухи бумагу и положил ее на стол. Это было письмо, которое я отдал ему дня три назад в Гибралтаре.
Капитан взял его и, читая, был заметно тронут; потом передал его своему соседу; таким образом оно перешло через руки всех судий, и последний из них, прочтя, положил его на стол.
— Что же такое в этом письме? — спросил офицер-обвинитель.
— В этом письме пишут, — сказал Девид, — что жена моя, овдовев при жизни мужа и оставшись с пятерыми детьми, продала все, что у нее было, чтобы их прокормить; а потом стала просить милостыню. Однажды ей в целый день ничего не подали, голодные дети плакали, она украла у булочника кусок хлеба; из милости и из сострадания к ее горестному положению, ее не повесили, но посадили на всю жизнь в тюрьму, а детей моих, как бродяг, отдали в богадельню. Вот что в этом письме… О, мои детушки, мои бедные детушки! — вскричал Девид с таким раздирающим сердце рыданием, что слезы брызнули из глаз всех.
— О, — продолжал Девид после минутного молчания, — я бы все простил ему, как христианин, клянусь Библиею, которая лежит перед вами, господа. Я бы простил ему, что он отнял у меня все на свете, оторвал меня от родины, от дому, от семейства; простил бы ему, что он бил меня, как собаку… Как бы он ни мучил меня, я бы простил его… Но бесчестье жены и детей моих!.. Жена моя в тюрьме, дети мои в богадельне! О, когда я получил это письмо, мне казалось, что все злые духи ада забрались ко мне в грудь и кричат мне: «Отомстить ему!»
— Ты ничего больше не имеешь сказать? — спросил капитан.
— Ничего, мистер Стенбау; только ради Бога, не прикажите томить меня. Покуда я в живых, я все буду видеть несчастную жену и бедных моих детушек. Сами изволите видеть, чем скорей мне умереть, тем лучше.
— Отведите его назад в трюм, — сказал капитан голосом, которому он тщетно старался придать некоторую твердость.
Два морских солдата вывели Девида. Нас тоже выслали, потому что суд должен был приступить к совещанию. Но мы не отходили от дверей, чтобы поскорее узнать решение. Через полчаса сержант вышел; в руках у него была бумага с пятью подписями — смертный приговор Девиду Монсону.
Хотя все ее ожидали, однако эта весть произвела горестное, глубокое впечатление. Что касается до меня, то я снова почувствовал раскаяние, которое уже не раз меня мучило. Не я захватил Девида, но, однако же, я принимал участие в экспедиции. Я отвернулся, чтобы скрыть свое смущение. За мною стоял Боб, прислонившись к стене; в простоте сердца он не мог скрыть чувств своих, и две крупные слезы катились по суровому лицу его.
— Мистер Джон, — сказал он, — вы всегда были благодетелем несчастного Девида. Неужели вы теперь его покинете?
— Но что же я могу для него сделать, Боб? Если ты знаешь какое-нибудь средство спасти его, говори: я на все готов, хоть бы мне это самому Бог знает чего стоило.
— Да, да, я знаю, — сказал Боб, — что вы добрый и хороший человек. Знаете что? Не можете ли вы предложить экипажу, чтобы все пошли просить за него капитана? Вы знаете, мистер Джон, он у нас милостивый командир.
— Плохая надежда, любезный мой! Однако же, нужды нет, попробуем. Только поговори ты, Боб, с экипажем; нам, офицерам, нельзя этого предлагать.
— Но вы, по крайней мере, можете представить капитану просьбу его старых матросов? Вы можете сказать ему, что об этом просят его люди, которые всякую минуту готовы умереть за него?
— Я сделаю все, что ты хочешь. Поговори со своими товарищами.
Предложение Боба было принято с единодушными радостными восклицаниями. Джемсу и мне поручено было представить капитану просьбу экипажа.
— Теперь, друзья мои, — сказал я, — как вы думаете, не попросить ли Борка пойти вместе с нами к капитану? Он был причиною несчастий Девида, его хотели убить. Или он не человек, или в подобных обстоятельствах будет красноречивее нас!
Предложение мое было принято мрачным молчанием. Но оно было так натурально, что спорить никто не стал. Только послышался ропот, изъявлявший сомнение. Боб покачал головой и пыхтел громче, чем когда-нибудь.
Мы, однако же, решились идти к лейтенанту.
Он ходил большими шагами по своей каюте; рука у него была подвязана. Я с первого взгляда заметил, что он чрезвычайно взволнован; между тем, увидев нас, он в ту же минуту принял строгое и мрачное выражение, составлявшее обыкновенный характер его физиономии. С минуту продолжалось безмолвие, потому что мы поклонились ему молча, а он смотрел на нас так, как будто хотел проникнуть до глубины наших сердец. Наконец он сказал:
— Позвольте спросить, господа, чему я обязан вашим посещением?
— Мы пришли предложить вам великое и благородное дело, мистер Борк.
Он горько улыбнулся. Я заметил и понял эту улыбку; однако продолжал:
— Вы знаете, что Девид приговорен к смертной казни?
— Да, и единогласно.
— И это не могло быть иначе, потому что на корабле один только человек, который мог бы возвысить голос в его пользу, а этот человек не присутствовал на суде. Но теперь, когда суд произнес свое решение, когда правосудие удовлетворено, не могло ли бы милосердие начать свое дело?
— Продолжайте, мистер Джон, — сказал он, — вы говорите красно и умилительно, как наш почтенный пастор.
— Экипаж положил отправить к капитану депутацию и просить помилования Девиду, и это доброе дело возложено на нас с Джемом; но мы не посмели присвоить обязанности, которую вы, может быть, представили себе.
На тонких и бледных губах лейтенанта появилась одна из тех презрительных улыбок, какие я только у него и видывал.
— Вы хорошо сделали, господа, — сказал он, кивнув головою. — Если бы преступление совершено было над последним матросом, и это дело лично до меня не касалось, я бы, по долгу своему, был неумолим. Но убить хотели меня; это другое дело. Нож вашего любимца поставил меня в такое положение, что я могу предаться внушениям сердца. Пойдемте к капитану.
Мы с Джемсом переглянулись, не сказав ни единого слова.
Во всем, что говорил Борк, он явился точно таким, каким мы его всегда знали, человеком, который повелевает собою с такою же сухостью, как другими, человеком, у которого лицо не зеркало души, а дверь тюрьмы, куда она в наказание посажена.
Мы пришли к капитану; он сидел, или, лучше сказать, лежал на лафете пушки, стоявшей в его каюте, и, казалось, был погружен в глубочайшую горесть. Увидев нас, он встал и подошел к нам.
Борк начал говорить и объяснил ему причину нашего посещения.
Надобно признаться, что он сказал капитану все, что сказал бы в подобном случае адвокат, но и не более того, то есть он не молил, а произнес речь. Ни одно сердечное выражение не освежило сухости слов, выходивших мерно из уст его, и, выслушав эту просьбу, я понял, что капитану невозможно простить, как бы он ни был расположен к этому. Ответ был таков, как мы ожидали; но как будто вмешательство лейтенанта в это дело иссушило источник чувствительности в душе Стенбау, в голосе его была суровость, какой я никогда не замечал в нем. Что касается его слов, то это были официальные выражения начальника, который может думать, что ответ его будет доведен до сведения лордов адмиралтейства.
— Если бы это было возможно, — сказал он, — я бы с душевным удовольствием согласился на просьбу экипажа, особенно когда вы, г. Борк, мне ее представляете; но вы знаете, что долг не позволяет мне исполнить вашего желания. Польза службы требует, чтобы столь важное преступление было наказано по всей строгости законов; личные наши чувствования не могут идти в сравнение с интересами службы, и вы, лейтенант, лучше, чем кто-нибудь, знаете, что я бы по справедливости подверг себя порицанию от начальства, если бы показал малейшее снисхождение в деле, которое касается до поддержания дисциплины.
— Но, мистер Стенбау, — вскричал я, — подумайте о необыкновенном положении несчастного Девида, о насилии, может быть, законном, но, конечно, несправедливом, которое сделало его матросом! Вспомните обо всех его страданиях и помилуйте, как помиловал бы сам Господь Бог!
— Мне даны готовые законы: мое дело только исполнять их, и они будут исполнены.
Джемс хотел говорить, но капитан протянул руку, чтобы заставить его молчать.
— Так извините, что мы вас обеспокоили, — сказал Джемс, дрожащим голосом.
— Я и не думал сердиться на вас, господа, за поступок, внушенный вам сердцем, и хотя я отказал вам, однако, могу сказать, не согласно с моими чувствами, — отвечал капитан совсем другим уже голосом. — Ступайте, господа, и оставьте нас с г. Борком. Скажите экипажу, что мне очень жаль, что я не мог исполнить его просьбы и что казнь будет завтра, в полдень.
Мы поклонились и вышли, оставив капитана с лейтенантом.
— Ну, что? — вскричали все, как только увидели нас.
Мы печально покачали головою: у нас недоставало духу говорить.
— Так вы ничего не выпросили, мистер Джон? — спросил Боб.
— Нет, любезный Боб. Девиду остается только приготовиться к смерти.
— И он приготовится как христианин, мистер Джон.
— Я надеюсь, Боб.
— А когда назначена казнь?
— Завтра в полдень.
— Можно мне будет повидаться с ним до тех пор?
— Я сейчас попрошу об этом капитана.
— Благодарю, покорнейше благодарю вас, мистер Джон, — вскричал Боб, схватив мою руку и хотел поцеловать. Разумеется, я отнял ее.
— Теперь, друзья мои, за работу, — сказал я.
И матросы принялись за работу с обыкновенной своей безропотной покорностью. Через пять минут после того все на корабле шло по-прежнему, только всюду царствовало печальное безмолвие.
Что касается до меня, то мне оставалось исполнить долг совести. Я принимал участие в экспедиции, которая привела Девида на корабль, и совесть беспрестанно терзала меня с тех пор, как я увидел, что это добром не кончится. Я пошел в кубрик и велел отпереть тюрьму, в которой заключен был Девид. Он сидел на колоде, облокотившись на колена; на ногах и на руках у него были кандалы. Услышав стук двери, он поднял голову; но как лампа стояла таким образом, что лицо мое было в тени, то он сначала не узнал меня.
— Это я, Девид, — сказал я. — Ты знаешь, что я был отчасти невинною причиною твоего несчастия: мне хотелось сказать тебе еще раз, как я об этом жалею.
— Да, я знаю, мистер Джон, — сказал Девид, вставая, — вы всегда были добры ко мне: вы вывели меня однажды из этой самой тюрьмы и доставили мне случай увидеть еще раз Англию; вы просили обо мне, когда мистер Борк сек меня: прости его, Господи, как я его прощаю.
— Так ты знаешь, что решил суд?
— Да, ваше благородие, мне сейчас прочли приговор. Ведь завтра в полдень?
— Садись же, Девид, — сказал я, чтобы увернуться от этого вопроса, — тебе надобно отдохнуть.
— Да, мистер Джон, пора мне отдохнуть, и, слава Богу, скоро буду отдыхать так, что никто уже не потревожит.
Пользуясь этим, я стал говорить ему о покаянии, о будущей жизни, где он снова увидится с женою и детьми.
— Но… я совершил преступление, — сказал боязливо Девид.
— Раскаиваешься ли ты в этом?
— Постараюсь, постараюсь раскаяться, мистер Джон; но я еще не довольно близок к смерти, чтобы забыть свою ненависть. Послушайте, мистер Джон, я надеюсь, что у меня достанет на это силы, но, если бы не достало, скажите, не может ли служить искуплением позорная смерть моя?
— Да, перед людьми, но не перед Богом.
— Хорошо, так я постараюсь, всеми силами постараюсь простить ему, не смерть мою, — Богу известно, что я простил его в этом, — но позор жены моей, нищенство моих детей. Да, я постараюсь, я надеюсь, что прощу ему и это.
В это время ключ в замке снова повернулся, дверь отворилась, и вошел капитан с матросом, который служил тюремщиком.
— Кто же это здесь? — спросил капитан, стараясь рассмотреть меня.
— Я, мистер Стенбау, — вскричал я с радостью, ожидая всего от этого неожиданного посещения. — Я пришел в последний раз проститься с Девидом.
С минуту продолжалось молчание; капитан посматривал то на меня, то на Девида, который стоял перед ним с мрачным, но почтительным видом. Наконец он сказал:
— Девид, я пришел просить у тебя прощения, как человек, в том, что осудил тебя, как судья; но я должен, непременно должен был сделать это.
— Я знаю, что меня ожидает, капитан. Смерть за смерть.
— Девид, — сказал капитан торжественным и печальным голосом, — поверь мне, преступление всегда преступление перед Богом; виновный может укрыться от правосудия людского, но не укроется от правосудия небесного. Скажи же мне, Девид, скажи, как перед Богом: мог ли я поступить иначе?
— Да, да, — вскричал Девид, — вы могли поступить иначе, вы могли быть безжалостны ко мне, как мистер Борк, и я бы умер в отчаянии, проклиная все на свете; я бы думал, что на земле нет сердца сострадательного, а вы, капитан, вы сделали для меня все, что только могли сделать. Заметив мое горе, вы прислали мистера Джона сказать, что отпустите меня, как скоро мы воротимся в Англию; когда вы принуждены были наказать меня, хотя и знаете, что я не виноват, вы, сколько могли, смягчили наказание; а когда должны были приговорить меня к смертной казни, вы пришли ко мне в тюрьму; капитан, вы утешили меня своим состраданием. Да, капитан, вы сделали для меня все, что могли, даже, может быть, больше, чем бы должны были. Ваши милости придают мне смелость представить вам последнюю просьбу мою.
— Говори, говори, что ты хочешь, — сказал капитан, протягивая к Девиду дрожащие свои руки.
— Дети мои, капитан! — вскричал Девид, бросаясь к ногам почтенного старца. — Дети мои… они выйдут из богадельни и принуждены будут просить милостыню…
— Они будут моими детьми, — сказал Стенбау, прерывая его. — Не бойся за них; я постараюсь, чтобы они простили меня в том, что я отнял у них отца, как ты прощаешь меня в том, что я отнял у тебя детей. Жены твоей я тоже не забуду; возвратясь в Англию, я буду просить за нее короля, и надеюсь, что за мою верную сорокалетнюю службу он не откажет мне.
— Благодарю, благодарю вас, капитан, — отвечал Девид, рыдая. — О, теперь, клянусь вам, теперь я не боюсь более смерти!.. Я даже благословляю ее, потому что она доставляет жене и детям моим такого благородного покровителя. Ох, теперь, капитан, благодаря вам, душа моя исполнена чувств христианских!.. Любовь моя усилилась, ненависть погасла: теперь я хотел бы видеть Борка между вами и мистером Джоном, и, клянусь вам, я поцеловал бы руку, которая меня губит.
— Теперь скажи мне, Девид, не могу ли я еще чего-нибудь для тебя сделать?
— Эти кандалы ужасно тяготят меня, капитан: я боюсь, что они не дадут мне спать, а мне нужно соснуть, чтобы не обессилеть завтра. Я бы хотел умереть с твердостью перед людьми, которые привыкли видеть смерть.
— Я велю сейчас снять их с тебя. Не нужно ли тебе еще что-нибудь?
— Есть ли здесь пастор?
— Я сейчас пришлю его к тебе.
— Боб просит позволения прийти сюда и переночевать с ним, капитан, — сказал я.
— Боб может прийти и оставаться здесь, сколько хочет.
— Вы осыпаете меня милостями, капитан, — сказал Девид. — Сегодня я благодарю вас за это на земле, а завтра буду молиться за вас на небе.
Больше мы с капитаном не могли выдержать. Мы постучали у дверей, тюремщик отворил, и мы ушли. Стенбау приказал, чтобы все, о чем просил Девид, было немедленно исполнено. Боб стоял в таком месте, где мы непременно должны были проходить. Ему хотелось поскорее узнать, согласен ли капитан на его желание. Я сказал ему, что он может идти к Девиду, что им принесут в тюрьму две порции ужина, вина и грога. Тут он так неожиданно и стремительно схватил и поцеловал мою руку, что я уже не успел ее вырвать.
Я должен был идти на вахту в четыре часа и, следственно, оставался на палубе до двух часов утра; во все это время я не видал Боба и догадался, что он сидит с Девидом. В два часа я сменился, но вместо своей комнаты пошел к тюрьме, узнать, все ли приказания капитана исполнены. Все было сделано: кандалы сняты, пастор пробыл у Девида до часу и ушел тогда уже, когда тот упрашивал его отдохнуть. Девид и Боб остались одни; я приложил ухо к двери, чтобы послушать, спят ли они; но они еще не ложились, и Боб утешал своего друга, как мог.
— Ведь это еще не Бог знает что! — говорил Боб. — Минутное дело, затянуть галстук потуже, да и конец. Случалось ли тебе когда-нибудь давиться? Ну вот, точнехонько. Я видел однажды, как повесили тридцать человек бразильских пиратов; в полчаса все было готово: так ведь это приходится по минуте на человека. Тебя еще скорее отправят; теперь мы все тут будем, а тогда кто там, кто тут, дела-то было вволю.
— Да мне страшно не то, когда уже придется умереть, а приготовленья-то! — сказал Девид довольно твердым голосом.
— Приготовленья, Девид, да ведь это между своими. Не то, как если бы повесили на земле, хотя бы за воровство. О, тогда дело бы другое; там бы пришлось возиться с палачом и его помощниками, а это, брат, не весело; да притом, на тебя стали бы глядеть чужие и толковать бы, что, дескать, стыдно, что мужчина не сумел прокормиться своими руками. А здесь дело другое: всякий о тебе пожалеет, Девид, и если бы можно было сложиться, отдать по месяцу жизни с человека, чтобы вышла тебе целая жизнь, так уж, верно, ни один матрос не отказался бы от складчины, а офицеры, пожалуй, положили бы по два.
— Но уже как быть, так и быть: но после-то, кто похоронит мое грешное тело?
— Кто? А я-то что? — сказал Боб, пыхтя, как кит. — Уж у меня пальцем никто до тебя не дотронется; я тебя зашью в койку чистенько, хоть бы пикадильской швее так смастерить. Потом привяжу тебе к ногам мешок с песком, побольше, чтобы ты разом нырнул ко дну; а там у тебя будет могила знатная. Девид, настоящая матросская; небось не тесно, как в сосновом гробу. Когда-нибудь и я к тебе попаду. Я уж непременно умру на корабле, как добрый матрос, а не на постели, как какой-нибудь нищий в богадельне. Будь уж спокоен, все будет справлено как следует.
— Спасибо тебе, Боб, у меня на сердце отлегло; теперь мне так легко стало, что хотелось бы заснуть.
— Ну, так прощай же, брат; я не хотел тебе сказать, а я и сам рад прикорнуть.
Они улеглись; через несколько минут я услышал громкое храпение Боба и более тихое дыхание бедного Девида.
Я пошел в свою каюту, но не надеясь успокоиться, как они. И действительно, я не спал во всю ночь, и на рассвете вышел на палубу.
Было еще довольно темно; идя к носовой части, я запнулся за что-то у подножия грот-мачты; я нагнулся посмотреть, что это такое, и увидел блок, прикрепленный к деку.
— Зачем это здесь блок? — спросил я матроса, который был ближе ко мне.
Тот, не говоря ни слова, указал на второй блок, прикрепленный к грот-рее, и третий, который приделывали к юту. Я понял, что приготовления к казни уже сделаны. Подняв глаза к верху мачты, я увидел, что два матроса привязывают флаг юстиции; он был еще свернут и опутан бечевкою, которая висела до палубы, чтобы можно было распустить его в минуту казни.
Все эти приготовления делались в безмолвии, которое прерывал только Никк, сидя на конце грот-реи.
В половине двенадцатого барабан вызвал всех на палубу. Морские солдаты стали в два ряда у правого и левого борта, в нескольких футах от обшивки и вокруг мачты.
В двенадцать часов без пяти минут Девид появился из люка носового трапа; с одного бока его был пастор, с другого Боб; он был очень бледен, но шел твердо…
Время, в которое происходила последняя церемония, сама по себе печальная и торжественная, придало ей еще большую мрачность. Солнце проглянуло на минуту на западе и ложилось за широкими полосами облаков в море, а сумерки спускались быстро, как обыкновенно бывает в полуденных странах; весь экипаж стоял с непокрытыми головами. Пастор прочел отпускные молитвы; Боб толкнул ростер, койка с трупом упала в море, которое закрылось за нею, и корабль величественно удалился, заглаживая своим следом круги, которые образовал труп Девида, канувший в море.
Это происшествие опечалило весь экипаж, и никто еще не развеселился, когда через десять дней после того мы пришли в Мальту.
XII
Как только мы вступили в гавань этого интересного острова, которую называют портом англичан, нас окружило множество маленьких лодок с дынями, апельсинами, гранатами, виноградом и кактусовыми яблоками; те, которые привезли эти плоды, предлагали свой товар с такими разнообразными криками и на таком странном наречии, что можно было бы подумать, будто мы очутились между туземцами какого-нибудь дикого острова южного моря, если бы не видели одного из чудес человеческой цивилизации Мальты, которая походит на кучу перегорелых кирпичей, навешанную на пепле вулкана.
Я не стану говорить об удивительных фортификационных работах, которые сделали Мальту крепостью совершенно неприступною. Когда французы взяли Мальту, Бонапарте и его офицеры осматривали эти укрепления и удивлялись, что все это так легко досталось в их руки. Кафарелли, который был тут же, сказал: «Право, генерал, хорошо, что тут случился гарнизон: было кому отворить нам ворота». Вместо описаний, я посоветую читателю взглянуть на какой-нибудь план Мальты. Но никакой в свете план не может подать понятие о зрелище, которое представляет Лавалеттская пристань: несмотря на всю мою самоуверенность, я не надеюсь верно изобразить его. Хотя на нас были мундиры, повсюду здесь уважаемые, однако же мы с трудом пробирались между торгашами, которые жгли кофе у самых наших ног, женщинами, которые преследовали нас, предлагая плоды, водоносами, которые оглушили нас криками: Aqua pura; наконец, нищими, которые обступили нас, протягивая свои шляпы так, что надобно было расталкивать их локтями, чтобы пробираться вперед. Несмотря на сильное соперничество, кажется, что это ремесло прибыльно; нищий отказывает сыну своему в наследство место, которое занимал на strada, ведущей к городу, точно так же, как лорд передает сыну место свое в верхней палате. Лестница, где это происходит, по одному уже своему имени кажется исключительным достоянием тех, кто ее занимает. Она называется Nix mangiare. Ученым, конечно, трудно было бы приискать этимологию этого слова, но я помогу им.
Один старый нищий араб, не зная итальянского языка, ни мальтийского арабского наречия, излагал просьбу свою прохожим следующим образом:
— Nix padre, nix madre, nix mangiare, nix bebere.
To есть, нет ни отца, ни матери, нечего есть, нечего пить. Он с таким горестным выражением произносил слова nix mangiare, что они всех поражали, и разноплеменные матросы, останавливающиеся в Мальте, прозвали таким образом и лестницу, на которой он отправлял ремесло свое.
Мальтийцы носят куртки с тремя или с четырьмя рядами металлических пуговиц, в виде колокольчиков, красный платок на голове и пояс того же цвета; черты их вообще резки и грубы, а в черных глазах выражается или дерзость, или низкое коварство. У женщин к этому неприятному выражению лица присоединяется еще отвратительная нечистота. Хорошенькие женщины, которых изредка встречаешь в Мальте, все — сицилианки; этих полугречанок узнаешь с первого взгляда: лицо у них миловидное, улыбка лукавая, глаза мягкие, как бархат, всегда заглядываются на офицерские эполеты, мичманские усики и кортики. Они присвоили себе исключительное право обращать в свою пользу чувствительность моряков. Мальтийки стараются оспаривать у них это преимущество, но победа почти всегда остается на стороне хорошеньких сицилианок.
Приехав в Лавалетту, мы были поражены противоположностью города с портом: порт весел и шумен, город скучен и безмолвен. Впрочем, мы выходили на берег только чтобы налиться водою и тотчас возвратились на корабль. Ветер был благоприятный, и мы в тот же вечер снялись с якоря.
Мы шли с попутным ветром всю ночь и следующий день, и Борк во все время не выходил на палубу; вечером вахту сменили и, как обыкновенно, послали спать в тридцатишестифутовую батарею. Все мы, укачиваемые Ионийскими волнами, с час уже спокойно спали в своих койках, как вдруг ядро просвистало в наших снастях и пробило малый стаксель; за ним последовало другое и пролетело сквозь парус бизань-мачты. Вахтенный, видно, заснул: мы сошлись с кораблем, который тотчас и прислал нам пару визитных билетов. Но что это было за судно — линейный корабль, фрегат, канонерская лодка, — этого, по темноте ночи, никто не знал. Когда я выскочил на палубу, третье ядро ударило в шпиль. Прежде всех попался мне Борк; он давал разные противоречащие приказания; это происшествие застигло лейтенанта врасплох, и потому голос его не имел своей обыкновенной твердости, и мне во второй раз пришло в голову, что этот человек трус и только умеет преодолевать себя. Я еще более утвердился в этом мнении, услышав на шканцах твердый, звучный голос капитана.
— Живо на работу! — кричал старый морской волк, у которого в подобных случаях являлась неожиданная твердость. — К ружью! По местам! Койки долой! Где сигнальный? Где все?
Тут началась суматоха, которой я не берусь и описывать; потом все пришло в порядок, и минут через десять все были на своих местах.
Между тем мы переменили положение и вышли из вида неприятеля; потом, когда все было готова, капитан велел спуститься на него. Через минуту мы увидели паруса, которые казались легкими белыми облаками: в ту же минуту судно опоясалось огнем, и снасти наши затрещали; несколько обломков рей упало на палубу.
— Это бриг! — вскричал капитан. — Погоди, голубчик, попался ты нам! Смирно! Эй, на бриге! — продолжал он, крича в рупор. — Кто там? Мы «Трезубец», семидесятипушечный фрегат великобританского флота.
Через несколько секунд голос как будто какого морского духа прилетел по воздуху.
— А мы шлюп великобританского флота «Обезьяна».
— Вот тебе на! — сказал капитан.
— Вот тебе на! — повторил весь экипаж, и все расхохотались, потому что раненых никого не было.
Не прими капитан благоразумной предосторожности, мы принялись бы палить в своих, как они стреляли в нас, и, вероятно, только при абордаже узнали бы друг друга, потому что стали бы кричать на одном и том же языке.
Капитан шлюпа «Обезьяна» приехал к нам и извинился, садясь с нами за чайный стол. Между тем койки были снова спущены, сигналы исчезли, пушки возвратились на свои места, и часть экипажа, которая не была на вахте, спокойно отправилась продолжать прерванный сон.
XIII
Через несколько дней мы пришли в Смирну, и как только бросили якорь, консул наш прислал письмо. Он писал, что у одного знатного англичанина в Смирне есть предписание адмирала ко всем капитанам английских судов в Леванте перевезти его со свитой в Константинополь: об этом консул и сообщал нам на случай, если мы зайдем туда. Стенбау отвечал, что готов принять этого пассажира, но что тот должен поторопиться, потому что он зашел в Смирну только для того, чтобы узнать, нет ли каких предписаний от правительства, и намерен в тот же вечер сняться с якоря.
Часа в четыре лодка отчалила от берега и гребла к «Трезубцу»: она везла нашего пассажира, двух его приятелей и слугу, албанца. В море малейшее происшествие возбуждает любопытство и служит разъяснением; поэтому не мудрено, что весь экипаж высыпал на шканцы встречать своих гостей. Тот, кто вошел первый, как будто эта честь составляла его неотъемлемое право, был молодой человек лет двадцати пяти или шести; красавчик; чело высокое, надменное, волосы черные, вьющиеся, руки совершенно женские. Он был в красном мундире с каким-то шитьем и эполетами, в лосиных обтяжных панталонах и в сапогах; входя по трапу, он приказывал что-то своему слуге на новогреческом языке, на котором объяснялся очень свободно. С первой минуты, как его увидел, я не мог отвести от него глаз: мне казалось, что я где-то видел это замечательное лицо, но я никак не мог вспомнить, где именно; голос его тоже был мне знаком. Взойдя на палубу, пассажир поклонился офицерам и сказал, что ему очень приятно после годового отсутствия снова встретиться с соотечественниками. Борк отвечал на эту вежливость, по обыкновению своему, весьма холодно и по приказанию капитана ввел гостя в его каюту. Через несколько времени Стенбау вышел на ют, держа молодого человека в красном мундире за руку. Найдя тут всех офицеров, он подошел к нам и сказал:
— Господа, рекомендую вам лорда Джорджа Гордона Байрона и его приятелей, господ Гобгауза и Экенгида. Уверен, что он будет пользоваться здесь вниманием, достойным его таланта и имени.
Мы поклонились. Я не ошибся: благородный поэт был именно тот молодой человек, который вышел из коллегиума Гарро-на-Холме в тот самый день, когда я вступил туда, и о котором я не раз слыхивал; о нем говорили много странного и почти всегда неодинаково.
Впрочем, в то время лорд Байрон был более известен по своим странностям, чем по таланту: о нем рассказывали множество удивительных вещей, доказывавших, что он или гений, или сумасброд. Он хвастался, что у него было только двое друзей, Метью и Лонг, которые оба утонули. Несмотря на это, он страстно любил плавание; впрочем, большую часть времени проводил в том, что ездил верхом или фехтовал. Пиры его в Ньюстедском замке славились во всей Англии и сами по себе, и по обществу, которое он со своим медведем принимал и которое состояло из жокеев, кулачных бойцов, лордов и поэтов; все эти честные господа, одетые в погребальные платья, пили по целым ночам бордо и шампанское из человеческого черепа, обделанного в виде чаши. Что касается до его стихов, то им издан был в то время только один том под названием «Часы досуга»; но лучшие из произведений, помещенных в этой книге, впрочем, замечательные по форме и прелести, совсем еще не предвещали блистательных чудес поэзии, которыми он наделил мир впоследствии. «Edinburgh Review» жестоко разбранил эту книгу, и критика шотландского аристарха до того поразила благородного поэта, что один из его приятелей, войдя к нему в ту минуту, как он только дочитал ее, подумал, что бедный Байрон болен или что с ним случилось ужасное несчастие. Но он тотчас ободрился, решив отомстить за критику сатирою. Знаменитое его «Послание к шотландским критикам» явилось, и он утешился. Потом, совершив месть, подождав несколько времени, чтобы те, кого он жестоко оскорбил, потребовали от него удовлетворения, не дождавшись никого, наскучив всем, он выехал из Англии, посетил Португалию, Испанию, Мальту, поссорился там с одним из офицеров главного штаба генерала Окса, вызвал его на дуэль, но тот приехал с извинениями, когда уже Байрон со своими секундантами ждал его на месте. Тогда лорд Байрон сел опять на корабль и через неделю прибыл в Албанию, простившись со старою Европою и с христианскими языками; проехал полтораста миль, чтобы познакомиться в Тебелене со знаменитым Али-пашою: тот должен был куда-то ехать, но, зная, что знатный англичанин намерен посетить его, приказал приготовить ему дворец, лошадей и оружие.
Возвратившись, Али-паша тотчас принял его с большими почестями и чрезвычайно ласково. Видно, у этого паши, который узнавал людей знатного происхождения по вьющимся волосам, маленьким ушам и белым рукам, были также какие-нибудь приметы, по которым он узнавал и гениальных людей. Как бы то ни было, дружба его к лорду Байрону сделалась столь сильною, что он называл его своим сыном, просил, чтобы тот звал его не иначе как отцом, и двадцать раз в день посылал к лорду шербетов, плодов и варенья. Наконец, прожив с месяц в Тебелене, лорд Байрон отправился в Афины, прибыл в столицу Аттики, остановился в доме вдовы вице-консула, мистрисе Теодоры Макри, и, уезжая из города Минервы, посвятил старшей дочери своей хозяйки песнь, которая начинается следующими словами: «Дева афинская, теперь перед разлукой возврати, о, возврати мне мое сердце!» Наконец, он поехал в Смирну, и там, в доме генерального консула, откуда переехал к нам на корабль, окончил две первые песни «Чайльд-Гарольда», которые начал месяцев за пять перед тем в Янине.
В самый день приезда лорда Байрона на корабль я напомнил ему о том, как он вышел из коллегиума Гарро-на-Холме. Байрон всегда любил детские воспоминания и долго проговорил со мною об учителях, о Вингфильде, которого он знал, и Роберте Пиле, с которым был очень дружен. В первые дни нашего знакомства это был единственный предмет наших разговоров. Потом мы стали рассуждать об общих предметах; наконец мы перешли к дружеской беседе, и так как мне нечего было рассказать ему о себе, то речь шла большею частью о нем.
Характер пэра-поэта, сколько я мог судить по этим разговорам, был смесью самых разнородных, противоположных чувствований: он гордился своею знатностью, своей совершенно аристократической красотой, своим искусством во всех телесных упражнениях, часто толковал о том, как хорошо бьется на кулаках и фехтует, и никогда не говорил о своем гении. Он был очень худ, но с этого времени чрезвычайно боялся растолстеть. Впрочем, может быть, что он делал это из подражания Наполеону, от которого был тогда в восторге: Байрон и подписывался так же, как он, начальными буквами своего имени и фамилии, Н. Б., — Ноэль Байрон. Прилежное чтение Юнговых «Ночей» придало ему страсть к мрачным впечатлениям, и эта страсть, примененная к нашим антипоэтическим обществам, была часто смешна: он сам это чувствовал и иногда, пожимая плечами, говорил о знаменитых ньюстедтских ночах, когда он и его приятели старались воскресить Генриха V и Шиллеровых разбойников. Но в глубине сердца он чувствовал потребность в чудесном, в котором образованный мир ему отказывал, и он приехал искать его в странах древних воспоминаний, посреди племен, бродящих у подножия гор с дивными именами, гор, которые зовут Афоном, Пиндом, Олимпом. Тут ему было легко и привольно. Он говорил мне, что со времени выезда своего из Англии идет на всех парусах.
После меня, из живых существ на корабле, он всех более полюбил Никка, орла, которого я ранил в Гибралтаре и который почти всегда сидел на борте баркаса, стоящего у подножия грот-мачты. С тех пор как высокочестный поэт прибыл к нам на корабль, Никку стало гораздо лучше жить: Байрон сам всегда кормил его, обыкновенно голубями и курицами, которых повар должен был сначала зарезать, и притом где-нибудь подальше, потому что лорд Байрон не мог видеть, как режут какое-либо животное. Он сказывал мне, что, когда ездил к дельфийскому источнику, там вдруг поднялось двенадцать орлов, что бывает очень редко, и это предзнаменование на горе, посвященной богу поэзии, подало ему надежду, что потомство, подобно этим благородным пернатым, при знает его поэтом; ему также случилось подстрелить орленка на берегу Лепантского залива, близ Востицы, но тот, несмотря на все его попечения, вскоре умер. Никк казался очень благодарным за старания своего поставщика и, увидев его, радостно вскрикивал и начинал махать крылом. Зато лорд Байрон брал его в руки, чего никто из нас не смел делать, и орел даже ни разу не оцарапал его. Байрон говорил, что так и надобно обходиться с животными дикими или свирепыми. Это средство удалось ему с Али-пашою, со своим медведем, со своей собакою Ботсвайном: она умерла, а он до последней минуты ласкал ее и обтирал голыми руками смертоносную пену, которая текла у нее изо рта.
Я находил в лорде Байроне большое сходство по характеру с Жан-Жаком Руссо. Однажды я сказал ему об этом, но, по тому, как он начал опровергать это сравнение, я тотчас заметил, что оно ему неприятно. Байрон говорил, что, впрочем, не я первый сделал ему такой комплимент; и он произнес это слово с особенным выражением, не придавая ему, однако же, точного значения. Я надеялся, что этот спор вы» кажет мне какие-нибудь черты его характера, и потому продолжал поддерживать свое мнение.
— Впрочем, — сказал он, — вы, любезный друг, заразились общею болезнью, которую я, кажется, сообщаю всем окружающим. Как скоро кто меня увидит, сейчас начинает с кем-нибудь сравнивать, а это для меня очень невыгодно: надобно думать, что я не довольно оригинален, чтобы быть самим собою. Никого на свете не сравнивали столько, как меня. Сравнивали меня и с Юнгом, и с Аретином, с Тимоном афинским, с Гопкинсом, с Шение, с Мирабо, с Диогеном, с Попом, с Драйденом, с Борисом, с Севеджем, с Чаттертоном, с Чорчилем, с Кином, с Альфиери, с Броммелем, с алебастровою вазою, освещенною изнутри, с фантасмагорией и с бурею. Что касается до Руссо, то, я думаю, я ни на кого не похожу так мало, как на него. Он писал в прозе, я пишу стихами; он был разночинец, я — вельможа; он философ, а я ненавижу философию; он издал первое свое творение уже сорока лет от роду, я начал писать восемнадцати лет: первое его сочинение было с восторгом принято всем Парижем, а мое разругано критиками во всей Англии; он воображал, что весь свет против него в заговоре, а, судя по тому, как люди со мной обходятся, кажется, они уверены, будто я составляю против них заговор; он очень хорошо знал ботанику, а я только люблю цветы; у него была дурная память, у меня память превосходная; он писал с трудом, а я пишу без малейших поправок; он никогда не умел ни ездить верхом, ни фехтовать, ни плавать, а я один из лучших пловцов во всем свете, хорошо фехтую, особенно палашом, ловко бьюсь на кулаках, — так, например, я однажды у Джемсона сбил с ног Порлинга и переломил ему ключицу; — верхом езжу я тоже недурно, только немножко робко, потому что, учась вольтижировать, сломал себе два ребра. Вы видите, что я ничем не похож на Руссо.
— Но вы, милорд, говорите только о наружных противоположностях, а не о сходстве, которое можно найти между вашими душами и талантами.
— Да скажите же, ради Бога, мистер Джон, что ж между нами общего?
— Вы не рассердитесь?
— Нисколько.
— Всегдашняя скрытность Руссо, недоверчивость к дружбе и людям, неуважение к внутреннему самосознанию и расположение отдавать свои действия на суд публики, все это есть и в вас. Руссо написал свою «Исповедь», род монумента самому себе, а вы читали мне две песни Чайльд-Гарольда, которые очень похожи на недоконченный бюст автора «Часов досуга» и «Сатиры» на английских поэтов и шотландских критиков.
Лорд Байрон задумался.
— Надобно признаться, — сказал он, наконец, — что вы ближе всех других моих судей подошли к истине, и в таком случае она очень лестна для меня. Руссо был великий человек, и я очень благодарен вам, мистер Джон. Что вы не пишете в журналах? По крайней мере хоть один человек судил бы обо мне справедливо.
Весь этот разговор, для меня чрезвычайно интересный, происходил в прекраснейших во всем мире местах, посреди островов, разбросанных, как корзины цветов, по морю, в котором родилась Венера. Ветер был противный, однако же через несколько дней мы миновали остров Хиос, землю благоуханий, и обогнули Митилену, древний Лесбос; наконец через неделю после того, как вышли из Смирны, мы увидели Троаду и Тенедос, ее передовой пост, и перед нами раскрылся пролив, получивший свое имя от Дар-дана. Мы любовались на великолепное зрелище, которое развивалось перед нашими глазами, как вдруг пушечный выстрел с форта вывел нас из созерцания; турецкий фрегат окликнул нас, и два баркаса с несколькими солдатами и офицерами приближались к нам, чтобы узнать, не русский ли это корабль, идущий под английским флагом. Мы предъявили свои бумаги; однако нам велели ждать при входе в пролив фирмана Блистательной Порты с позволением идти к заветному городу. Хотя этот обряд был очень неприятен, однако мы принуждены были ему подвергнуться; только двое радовались такой остановке — лорд Байрон и я. Он попросил позволения сойти на берег, я — командовать баркасом, который повезет его. Капитан охотно согласился, и мы собрались осмотреть на другой день места, где была Троя.
Ступив в барку, лорд Байрон по своей нетерпеливости тотчас стал просить меня как можно больше наполнить парус; я заметил ему, что в этом море течение из пролива довольно сильно и что потому нас легко может опрокинуть. Он спросил, разве я не умею плавать. Мне пришло в голову, что он сомневается в моем мужестве, и потому предложил ему снять на всякий случай верхнее платье и выставил на ветер до последнего дюйма парусины. Против моего ожидания и благодаря искусству рулевого, маленькое наше судно, качаясь и кувыркаясь, то поднимая корму, то выставляя нос, благополучно доставило нас на место: мы вышли на берег позади Сигейского мыса, который нынче называется мысом Янычар.
Мы мигом взбежали на холм, где, по преданию, погребен был Ахилл, знаменитый холм, вокруг которого Александр, из уважения к нему, обходил три раза нагой и с цветами на голове. В нескольких шагах от этой мнимой могилы заметны остатки храма, и один греческий монах преважно уверял нас, что это развалины Трои; но, на беду его, с того места, где мы были, видна гора, на которой, по всей вероятности, стояла Троя, в глубине долины, где течет ручей; это не что иное, как знаменитый Скамандр, которому Гомер дал место в числе богов под именем Ксанта; несколько повыше деревни, называемой Энаи, к нему присоединяется Симоис, и тогда только он делается несколько похожим на реку. Мы отправились в эту долину и пришли туда в полчаса. Лорд Байрон сел на обломок скалы; Экенгед и Гобгауз принялись стрелять бекасов, как будто в корнуэльских болотах, а я начал измерять Гомерова героя, перепрыгивая через него. Прошло с час. Лорд Байрон еще менее прежде знал теперь, где именно Троя. Экенгед и Гобгауз убили штук двадцать бекасов и трех каких-то зверьков, очень похожих на европейских зайцев, а я три раза упал не в воду, но в почтенную тину, в которую ложились девы Греции, когда приходили сюда для жертвоприношений.
Потом мы собрались в путь. Лорду Байрону хотелось пройти по берегам Скамандра до того места, где он впадает в море, и мы пустились в путь, приказав, чтобы лодка дожидалась нас у Янычарского мыса. В Бунар-баши мы остановились завтракать; потом пошли далее и через час были уже на берегу пролива, там, где он суживается между новым азиатским замком и мысом. Там лорду Байрону вздумалось повторить подвиг Леандра, переплыть пролив, который в этом месте будет около четырех верст шириною. Мы убеждали его не делать этой шалости, но что мы ни говорили, он никак не соглашался оставить своего намерения, а верно, бросил бы его, как шутку, если б мы не вздумали отговаривать: в характере лорда Байрона было много упрямства, совершенно детского или женского. Впрочем, эта стойкость принадлежала к сущности его гения. Говорили, что он плохой стихотворец, и он сделался великим поэтом; природа создала его калекою, и он начал бороться с этим недостатком и прослыл одним из прекраснейших мужчин своего времени. Мы утверждали, что ему жарко, что он недавно позавтракал и что течение очень быстро, и он чуть было не бросился в воду тотчас, весь в поту. Заставив лорда Байрона переменить свое мнение, все равно было, что поднять гору и перенести ее из Европы в Азию.
Однако же я упросил его по крайней мере подождать, пока шлюпка придет. В этом была двойная выгода: он успел бы отдохнуть и простыть, и притом я мог следовать за ним в нескольких шагах, и тогда предприятие его было бы неопасно. Я взошел на самое возвышенное место берега и сделал шлюпке знак, чтобы она приблизилась. Когда я воротился, лорд Байрон был уже совсем раздет: минут через десять после того он плыл по морю, а я в нескольких шагах от него плыл в шлюпке. Минут сорок все шло как нельзя лучше, и он, почти не уклоняясь от прямой линии, проплыл две трети пути, но тут начал поднимать грудь выше воды, и я догадался, что он устал. Я заметил ему это и хотел подойти поближе; он показал мне знаком, что не нужно. Он проплыл еще с сотню сажен; дыхание его делалось громче и громче; я понемножку приблизился к нему. Вслед за тем члены его начали коченеть, и он уже подавался вперед только порывами, наконец голова два раза погрузилась в воду; при третьем Байрон кликнул нас. Мы подали ему весло и втащили в шлюпку.
Тут вполне выказалась мелочность его характера: он приуныл, как будто с ним случилось большое несчастие, или стыдился как будто поражения, и не говорил ни слова, пока мы его вытаскивали.
Впрочем, Байрон еще не отказывался от своего намерения; неудачу свою он, по справедливости, приписывал быстроте течения и думал, что в другом месте, не столь сжатом, расстояние будет больше, но зато плыть легче. Положено было, что на другой день мы отправимся в Абидос и лорд Байрон возобновит свою попытку в том самом месте, где Леандр столько раз переплывал. Мы возвратились на корабль.
На другой день мы вышли на берег на рассвете; взяли лошадей в деревушке Ренне-Кьой, оставили влево мельницы и хижины и ехали все вдоль азиатского берега.
Хоть это было в начале нашей европейской зимы, однако же погода стояла чрезвычайно жаркая; горячая пыль, которая казалась вихрем красного пепла, поднималась из-под ног наших лошадей, и мы торопились к кипарисовой роще, свежей и тенистой, которая стояла подле дороги. Нам оставалось проехать шагов двести, как вдруг из лесу выступил отряд турецких всадников и выстроился. Послышались голоса. Турки окликали нас, но никто их не понял и, следственно, никто не отвечал. Мы смотрели друг на друга, не зная, что делать; лорд Байрон поднял лошадь в галоп и поскакал прямо к роще, как будто хотел отбить ее у турок. Увидев это, они обнажили сабли и выхватили пистолеты. Лорд Байрон сделал то же; но проводник наш бросился вперед и остановил его лошадь; потом побежал к туркам один и объяснил им, что мы английские путешественники и без всяких неприязненных намерений обозреваем Троаду. Эти чудаки сочли нас за русских, потому что Турция была тогда в войне с Россией. Им и в голову не пришло спросить самих себя, каким образом мы пробрались из России на азиатский берег Дарданелл? Дело в том, что решение этого вопроса потребовало бы некоторого размышления, а турок всегда думу думает, но размышлять не берется.
Этот турецкий эскадрон, готовившийся к битве, представлял прекраснейшее воинское и поэтическое зрелище. Люди, как дикие звери, казалось, радостно чуяли кровь; густые усы их поднимались дыбом; вместо того, чтобы стоять смирно, холодно, бесчувственно, они крутили коней своих, будто возбуждая сами себя, как, говорят, лев рычит и бьет себя хвостом по бедрам. Куртки, залитые золотом, красивые тюрбаны, арабские лошади, убранные бархатными кистями, все это, в отношении к живописному эффекту, давало турецкому отряду неизмеримое преимущество перед прекраснейшими английскими и французскими полками. Во время остановки, когда мы еще не знали, чем это кончится, я взглянул на Байрона. Лицо его было очень бледно, но глаза сверкали, и между губами выставлялись прекраснейшие белые зубы. Ясно было, что альбионскому волку очень хотелось бы сцепиться с этими восточными тиграми. К счастью, вышло иначе. Проводник наш успокоил турецкого командира. Сабли ушли назад в ножны, пистолеты за пояса, и грозные, щетинистые усы улеглись по губам. Нам показали знаками, чтобы мы подъехали, и через минуту мы дружески перемешались с теми, кого только что считали неприятелем.
Лорду Байрону недаром хотелось отдохнуть в кипарисовой роще: там царствовала восхитительная прохлада, поддерживаемая ручейком, который вился по ней серебряною лентою. Мы уселись на берегу этой безымянной реки, которая преважно впадает в море, как будто какой-нибудь Днепр или Дунай, и достали свою провизию, огромный пирог из вчерашней дичи и несколько бутылок лафиту и шампанского вина. Лорд Байрон был чрезвычайно весел и любезен; рассказывал нам о своем пребывании в Тебелене, о своих сношениях с Али-пашою и странной дружбе к нему этого сурового сатрапа; наконец, предложил мне рекомендательное письмо к нему, и я принял, на всякий случай, не думая, чтобы оно мне когда-нибудь понадобилось, и более для того, что иметь собственноручное письмо знаменитого поэта.
Позавтракав, мы снова пустились в путь и часа через два прибыли в бедную деревушку, которая поддерживается только своим мифологическим прошедшим: оно привлекает туда по временам любопытных путешественников и отважных любовников. Здесь должен был происходить второй опыт. В этот раз Экенгед решился пуститься вместе с Байроном. Мне тоже очень хотелось попытаться. От Абидоса до Сестоса не более полутора мили, а мне казалось, что столько-то я проплыву. Но мое дело было оставаться в шлюпке, чтобы беречь жизнь знаменитых соотечественников. Ответственность моя была слишком велика, и я не осмелился пренебречь ею.
Оба они плавали очень хорошо, и хотя лорд Байрон был искуснее, однако же сначала казалось, что преимущество принадлежит Экенгеду. Дело в том, что неправильная нога Байрона не позволяла ему отбивать воду совершенно ровно, и он даже в стоячей воде не мог плавать совсем прямо. Я по-прежнему держался в небольшом расстоянии от них; но потому ли, что Байрона подстрекало соревнование, или потому, что течение выше Дарданелл не так быстро, как пониже их, только он доплыл в полтора часа; однако вышел на берег тремя милями ниже назначенного места. Экенгед поспел восемью минутами прежде его. Что касается до нас, то подойти к земле значило бы нарушить турецкие законы, и потому мы держались на ружейный выстрел от европейского берега.
Лорд Байрон, еще не отдохнув от вчерашней усталости и прибавив к ней новую, до того измучился, что, добравшись до берега, повалился почти без чувств. Один бедный рыбак, который чинил свои сети и по временам, не понимая намерения этих двух чудаков, недоверчиво на них посматривал, увидев, что Байрон совершенно ослабел, предложил ему отдохнуть у себя в хижине. Я уже говорил, что лорд Байрон свободно объяснялся на греческом языке; он понял предложение рыбака и отвечал, что охотно его принимает. Экенгед хотел остаться с ним, но Байрону показалось, что таким образом приключение его лишится всей своей необыкновенности, и он никак на это не согласился. Я собрал его платье, привязал себе к голове, бросился в воду и доплыл к нему; потом мы воротились с Экенгедом, который также до того утомился, что с трудом доплыл до лодки, хоть она была в каких-нибудь трехстах шагах от берега. Байрон закричал нам, чтобы мы не беспокоились о нем, если он на другой день не воротится.
Турок и не воображал, какого знатного и важного гостя принимает в своей хижине, однако же оказывал ему все попечения, предписываемые гостеприимством, единственным божеством, еще уважаемым на Востоке из всех шести тысяч олимпийских божеств. Рыбак и его жена так хорошо ходили за лордом Байроном, что он дней в пять совершенно оправился и воротился на корабль в какой-то тенедосской лодке, которая шла в ту сторону. На прощание хозяин дал ему большой хлеб, кусок сыру и мех вина, принудил его взять еще несколько мелких монет и пожелал ему счастливого пути. Байрон принял все это, как священные дары гостеприимства, и только поблагодарил доброго турка. Но, прибыв на корабль, он тотчас отправил к нему своего верного Стефана, слугу, которого дал ему Али-паша, и послал рыбаку полный прибор рыболовных снастей, охотничье ружье, пару пистолетов, шесть фунтов пороху и большой кусок белковой материи для жены его. Все это доставлено было в тот же день: добрый турок не понимал, как можно давать такие богатые подарки за такое бедное угощение! Ему непременно хотелось поблагодарить своего великодушного гостя. На другой день он решился переплыть Геллеспонт; спустил свою лодку на воду, вышел в море, добрался почти до середины канала, но тут сильный ветер опрокинул его лодку, и бедняк, не умея плавать, как лорд Байрон и Экенгед, утонул.
Мы узнали об этом на третий день; несчастье рыбака чрезвычайно огорчило Байрона; он тотчас послал вдове его пятьдесят испанских пиастров и свой адрес в Лондоне, написанный по-гречески, и сбирался на другой день к ней; но мы в тот же вечер получили фирман с позволением войти в Дарданеллы. Как мы целую неделю его прождали, то капитану хотелось как можно скорее наверстать потерянное время. Мы тотчас подняли паруса и на третий день, часу в четвертом пополудни, бросили якорь у Серальского мыса.
XIV
В эти два дня плавания — Азия справа, Европа слева — развертывали перед нами такие великолепные картины, что, дойдя до Серальского мыса, мы спрашивали сами себя: да где же этот расхваленный путешественниками, великолепный Константинополь, который оспаривает у Неаполитанского залива пальму живописности? Но когда мы сели в баркас, чтобы свезти капитана в английский посольский дом, находящийся в Галате, и, обогнув Серальский мыс, пошли вдоль Золотого Рога, Стамбул явился нам на скате своего обширного холма, с пестрым амфитеатром домов, золотоверхими дворцами, кладбищами, где усопшие покоятся под тенью кипарисов, и мы, наконец, узнали восточную прелестницу, для которой Константин изменил Риму, и которая, как нереида, окутала его голубым шарфом вод.
В то время франкам нельзя было ходить по улицам Галаты без стражи, и потому Эдер, зная уже о нашем прибытии, выслал к нам навстречу янычара: присутствие его было необходимо для того, чтобы показать народу, что мы находимся под покровительством султана. В такой стране, где все, даже дети, ходят с оружием, ссоры весьма часто оканчиваются кровопролитными драками, и юстиция обыкновенно не разбирает уже распри, а только карает за смерть жертвы. Притом народ был ожесточен против гяуров, и потому необходимо было показать, что мы принадлежим к дружественной нации.
Матросы наши остались в баркасе под командою Джемса, а мы с капитаном Стенбау и с лордом Байроном пошли в посольский дом. Почти в половине пути, на улице, столпилось столько народу, что мы не знали, как пройти, но янычар наш, у которого была палка в руках, принялся так усердно колотить по этой человеческой стене, что наконец пробил брешь. Причиною давки было зрелище любопытное и приятное для мусульман: какого-то грека вели на казнь. То был видный старик с длинною седой бородой; он мел твердыми, медленными шагами между двумя палачами и холодно, безбоязненно посматривал на чернь, которая провожала его ругательствами и проклятиями. Это зрелище произвело чрезвычайно сильное впечатление на всех нас, особенно на лорда Байрона, и он тотчас спросил нашего толмача по-английски, нельзя ли как-нибудь спасти этого несчастного через посредство посланника или заплатив большую сумму денег, но толмач с испуганным видом положил палец на губы, чтобы Байрон молчал; несмотря на это, когда старик проходил мимо нас, поэт закричал ему по-гречески: «Мужайся, мученик!» Руки страдальца были связаны, и потому он поднял к небу только глаза, показывая, что уже давно готов к смерти. В ту же минуту прямо против нас из-за решетки раздался другой крик; чьи-то пальцы просунулись сквозь решетку и потрясли ее. При этом крике, как бы знакомом, старик вздрогнул и остановился, но один из палачей толкнул его в спину концом своего ятагана. Кровь полилась, Байрон хотел было броситься вперед; я схватился за кинжал, но капитан, поняв наше намерение, удержал нас за руки и сказал по-английски: «Ни слова, или нас убьют!» Он указал нам на янычара, который уже косился на нас. Мы остановились, чтобы подождать, пока толпа пройдет. Улица мало-помалу очистилась, и минут через десять мы, еще бледные от душевного волнения, пришли в посольский дом.
Причина, по которой нам велено было идти в Константинополь, миновалась еще прежде нашего прибытия. Требование, которое мы должны были подкреплять, уже было удовлетворено, и оттоманское правительство извинилось перед нашим послом. Поэтому политическое совещание капитана Стенбау с Эдером было весьма непродолжительно, и нас с Байроном тотчас позвали к послу. После обыкновенных приветствий благородный лорд спросил, что сделал бедный грек, которого вели на казнь. Эдер печально улыбнулся. Несчастный старик был виновен в трех преступлениях, из которых каждое в глазах турков стоило смертной казни: он был богат, мечтал об освобождении своего отечества, и притом его звали Афанасием Дукасом, то есть он был одним из последних потомков дома, который царствовал в тринадцатом столетии. По настоятельным просьбам друзей своих он было уехал из Константинополя, но потом не мог устоять против желания повидаться со своим семейством и воротился в Галату. В тот же самый вечер его взяли под стражу; дочь его, которая славилась своею красотою, была похищена и продана за двадцать тысяч пиастров одному богатому турку. Дом Дукаса конфисковали, жену его оттуда выгнали и не позволили ей ни идти с мужем в тюрьму, ни умереть вместе с ним; она просила пристанища у многих греков, но двери при виде ее затворялись. Наконец, Эдер велел сказать, что она может найти в доме английского посольства убежище священное и ненарушимое; бедная женщина с признательностью приняла это великодушное предложение, но накануне казни мужа она скрылась, и никто не знал, куда она девалась.
Эдер предлагал лорду Байрону жить в посольском доме, но тот, боясь, что это стеснит его свободу, отказался и просил только, чтобы посол приказал нанять ему турецкий домик, где бы он мог жить по-туземному. Сверх того, он просил Эдера взять его с собою, если ему случится представляться султану. Весьма вероятно было, что по случаю нашего прибытия посол вскоре будет иметь аудиенцию.
Пробыв у Эдера с час, мы распрощались с ним и пошли назад по улицам Галаты. Янычар шел впереди; мы скоро заметили, что он ведет нас не по прежним улицам, и хотели было спросить его об этом, но толмач, угадав наше намерение, показал нам на какую-то безобразную группу на середине площади, на которую мы пришли. Мы еще не могли рассмотреть, что это такое, но по какому-то уже предчувствию вздрогнули. По мере приближения нашего этот предмет принимал человеческую форму; тут мы увидели, что это труп, стоящий на коленях с отрубленною головою, которая была у него между ног; наконец, мы рассмотрели, что это голова старика, которого мы встретили, когда его вели на казнь; подле трупа сидела женщина, опершись головою на обе руки; можно было подумать, что это статуя Печали. По временам она изменяла это положение, брала палку, которая лежала возле нее, и отгоняла ею собак, приходивших лизать кровь. Эта женщина была жена несчастного страдальца, та, которая накануне убежала из посольского дома. Янычар, видно, нарочно повел нас по другой дороге, чтобы показать нам разительный, наглядный пример кротости и правосудия турок. Мы попали в Константинополь в самое лучшее время и дебютировали там, как герои «Тысяча одной ночи». Эта отрубленная голова, дочь, проданная в неволю, вдова, сидящая у трупа казненного мужа, — все это казалось мне сном, и мечта моя поддерживалась видом дивных костюмов, которыми мы были окружены. В Константинополе вы не заметите ни нищих, ни лохмотьев; все одежды сшиты, как будто для народа князей; платье каждого турецкого мужика так же парадно, как мундир нашего гусара; у жены всякого мелкого торгаша есть горностаевый полушубок, и простая женщина, сидя дома, надевает на себя более драгоценных вещей, чем супруга члена нижней палаты, когда собирается в гости к супруге лорда. В каждом семействе есть наследственная одежда, которая передается от отца к сыну, как в Германии бриллианты, и надевается только в торжественные дни. После праздника ее складывают и прячут до следующего важного случая. Это точно такой же костюм, какой носили во время Магомета II или даже Охрана, потому что в Константинополе мода не двигается с места. Впрочем, сохраняя основные черты, главный фасон, она до бесконечности разнообразится в подробностях. Опытный глаз с первого взгляда распознает турецкого денди, для которого наряд — главное дело жизни. Оклад бороды, складки чалмы, загиб носка желтых туфель, арабески пистолетов и украшения ханджара — для молодого турка такие же важные вещи, как принадлежности туалета для европейского франта. Чалма всего более подвержена прихотям моды: турок трудится над нею столько же, как парижанин над галстуком. Есть чалмы кандиотские, египетские, стамбульские; сирийца вы узнаете по чалме полосатой, алепского эмира по зеленой, мамелюка по белой. Впрочем, в Константинополе, как и во всякой другой столице, вы увидите человеческую мозаику, в которой западные франки, со своей кургузой и бедной одеждою, составляют самые малоценные каменья.
Не знаю, какое действие произвело это странное зрелище на моих товарищей, а у меня была какая-то лихорадка, когда я воротился на корабль. Даже Байрон, несмотря на то, что он всегда старался казаться холодным, был, по-видимому, поражен, и я уверен, что если бы он уже и тогда не прикрывался великим человеком, то так же, как и я, предался бы своим впечатлениям. Правда, что благородный лорд уже с год, как выехал из Англии, прожил с полгода в Греции и, следственно, был приготовлен к этому зрелищу. Со мной дело было совсем другое: я только два месяца назад выехал из Англии и, так сказать, прямо перескочил из обыкновенной жизни в этот странный мир; я так и ждал, что со мной случится какое-нибудь непредвиденное, необыкновенное приключение.
Впрочем, в этот день ничего особенного не случилось, кроме того, что к нам на корабль приехало несколько праздных турок, которые образуют в Константинополе почтенный класс общества, известный в Европе под общим названием зевак. Они таскали по палубе свои длинные трубки; между тем с нами было много пороху, потому что, отправляясь из Лондона, мы не знали, в каком расположении найдем Блистательную Порту. Большого труда стоило нам растолковать тупоумным османлы, что на корабле курить запрещено. Наконец они поняли, чего мы от них требуем; но, по-видимому, очень удивились, узнав, что мы принимаем предосторожности против несчастия, потому что если Аллах определил быть несчастию, так уж тут никакие в свете предосторожности не помогут. Требование наше показалось им очень неучтивым, и они с сердитым видом уселись на наши каронады, сложив под себя ноги. Это тоже было противно флотским правилам, и потому канонир тотчас согнал их. Такое нарушение гостеприимства до того их рассердило, что они не хотели более оставаться на корабле и сошли преважно в лодку, в которой приехали. Турок, который сзади всех спускался по трапу, оборотился и с видом глубочайшего презрения плюнул на палубу. Но это неуважение к корабельному порядку чуть было не обошлось ему довольно дорого. Боб, который стоял подле этого неучтивца, схватил было уже его за руку и хотел вытереть палубу его бородою; но, к счастию, я подоспел к нему на помощь. С трудом уговорил я Боба распустить тиски, в которых сжал он левую руку несчастного турка; правда, что в то же время я принужден был схватить мусульманина за правую руку, потому что он очень простодушно протянул ее уже к ханджару. Боб, заметив это движение, отыскал глазами ганшпуг и схватил его. Я воспользовался этою минутою и заставил турка спуститься по трапу; гребцы разом двинули лодку вперед, и доблестные витязи были разлучены.
Из всех наших посетителей на корабле остался один только жид Моисей, который приехал к нам по торговым делам. Этот иудей был настоящий первообраз мелкого торгаша. Карманы его были набиты образчиками. В ящике находились вещи всех возможных родов. Этот человек торговал всем на свете, от шалей до трубок; а с первых слов его я догадался, что у него есть еще и другое ремесло. Он дал мне адрес своего магазина в Галате, уверяя, что я найду там лучший табак во всем Константинополе, не исключая даже и того, который привозится для Сераля прямо из Латакие и с Синайской горы. Я взял адрес на всякий случай и сказал Моисею, что скоро у него буду. Жид говорил по-английски так, что его можно» было кое-как понимать, а это настоящая находка для искателя приключений, каков лорд Байрон, и для человека, который, подобно мне, грезит наяву. Мы спросили еврея, не сыщет ли он нам смышленого проводника, потому что лорд Байрон намеревался на следующий день объехать константинопольские стены и просил капитана отпустить меня с собою, на что тот охотно согласился. Еврей вызвался сам провожать нас: он уже лет двадцать жил в Константинополе и знал город лучше большей части турок, которые там родились. Притом у него не было никаких ни общественных, ни религиозных предрассудков, и он обещал рассказать нам все, что знает о людях, с которыми мы повстречаемся, и местах, по которым будем проезжать. Мы приняли предложение услужливого иудея с тем, чтобы после первой поездки взять другого чичероне, если будем недовольны этим.
Мы начали свое странствование на рассвете, и как часть константинопольских стен выходит прямо из воды, то взяли мы лодку, подъехали к Семибашенному замку и там уже вышли на берег. Еврей стоял уже с лошадьми, которых он взял внаймы, но мог и продать, если они нам понравятся. Порода их была прекрасна. Арабские лошади ходят не иначе как шагом или в галоп; рысь и иноходь, поступи ненатуральные на Востоке совершенно неизвестны. Мы поехали шагом, потому что хотели все внимательно рассмотреть.
С сухопутной стороны Константинополь представляет зрелище, если можно, еще восхитительнее, чем от Босфора фракийского или от Золотого Рога. Вообразите пространство в четыре мили, окруженное тройными огромными зубцами, которые поросли травою и над которыми возвышается двести восемнадцать башен; а по другой стороне дороги турецкие кладбища, отененные кипарисами, на которых тысячами сидят горлицы, соловьи и малиновки. Все это смотрится в синее море и тонет в небе, на котором разборчивые древние боги устроили Олимп свой.
У древнего Константиновского дворца, развалин, которые более походят на казарму, чем на дворец, мы переехали Золотой Рог и снова очутились в Азии. Еврей повел нас к холму Бургулу, который лежит в миле от стены, и откуда видны Мраморное море, гора Олимп, азиатские долины, Константинополь и Босфор, который извивается между садами, наполненными самой роскошной зеленью, между красивых киосков и дворцов, расписанных всеми возможными цветами. На этом самом месте Магомет II, восхищенный зрелищем, которое представилось его глазам, водрузил свое знамя и поклялся пророком, что возьмет Константинополь или умрет под его стенами.
Какой-то армянин воспользовался историческим преданием и построил кофейный дом на том самом месте, где последний Палеолог лишился и престола, и жизни. Истомленные усталостью и зноем, мы сошли с коней под чинаром, осеняющим дверь, и, войдя в кофейный дом, принуждены были тотчас отложить свое европейское самолюбие и признаться, что одни только турки умеют вполне наслаждаться жизнью. Вместо того, чтобы толкаться в какой-нибудь публичной зале или забиться в тесную и душную комнату, люди идут здесь через прекрасный сад на берег ручья. Мы сладострастно разлеглись на зеленом ковре, который оставлял далеко за собою искусственные лужайки наших парков; хозяин принес нам трубок, шербету, кофе и ушел, чтобы мы могли свободно позавтракать по-восточному. Лорду Байрону все эти наслаждения надоели уже в Греции; но я испытывал их в первый раз и потому был в восхищении.
Выкурив по нескольку трубок самого лучшего табаку, какой только был у нашего жида, в кальянах с розовою водой, мы снова сели на коней, чтобы продолжать свое путешествие, и через четверть часа приехали к небольшой греческой церкви, весьма уважаемой в той стране. Как скоро мы вошли в ограду, монах, исполнявший должность чичероне, вместо того, чтобы показать нам внутренность церкви, повел нас к пруду, окруженному вызолоченною загородкою. Там он начал кидать в воду хлебные катышки, и бесчисленное множество рыбок, которые показались мне линями, всплыли на поверхность пруда и стали ловить крошки, а монах между тем почтительно кланялся; это меня удивило: я всегда полагал, что в подобном случае благодарить должны рыбы, а не тот, кто их кормит. Но на этот раз я ошибался: это были заповедные рыбы, и монахи очень бедно отплачивали им хлебными крошками за обильную милостыню, которую они доставляют монастырю. Случай, которому эти рыбки обязаны таким уважением, был во время взятия Константинополя, и я передам его читателям во всей чистоте предания.
Взяв Константинополь и намереваясь сделать его своею резиденциею, Магомет II, чтобы согласить признательность к своим воинам с уважением к будущей столице, разрешил грабеж, но запретил делать пожар. На это назначено было только три дня, и потому солдаты усердно пользовались позволением и проникали в самые сокровенные убежища. Стена, ограждавшая греческий монастырь, считалась неприступною; полагаясь на это, настоятель ничего не боялся и спокойно жарил себе рыбу к обеду. Вдруг вбегает монах и кричит, что турки пробили в стене пролом и проникли в монастырь. Эта весть показалась настоятелю столь невероятною, что он пожал плечами и сказал: «Я скорей поверю, что эти рыбы соскочат со сковороды и начнут прыгать по полу». Только что он выговорил это, как рыбы разом на пол, и ну скакать и прыгать. Испуганный этим зрелищем, настоятель выпустил их на волю, но лишь только он вышел в сад, один турок, думая, что он хочет убежать и унести какие-нибудь сокровища, ударил его кинжалом в грудь. Несмотря на смертельную рану, настоятель продолжал бежать и упал уже на берегу пруда. Рыбы поскакали в воду и зажили по-прежнему.
Потомки этих-то почтенных рыб привлекают к пруду путешественников всех стран, любопытных иностранцев, и никто не уходил без того, чтобы не оставить в монастыре более или менее значительной милостыни, смотря по своему званию и богатству. Мы тоже дали кое-что доброму монаху, который показал нам рыб.
Из монастыря, стоящего на половине дороги в Перу, мы отправились на турецкое кладбище, на которое уже издали любовались. Подобно древним римлянам, турки простирают любовь к неге и за пределы жизни. Одно из величайших наслаждений в этом знойном климате есть, без сомнений, тень и свежесть. Мусульмане всю жизнь ищут этих благ, столь редких на Востоке, и потому заботятся о том, чтобы наверное наслаждаться ими и после смерти. Поэтому турецкие кладбища — не только прекрасное место успокоения для усопших, но и прелестное гульбище для живых. Памятники обыкновенно состоят из колонны, покрытой розовою или голубою краскою, увенчанной чалмою и исписанной золотыми литерами. Они нисколько не напоминают о смерти и скорее походят на прихотливые украшения сада. Кладбища служат местом для любовных свиданий, и тут турецкие ловеласы, развалившись на дерне, ждут, чтобы греческий невольник или жидовка явились к ним с поручением от какой-нибудь красавицы. Впрочем, как скоро начинает смеркаться, эти прелестные гульбища пустеют, делаются достоянием воров, театром мщения, и там нередко по утрам находят трупы.
Было уже поздно; мы объехали все стены, то есть проехали миль восемнадцать. Поэтому мы велели своему проводнику показать нам, что еще остается смотреть любопытного. Но для этого нам надобно было воротиться в посольский дом и взять янычара: иначе мы могли бы подвергнуться оскорблениям и даже нападениям в стенах священного для мусульман города; они очень жалеют и о том, что предместия и окрестности предоставлены гяурам. Мы отправились к г. Эдеру. Он задержал нас на несколько минут и, по турецкому обычаю, велел подать нам трубок, шербету и кофе; потом мы снова пустились в путь и еще раз переехали через Золотой Рог из Галаты в Валиде: это была та самая дорога, по которой мы в первый раз шли к послу. Мы узнали улицу, где встретили несчастного Дукаса, когда его вели на казнь. Я невольно взглянул на окно, из которого тогда слышался женский крик, и мне показалось, будто за частою решеткой блестят два светлых глаза. Я отстал немножко от своих спутников; тоненький пальчик просунулся сквозь решетку и бросил какую-то вещицу на улицу. Проехав пять или шесть шагов, я отдал свою лошадь подержать носильщику, который тут стоял, а сам сошел, как будто что потерял. Это был перстень с богатым изумрудом. В твердой уверенности, что он не уронен, а брошен, я поднял его и надел на палец, надеясь, что это талисман, который поведет меня к какому-нибудь любовному приключению. Надобно сказать, что для новичка я исполнил маневр свой очень удачно: никто не догадался, зачем я сходил с лошади, за исключением только нашего жида; тот раза два взглядывал на мою руку, но напрасно: перстень был уже у меня под перчаткою.
Признаюсь, что с той минуты я погрузился в самые безрассудные мечты, и одно уже мое тело посещало достопримечательности турецкой столицы. Мы осматривали еще наружность Софийской церкви, обращенной в мечеть, в которую пускают одних правоверных; ипподром, обелиск, цистерну, трёх тщедушных чахоточных львов, которых содержат в сарае, да нескольких черных медведей и дрянного слона. Одни только серальские ворота, убранные отрубленными головами и отрезанными ушами, привлекли на минуту мое внимание, и я возвратился на корабль, мечтая о приключениях, каких нет и в «Тысяче и одной ночи». Я тотчас побежал в свою каюту, запер дверь и принялся рассматривать свой перстень, думая, нет ли в нем какой надписи, которая показала бы мне, кому он принадлежит; но надежда моя не исполнилась: то было простое золотое кольцо с большим и прекрасным изумрудом, и разыскания мои нисколько не вывели меня из недоумения, а только воспламенили еще более мечты мои.
Я вышел на палубу, чтобы полюбоваться на последние лучи солнца, которое уже садилось за азиатскими горами и каждый вечер представляло нам самое великолепное зрелище. Весь экипаж вымылся и принарядился: матросы не забывали, подобно мне, что тогда было воскресенье, и вели себя чинно, как обыкновенно английский народ в этот день. Одни спали на люках, другие читали, лежа на канатах, третьи с важностью прохаживались по палубе, как вдруг на берегу, около большого здания, раздались страшные крики, и все головы обратились в ту сторону. Какой-то турок, преследуемый яростною толпою, выбежал из ворот, бросился к берегу, вскочил в лодку, отвязал и отчалил ее с проворством и силою отчаяния. Сначала беглец, по-видимому, не знал, куда ему обратиться; но толпа тоже бросилась в лодки, стоявшие у берега, и погналась за ним; он обратил обитый железом нос своей лодки к «Трезубцу» и, несмотря, что вахтенный в него прицелился, он схватился за трап, взбежал на палубу, бросился к шпилю и потом, став на колени, раздирая чалму свою и крестясь, произносил какие-то слова, которых никто из нас не понимал. В это время еврей, получив от лорда Байрона плату за труды свои, вышел с ним на палубу. Моисей объяснил нам, что этот человек, верно, сделал какое-нибудь преступление и, чтобы приобрести наше покровительство, говорит, что хочет сделаться христианином. В ту самую минуту с моря раздались ужасные крики и несколько голосов требовали, чтобы убийцу выдали. «Трезубец» был осажден пятьюдесятью или шестьюдесятью лодками, в которых было по крайней мере триста человек.
Не видавши этого зрелища, невозможно вообразить его. Подобно восточным коням, которые ходят только шагом или в галоп, турки не знают середины между совершенною безмятежностью и ужаснейшею запальчивостью. В последнем случае они настоящие демоны: жесты их быстры, безумны и убийственны, как и гнев, который их волнует. Вино запретил им Магомет, зато они пьянеют при виде крови, и, как скоро ее попробовали, они уже не люди, а дикие звери, на которых не действуют ни рассуждения, ни угрозы. Я не понимаю, каким образом наш толмач мог разобрать что-нибудь посреди этого потока речей, смешанных звуков, яростных восклицаний, которые поднимались к нам, как бурный вихрь. В этой сцене было что-то фантастическое, и дело принимало такой важный оборот, что все матросы без приказа вооружились, как будто готовясь защищать корабль от абордажа. Между тем нападающие, казалось, поостыли, когда это заметили, и Борк, который вышел на палубу, воспользовался этою минутою и приказал нашему жиду спросить, чего они хотят. Моисей показал знаками, что он желает говорить, но тут крики начались снова, сабли и кинжалы заблистали, и поднялся шум еще сильнее прежнего.
— Возьмите его, бросьте в море, и дело с концом, — сказал Борк, указывая на беглеца, который, обнажив бритую свою голову, сверкая глазами, исполненными страха и гнева, уцепился за бизань-мачту и как будто прирос к ней.
— Кто смеет распоряжаться на моем корабле, когда я здесь? — сказал твердый голос, который, как обыкновенно в бурю или сражение, заглушил все прочие голоса.
Все обернулись. Капитан стоял на юте, господствуя над всей этой сценой. Никто не видал, как он туда взошел. Борк замолчал и побледнел. Турки, видно, тоже догадались по высокому росту, седым волосам и шитому мундиру капитана, что это начальник христиан: все они обратились к нему и кричали в один голос.