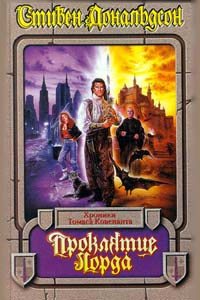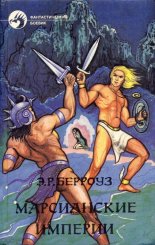Ветер с Итиля Калганов Андрей
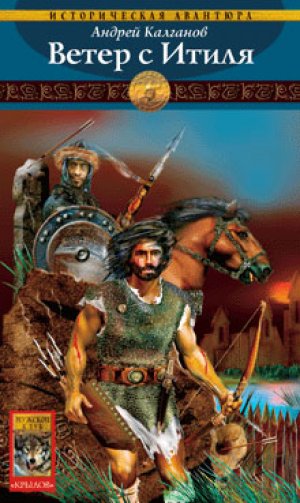
Читать бесплатно другие книги:
У подруг Анны и Веры всё было отлично – любящие мужья, обеспеченное существование. Казалось, женском...
Ничем не примечательный американец Томас Ковенант заболевает проказой и становится изгоем. Привычный...
Некогда он был великим мастером магии в мире хаоса. Был… пока не переступил черту. Пока не дерзнул о...
На планете Габриэль, далекой колонии Земли, убит Бертран Бартоломью Сайкс, единственное достоинство ...
Пружина событий закручивается все туже: загадочная эпидемия, виртуальная война групарей и, наконец, ...