История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе Армстронг Карен
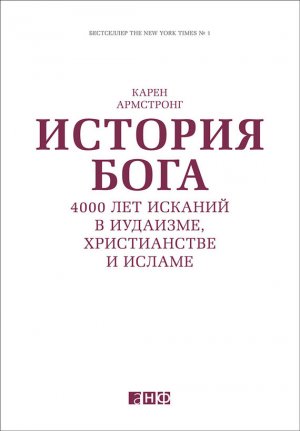
В обстановке крайней неуверенности в завтрашнем дне идеология «Второзакония» оказывала огромное влияние на людей. Далекие от верности Завету два предыдущих правителя Израиля умышленно накликали на страну бедствия, и царь Иосия немедленно и со всем пылом взялся за преобразования. Из Храма были тут же вынесены и сожжены все изображения, идолы и символы плодородия. Кроме того, Иосия вышвырнул из святилища большую статую Асират и разрушил комнаты храмовых проституток, где ткали одеяния для богини. По всей стране шло уничтожение древних святынь, которые до сих пор оставались средоточиями язычества. Отныне в очищенном Иерусалимском храме священникам разрешалось приносить жертвы только Яхве. Летописец, рассказавший три века спустя о реформах Иосии, описывает этот прилив неистового благочестия весьма красноречиво:
И разрубили пред лицем его [Иосии] жертвенники Вааловы и статуи, возвышавшиеся над ними; и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы.
И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим.
И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Неффалимова, и в опустошенных окрестностях их.
Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской…[75]
Налицо полная противоположность той безмятежности, с какой относился к божествам переросший их Будда. Беспощадное разрушение диктовалось ненавистью, а та, в свою очередь, коренилась в подавленном беспокойстве и страхе.
Реформаторы наново переписали все прошлое Израиля. Исторические книги – Иисуса Навина, Судей и Царств – изменили так, чтобы они согласовывались с новой идеологией. Позднее редакторы Пятикнижия дополнили тексты фрагментами, сообщившими мифу об Исходе из давних повествований J и Е новое содержание в духе «Второзакония»: теперь сам Яхве вдохновлял израильтян на святую войну против Ханаана и истребление его жителей. Говорилось, в частности, что коренные ханааняне не должны жить в своей стране[76], – и Иисус Навин исполнил этот божественный приказ с далеким от святости рвением:
В то же время пришел Иисус, и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию.
Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых; остались только в Газе, в Гефе и в Азоте[77].
По правде говоря, нам почти ничего не известно о завоевании Ханаана Иисусом и Судьями. Несомненно одно: были пролиты реки крови. Теперь, однако, у этой дикой бойни появилось религиозное обоснование. Опасность идеи богоизбранности, не сдерживаемой возвышенными мотивами какого-нибудь Исайи, наглядно проявилась в священных войнах, которыми пестрит вся история единобожия. Бога можно сделать символом борьбы с человеческой предвзятостью, он может побуждать людей к размышлениям об их собственных недостатках. Не менее просто, однако, воспользоваться идеей бога, чтобы оправдать свою эгоистическую ненависть – и тем самым довести зверства до крайности. Получается, таким образом, что Бог нередко ведет себя в точности как мы, обычные люди. И такой бог, судя по всему, всегда привлекательнее и популярнее Бога Амоса или Исайи, требующего безжалостной самокритичности.
Евреев часто попрекают их верой в свою богоизбранность; но осуждающие нередко руководствуются той же непримиримостью, какую внушали в библейские времена обличительные выступления против идолопоклонства. Все три монотеистические религии в разные периоды своей истории создавали сходные богословия собственного превосходства, приводившие подчас к последствиям куда более разрушительным, чем кошмары из «Книги Иисуса Навина». Особой склонностью к напыщенной вере в свою исключительность отличались христиане Запада. В XI–XII вв. крестоносцы оправдывали священные войны против иудеев и мусульман, именуя себя новым «народом избранным», занявшим прежнее место евреев. Кальвинистские теологии избранности стали в свое время важнейшим фактором, пробудившим у американцев веру в то, что их нация у Господа на особом счету. Как и во времена царя иудейского Иосии, подобные убеждения возникают чаще всего в обстановке политической нестабильности, когда людей преследует навязчивый страх за свою жизнь. Вероятно, именно поэтому идея исключительности получила сейчас новый толчок и привела к появлению среди иудеев, христиан и мусульман многочисленных форм фундаментализма. Богом-личностью, подобным Яхве, легко манипулировать, когда необходимо как-то укрепить осажденный, загнанный в угол эгоизм, – чего нельзя сказать о безличном божестве вроде Брахмана.
Нужно отметить, что вплоть до 587 г. до н. э. – когда Навуходоносор разрушил Иерусалим и переселил евреев в Вавилон – «Второзаконие» признавали далеко не все израильтяне. Еще в 604 году, после восшествия Навуходоносора на престол, пророк Иеремия возродил иконоборческие идеи Исайи и перевернул триумфальную доктрину «избранного народа» с ног на голову: оказывается, теперь Бог выбрал в качестве орудия наказания израильтян Вавилон[78]. Пришло время «отлучить от веры» израильтян, и теперь их ждет семидесятилетнее изгнание. Услышав это пророчество, царь Иоаким выхватил свиток из рук писца, порвал в клочья и швырнул в огонь, а Иеремия в страхе за свою жизнь пустился в бега.
Судьба Иеремии показывает, сколько сил и страданий понадобилось для того, чтобы выковать образ нового, более требовательного Бога. Роль пророка тяготила Иеремию; особенно мучительной была обязанность попрекать свой народ, к которому он питал искреннюю любовь[79]. По характеру Иеремия был вовсе не смутьяном, но, напротив, человеком мягкосердечным. Когда Яхве призвал его, будущий пророк со слезами взмолился: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод», но Бог «простер руку Свою» и, коснувшись уст Иеремии, вложил в них Свои слова. Божье повеление оказалось неоднозначным и противоречивым: «искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать»[80]; это обрекало Иеремию на мучительные метания между несовместимыми крайностями. Болью отдает и сама встреча пророка с Богом: «сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я – как пьяный»[81]. Столкновение с «тайной ужасной и захватывающей» вызывало одновременно одержимость и соблазн:
Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог […]
И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и – не мог[82].
Бог раздирал Иеремию надвое: с одной стороны, пророк питал непреодолимое стремление к Яхве и переживал все сладостные муки соблазна; с другой – время от времени чувствовал, как неподвластная ему разрушительная сила увлекает его за собой.
Одиночество суждено было пророкам со времен Амоса. В отличие от других регионов ойкумены, Ближний Восток еще не выработал всеобщей и единой религиозной идеологии[83]. Бог пророков вынуждал израильтян избавляться от присущего жителям Ближнего Востока мифического сознания и идти в совершенно ином направлении. Плач Иеремии – прекрасная иллюстрация того, какие душевные муки это причиняло. Израиль был крошечным оплотом иеговизма посреди огромного языческого мира; к тому же Яхве противилось немало самих израильтян. Общение с Яхве было тяжелым испытанием даже для автора «Второзакония», создавшего наименее пугающий образ Господа; от лица Моисея D объясняет израильтянам, устрашенным перспективой встречи с Яхве, что Господь будет смягчать тяжесть богоявлений, посылая каждому поколению своих пророков.
В культе Яхве по-прежнему не было ничего хотя бы отчасти напоминающего идею Атмана, божественного начала в душе каждого человека. Яхве оставался потусторонней, недостижимо высшей сущностью, и, для того чтобы Он выглядел не таким чужеродным, приходилось придавать Ему человеческие черты. Политическое положение между тем осложнялось: вавилоняне вторглись в Иудею и увели оттуда царя и первую группу израильтян, а вскоре взяли в осаду Иерусалим. По мере ухудшения ситуации Иеремия неукоснительно следовал традиции приписывания Яхве человеческих чувств: Господь оплакивает собственную бесприютность, Свои бедствия и безысходность. Яхве, похоже, потрясен, оскорблен и растерян не меньше, чем Его народ. Как и евреи, Он не знает, что делать, чувствует Себя беспомощным и слабым. Гнев, вскипающий в душе Иеремии, пророк считает не собственным возмущением, а яростью Божьей[84]. Думая о людях, пророки тут же вспоминали о Боге, чье участие в делах мира было неразрывно связано с Его народом. Деятельность Бога на земле опирается непосредственно на человека – эта мысль станет основополагающей в иудейских представлениях о Божестве. Появлялись даже намеки на то, что люди могут различить Божий Промысел в собственных чувствах и переживаниях, то есть Яхве сопричастен человеческому.
Пока у ворот стоял враг, Иеремия яростно обрушивался на соплеменников от имени Бога (хотя перед Богом он же их защищал). В 587 г. до н. э., когда вавилоняне взяли Иерусалим, пророчества от лица Яхве становятся мягче и утешительнее: теперь, когда Его народ усвоил горький урок, Он обещает спасти израильтян и вернуть им утраченный дом. Вавилонские власти разрешают Иеремии остаться на родине, в Иудее, где он, чтобы подтвердить свою убежденность в светлом будущем, даже приобретает кое-какую недвижимость: «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей»[85]. Неудивительно, что многие возлагали всю вину за случившееся на Самого Яхве. Скитаясь по Египту, Иеремия встретился с евреями, спешившими к Дельте; времени говорить о Боге у них не было. Женщины заявили, что все было бы хорошо, если б, как прежде, отправляли обряды в честь Иштар, Царицы Небесной; но делать это перестали – из-за таких, между прочим, как Иеремия, – и на страну тут же обрушились беды, невзгоды и нужда[86]. Как бы то ни было, горе принесло Иеремии новые прозрения. После падения Иерусалима и разрушения Храма он начал сознавать, что внешние атрибуты религии суть символы внутреннего, душевного состояния. Будущий Завет с Израилем примет иной вид: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его»[87].
В 722 г. до н. э. десяти северным коленам волей-неволей пришлось смешаться с местным населением, но с израильтянами-изгнанниками дело обстояло иначе. Жили они двумя сообществами: одно – в самом Вавилоне, а второе – на берегах Ховара, притока Евфрата, неподалеку от Ура и Ниппура, в районе, получившем название Тель-Авив («весенний холм»). Среди первых переселенцев, изгнанных в 597 году, был священник по имени Иезекииль. Почти пять лет он просидел затворником в своем доме и ни с кем не разговаривал, а затем пережил ослепительное видение Яхве, от которого буквально рухнул без чувств. Первое озарение пророка следует описать подробнее, так как столетия спустя оно станет очень важным для иудейского мистицизма (о нем речь пойдет в седьмой главе). Иезекииль узрел сияющее облако, в котором блистали молнии. Сильный ветер подул с севера, и посреди этой бури он как бы увидел (отметим предусмотрительное указание на условность видения!) большую колесницу, влекомую четверкой могучих зверей. Животные напоминают карибу, высеченных на воротах вавилонского дворца, но Иезекииль прилагает старания, чтобы их нельзя было узнать. У каждого животного по четыре головы с ликами человека, льва, тельца и орла. Колеса же устройства вращаются каждое в своем направлении. Этот образный ряд призван обострить ощущение сверхъестественности видений, которые пророк тщится передать словами. Крылья животных хлопают оглушительно, «как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего [Шаддай], сильный шум, как бы шум в воинском стане». На колеснице было «подобие» престола, а на нем – «как бы подобие человека»: он сверкал медью, и от конечностей исходил огонь. Был также «как бы некий огонь, и сияние [кавод, «слава»] было вокруг него»[88]. Иезекииль пал ниц и услышал обращенный к нему голос.
Голос назвал его «сыном человеческим», словно подчеркивая огромное расстояние, отделяющее людей от божественных сфер. Тем не менее появление Яхве, как обычно, продиктовано чисто практическим замыслом: Иезекииль должен донести слово Божье до мятежных детей Израилевых. Нечеловеческий характер божественной вести передает жестокая символика: простертая рука развертывает перед пророком свиток, исписанный словами «плач, и стон, и горе». Иезекиилю велено съесть свиток, чтобы наполнить душу Словом Божьим, навсегда усвоить его, сделать частицей себя. Как водится, тайна эта не только ужасна, но и захватывающа: на вкус свиток сладок, будто мед. В завершение Иезекииль говорит: «И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, с встревоженным духом; и рука Господня была накрепко на мне»[89]. Придя в Тель-Авив, пророк провел «в изумлении» целую неделю.
Насколько чужим и далеким стал теперь для людей мир Божества, можно судить по странным злоключениям Иезекииля. Пророку поневоле пришлось самому олицетворять эту отчужденность: Яхве нередко приказывал ему совершать непонятные поступки, отличавшие Иезекииля от обычных людей. Эти поступки знаменовали кризисную обстановку в Израиле, а на ином, глубинном уровне означали, что израильтяне стали чужаками в мире язычников. Так, например, когда умирает жена Иезекииля, ему запрещается оплакивать ее. Бог велит пророку лежать триста девяносто дней на одном боку и еще сорок – на другом, а потом заставляет беднягу собрать пожитки и бродить вокруг Тель-Авива, будто он бездомный беженец. Приказы Яхве доводят Иезекииля до нервного срыва: он не переставая дрожит и ни минуты не стоит на месте. Однажды ему пришлось даже питаться экскрементами – это был символ голода, пережитого его народом во время осады Иерусалима. Пророк превращается в образ полной непредсказуемости, характерной для культа Яхве: ни в чем нельзя быть уверенным, естественное поведение запрещено.
Язычники, напротив, прославляли определенность в отношениях между богами и естественным миром, но Иезекииль не видит в древней религии ничего утешительного и по привычке именует ее «мерзостью». В одном из своих видений он попадает в Иерусалимский храм, где, к своему ужасу, видит, что даже под угрозой полного истребления народ Иудеи в святыне Яхве продолжает поклоняться языческим богам. В кошмар превращается сам внешний облик Храма: стены изукрашены кишащими змеями и отвратительными тварями, а священники, проводящие «мерзкие» обряды, представлены в совершенно неприглядном свете, вплоть до намеков, будто они занимаются блудом по закуткам: «видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате?»[90] Там сидят женщины, плачущие по Фаммузе (страдающему богу Таммузу); рядом, спиной к святилищу, какие-то мужи поклоняются солнцу. В заключение пророк наблюдает, как причудливая колесница, которой он дивился при первом богоявлении, возносится прочь – а с нею отдаляется и «слава» Божья. Тем не менее Яхве не был совершенно отстраненным Богом. В последние дни перед падением Иерусалима Иезекииль мечет громы и молнии в адрес народа Израилева, тщетно пытаясь привлечь его внимание и призывая вспомнить о Завете, ведь в неминуемой катастрофе Израиль может винить только себя. Каким бы чужим ни казался зачастую Яхве, благодаря Ему многие израильтяне, в том числе Иезекииль, уже начали понимать, что исторические напасти не случайны и в них есть своя логика и справедливость. Пророк отчаянно старается разобраться в жестоких законах того, что ныне называется международной политикой.
На реках Вавилонских многие изгнанники почувствовали – и это было неизбежно, – что не могут исповедовать прежнюю религию вдали от Земли Обетованной. Языческие боги всегда имеют свою территорию, и потому израильтянам казалось, что в чужой стране воздавать хвалу Яхве просто невозможно; приходилось довольствоваться сладостными мечтами о том, как младенцам Вавилонским вышибут мозги, разбив их головы о камень[91]. Однако один новоявленный пророк проповедовал безмятежность. Мы ничего о нем не знаем, и сам этот факт уже весьма примечателен: в прорицаниях и псалмах пророка нет личной окраски, столь характерной для его предшественников. Этого провидца принято называть «Вторым Исайей», так как позднее его тексты были добавлены к пророчествам истинного Исайи. В изгнании часть евреев обратилась к культам древних вавилонских богов, остальным же навязывалось новое религиозное сознание. Храм Яхве лежал в руинах; древние святилища Вефиля и Хеврона были разрушены. В Вавилоне израильтяне уже не могли участвовать в обрядах, занимавших прежде центральное место в их религиозной жизни. Яхве – вот все, что у них осталось. «Второй Исайя» сделал еще один шаг вперед и объявил, что Яхве – Бог единственный. Он в очередной раз переписал историю Израиля, и теперь миф об Исходе наполнился символикой, очень напоминающей предание о победе Мардука над Тиамат, первобытным морем:
И иссушит Господь [Яхве] залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку [Евфрат] в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее.
Тогда для остатка народа Его […] будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской[92].
Первый Исайя превратил историю в предупреждение Божье. В своей «Книге Утешения», написанной после катастрофы, «Второй Исайя» извлек из истории новые надежды на будущее. В прошлом Яхве уже спас Израиль и, стало быть, сделает это снова. Он Сам творит историю, и в Его глазах гойим значат не больше, чем капля воды на дне кувшина. Это и правда единственный Бог, с которым стоит считаться. «Второй Исайя» лелеял мечты о том, как древневавилонские истуканы будут погружены на повозки и укатят в забвение[93]. Их дни кончились, «ибо Я Господь, и нет иного», – неустанно повторяет пророк от лица Яхве[94].
Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет.
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня[95].
«Второй Исайя» не тратит времени на низвержение языческих богов, которых после катастрофы можно было считать победителями. Он невозмутимо утверждает, что именно Яхве, а не Мардук или Ваал совершил те великие мифические подвиги, благодаря которым возник мир. Израильтяне впервые серьезно задумались о роли Яхве в истории сотворения; причиной этого стало, вероятно, новое соприкосновение с космологическими мифами Вавилона. Никто, разумеется, не собирался разрабатывать научную теорию происхождения вселенной. Это была просто попытка найти хоть какое-то утешение в суровом мире настоящего. Раз Яхве сумел в первобытную эпоху одолеть чудовищ хаоса, то спасти изгнанных израильтян будет для Него сущим пустяком. Подметив определенные черты сходства между легендой об Исходе и языческими преданиями о победе над водным хаосом, «Второй Исайя» призывает свой народ глядеть в будущее с надеждой и дожидаться очередного проявления Божьего могущества. С этой целью он обращается, например, к истории победы Ваала над Лотаном (Левиафаном), морским чудищем из ханаанской мифологии; Лотана называли также Раав, Крокодил (таннин) и Бездна (тегом).
Восстань, восстань, облекись крепостию, мышца Господня!
Восстань, как в дни древние и роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила (таннин)?
Не ты ли иссушила море, воды великой бездны (тегом), превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?[96]
В религиозном воображении израильтян Яхве окончательно вытеснил всех соперников. В изгнании соблазнительное прежде язычество утратило свою привлекательность, и тогда родился иудаизм. В тот момент, когда культ Яхве, казалось бы, вот-вот должен был навсегда исчезнуть, этот Бог стал главным источником надежд бедствующего народа на близкий конец испытаний.
Итак, Яхве стал Богом единым и единственным. Обосновать это положение философски даже не старались. Новое богословие, как всегда, одержало верх не силой рациональных доводов, а своей практической действенностью: оно избавляло от отчаяния и внушало надежды. Лишенные родины и средств к существованию евреи уже не видели в непредсказуемости Яхве ничего чужеродного и тревожного. Сейчас нрав этого Бога очень точно соответствовал их собственному положению.
С другой стороны, Бог «Второго Исайи» оставался неприветливым и далеким от людей. Он, как и прежде, пребывал за гранью человеческого рассудка:
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь.
Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших[97].
Бытие Господа – вне досягаемости слов и мыслей. К тому же Яхве отнюдь не всегда поступает так, как хотелось бы людям. В очень смелом отрывке, который в наши дни звучит особенно едко, пророк заглядывает в грядущее, когда землями Яхве станут наряду с Израилем Египет и Ассирия. Бог якобы молвил: «Благословен народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и наследие Мое – Израиль»[98]. Яхве стал символом высшей реальности, превращающей любые потуги поверхностного толкования богоизбранности в нечто малозначащее и неуместное.
В 539 г. до н. э., когда персидский царь Кир покорил Вавилонскую империю, все пророчества, казалось, сбылись. Кир не навязывал новым подданным персидскую веру и, триумфально вступив в Вавилон, даже помолился в Храме Мардука. Более того, он вернул на родину все святыни народов, покоренных ранее Вавилоном. Теперь, когда мир постепенно привыкал к жизни в гигантских многонациональных империях, Киру, по-видимому, уже не требовался испытанный временем метод переселения. Бремя правления облегчается, если подданные живут на родных землях и чтят любимых божеств. Согласно желанию Кира, по всей империи восстанавливали древние храмы; царь неустанно повторял, что эту миссию возложили на него сами боги. Он был настоящим образцом терпимости и широты взглядов, свойственной некоторым формам язычества. В 538 г. до н. э. Кир издал указ, который позволял евреям вернуться в Иудею и восстановить свой храм. Большая их часть предпочла, однако, остаться на новом месте, так что на землю обетованную вернулись лишь немногие. В Библии сказано, что из Вавилона и Тель-Авива ушло 42 360 евреев; они вернулись на родину и навязали новый иудаизм заблудшим соплеменникам, не покидавшим своих земель.
Это оставило свой след в сочинениях некоего «Священника» (Р), написанных после изгнания и добавленных позднее к Пятикнижию. Р по-своему толковал события, которые прежде описывали J и Е; он дополнил Ветхий Завет двумя новыми книгами – «Числами» и «Левитом». Как и следовало ожидать, у Р сложились возвышенные и весьма развитые представления о Яхве. В отличие от J, он не верил, например, что кто-либо способен узреть Бога воочию. Во многом разделяя взгляды Иезекииля, Р не сомневался в существовании большой разницы между тем, как воспринимают Бога люди, и самой действительностью. В его версии событий на горе Синайской Моисей умоляет Яхве открыться, но в ответ слышит: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых»[99]. Моисею велено укрыться от божественного воздействия в расщелине, откуда ему удается краем глаза заметить удаляющегося Яхве. Р впервые выразил идею, которая станет чрезвычайно важной в истории Бога: людям доступны в лучшем случае лишь отблески Божественного, которые Р называет «славой (кавод) Яхве»[100]; это проявление сил Божьих, но их ни в коем случае нельзя принимать за Самого Бога. Когда Моисей спускается с горы, увиденная «слава» отражается на его собственном лице и блистает так ярко, что израильтяне не в силах на него глядеть[101].
«Слава Господня» – символ присутствия Яхве на земле; она подчеркивает разницу между образами Господа, которые придуманы людьми, и Его истинной святостью. Идея «славы» противостояла идолопоклоннической природе израильской веры. Повествуя о давней истории Исхода, Р не в силах представить, будто Яхве лично сопровождал израильтян в скитаниях – подобная мысль кажется ему недопустимым очеловечением, и он заменяет ее рассказом о «славе», наполняющей скинию при встрече Моисея с Господом. Подобным же образом, в Иерусалимском храме пребывает только «слава Яхве»[102].
Самым известным вкладом Р в Пятикнижие стал, разумеется, рассказ о сотворении мира в первой главе «Книги Бытия», во многом вдохновленный образами «Энума элиш». Начинается повествование с вод над первобытной бездною (тегом, искаженное имя Тиамат), из которых Яхве создает небо и землю. В этой истории нет уже, впрочем, битвы между богами и борьбы с Йамму или Лотаном-Раавом. Заслуга сотворения всего сущего принадлежит только Яхве. Нет и последовательных эманаций, так как Яхве творит мир без усилий, простым волеизъявлением. И, разумеется, Р не считает мир божественным, сотканным из того же вещества, что и Господь. В теологии «Священника» поистине решающую роль играет именно идея разделения: Бог вносит в космос порядок, отделяя день от ночи, воды от суши, свет от тьмы. После каждого деяния Яхве благословляет созданное, объявляя, что «это хорошо». В отличие от вавилонского мифа, сотворение человека становится вершиной божественной деятельности, а не забавным капризом, приходящим напоследок на ум. Люди не имеют божественного естества, но созданы по образу Божьему – и, следовательно, обязаны исполнять Его творческие задачи. Как и в «Энума элиш», шесть дней творения завершаются субботним отдыхом. По вавилонским преданиям, в этот день проходило Великое Собрание, где боги «исправили судьбы» и наделили высшими полномочиями Мардука. У Р суббота символически противоположна изначальному хаосу, царившему в день первый. Назидательный тон и многочисленные повторы указывают на то, что новая версия истории сотворения мира предназначалась, как и «Энума элиш», для песнопений во время обрядов, на которых воздавали хвалу трудам Яхве и поклонялись Ему как Творцу и Владыке Израиля[103]. Центральное место в иудаизме Р занял, естественно, обновленный Храм. На Ближнем Востоке святилища обычно сооружались как копия мироустройства. Строительство Храма было, таким образом, imitatio dei и позволяло людям быть соучастниками творческой деятельности самих богов. В эпоху изгнания многие евреи искали отрады в давних историях о Ковчеге Завета – переносном жертвеннике, где Господь «раскинул скинию (шакан) Свою», разделив тем самым бесприютность Своего народа. Описывая сооружение в пустыне священной Скинии Собрания, Р обращается к древней мифологии. Архитектурное устройство скинии не было оригинальным и подчинялось распоряжениям свыше. На Синае Яхве дает Моисею пространные и очень подробные указания: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте»[104]. Долгое повествование о строительстве святыни не следовало, конечно, воспринимать буквально. Никто и не предполагал, будто израильтянам по силам воздвигнуть пышный храм в голой пустыне, собрав для него «золото, и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим…» и многое-многое другое. Неутомимое перечисление весьма напоминает составленную Р историю о сотворении мира. На первом этапе строительства Моисей «увидел всю работу» и «благословил» народ – точь-в-точь как поступал Яхве в шесть дней творения; святилище было закончено в первый день первого месяца года, а зодчий Веселиил черпал воодушевление в том Духе Божьем (руах элохим), который наполнил некогда все сущее. Наконец, оба предания подчеркивают важность субботнего отдыха[105]. Воздвижение Храма было также символом первоначальной гармонии, царившей до тех пор, пока люди не погубили мир злом.
Во «Второзаконии» день отдохновения предписывается как выходной всем, включая рабов, чтобы израильтяне помнили об Исходе[106]. Р придает субботе новый смысл: она становится делом в подражание Господу, знаком памятования о сотворении мира. Отдыхая в субботу, евреи соучаствуют в обряде, который некогда отправлял один лишь Бог. Налицо, таким образом, символическая попытка причаститься божественному бытию. В древнем язычестве любой поступок был подражанием богам, но культ Яхве разделил миры Бога и человека гигантской пропастью. Теперь же, соблюдая Моисееву Тору, евреи могли хоть немного приблизиться к своему Богу. Во «Второзаконии» перечисляется ряд непреложных законов, в их числе Десять Заповедей. Во время изгнания они легли в основу довольно развитого законодательства, состоящего уже из 613 заповедей (мицвот) Пятикнижия. Эти подробнейшие указания обескураживают чужаков и в новозаветной полемике представлены в крайне отрицательном свете. Евреи, впрочем, вовсе не считали эти правила непосильным бременем, каким они кажутся христианам. Для израильтян мицвот были прежде всего формой символического сосуществования с Богом. Знаком особого положения Израиля были даже перечисленные во «Второзаконии» правила питания[107]. Р видел в многочисленных запретах ритуализированное стремление приобщиться к священной отличительности Господа, сгладить мучительный разрыв между людьми и Богом. Человеческое естество станет святым лишь в том случае, если израильтяне будут подражать творческим деяниям Господа, отделяя молоко от мяса, чистое от нечистого, день отдохновения от будней.
Труд «Священника» (Р) был включен в Пятикнижие наряду с повествованиями авторов J, Е и «Второзакония» (D). Это еще раз напоминает, что любая крупная религия складывается из целого ряда независимых прозрений и самостоятельных форм духовности. Одни иудаисты всегда тяготели к Богу «Второзакония», который сделал израильтян избранным народом и жестко противопоставил их язычникам; другие предпочитали мессианские мифы с их надеждой на грядущий в конце времен День Яхве, когда Бог возвысит Израиль и принизит прочие племена. В этих мифологических представлениях Господь чаще всего выглядит очень далеким; неявно подразумевается, что конец изгнания означает завершение эпохи пророчеств. Непосредственного общения с Богом больше нет, за исключением лишь символических видений, приписываемых таким великим личностям далекого прошлого, как Енох или Даниил.
Одним из таких древних героев был Иов, которого в Вавилоне чтили как образец мученического терпения. После изгнания кто-то из иеговистов обратился к этой старинной притче и задался фундаментальными вопросами о сущности Бога и Его ответственности за человеческие страдания. По древней легенде, Бог испытывал веру Иова. За то, что праведник принимал невыносимые муки с неисчерпаемым смирением, Бог вознаградил Иова и вернул ему былое благополучие. В обновленном варианте предания Иов возмущается поступками Бога. В беседе с тремя сочувствующими друзьями он осмеливается подвергать сомнениям божественную волю и вовлекается в горячий спор. Впервые в истории иеговизма религиозное воображение верующих обратилось к довольно абстрактным рассуждениям. Пророки твердили, что Господь покарал израильтян бедствиями за их грехи, но «Книга Иова» свидетельствует, что многих евреев это привычное объяснение уже не устраивало. Иов оспаривает прежние взгляды и разоблачает их логическую несостоятельность, но в его гневную речь внезапно вмешивается Сам Бог. Он открывается Иову в видении и являет многочисленные чудеса сотворенного Им мира. Как смеет ничтожное создание вроде Иова спорить с Высочайшим на свете? Иов покоряется, но современного читателя книги, которому нужно последовательное и философское решение проблемы страданий, такой ответ не удовлетворяет. Автор «Книги Иова» не отрицает, впрочем, нашего права задавать вопросы; он просто намекает, что, когда дело касается непостижимого, одного лишь рассудка недостаточно. Умозаключения должны уступить место прямым откровениям от Бога – таким, как видения пророков.
Не успев пристраститься к философствованию, уже в IV в. до н. э. евреи подпали под влияние древнегреческого рационализма. В 332 году Александр Македонский победил персидского царя Дария III, и греки принялись колонизировать Азию и Африку. Их города-государства появились в Тире, Сидоне, Газе, Филадельфии (Амман), Триполи и даже Сихеме. В Палестине и других землях евреи очутились в кольце эллинистической культуры: одних она обеспокоила, другие же восприняли чужеземный театр, спорт, поэзию и философию с восторгом. Они изучали греческий, ходили в гимназии, брали греческие имена и воевали наемниками в греческой армии. Израильтяне даже перевели свои священные тексты на древнегреческий язык, и в результате появилась известная «Септуагинта». Благодаря этому некоторые эллины познакомились с Богом Израилевым и почитали Яхве (они Его называли Иао) наряду с Зевсом и Дионисом. Греки даже ходили в синагоги и дома собраний, построенные евреями-изгнанниками взамен прежних храмов. Там читали священные писания, молились и слушали проповеди. В древнем религиозном мире синагоги представляли собой нечто совершенно уникальное. Поскольку там не проводили обрядов и не приносили жертв, еврейские молельни больше напоминали философские школы, и, когда в городе появлялся какой-нибудь известный проповедник, многие греки спешили в синагогу с той же охотой, с какой стекались послушать собственных мыслителей. Некоторые даже соблюдали отдельные предписания Торы и присоединялись к еврейским синкретическим сектам. В IV в. до н. э. бывали случаи, когда евреи и греки отождествляли Яхве с античными богами.
Большинство евреев держались, впрочем, особняком, и в эллинистических городах Ближнего Востока между ними и греками постепенно усиливались трения. В древности религия была делом далеко не личным. Боги играли очень важную роль в жизни города; считалось, что если хоть в чем-то пренебречь их культом, они откажут людям в покровительстве. Евреев, которые утверждали, что таких богов нет, объявляли «безбожниками» и врагами общества. К концу II в. до н. э. взаимная вражда обострилась. Селевкидский царь Антиох Епифан попытался было эллинизировать Иерусалим и отправлять в Храме культ Зевса, но в Палестине тут же вспыхнуло восстание. Евреи начали создавать новые тексты, где толковали «премудрость» вовсе не в греческом смысле; под этим словом понималась прежде всего богобоязненность. Тексты о Премудрости стали на Ближнем Востоке традиционным жанром литературы. В них смысл человеческого бытия объясняли не философскими рассуждениями, а описанием наиболее правильного образа жизни. Такие тексты чаще всего были крайне прагматичны. Автор «Притч» (III в. до н. э.) пошел еще дальше и предположил, что Премудрость – это генеральный план, разработанный Господом при создании мира; таким образом, она и есть первое Его творение. Как будет показано в четвертой главе, эта идея приобрела большое значение для ранних христиан. В «Притчах» Премудрость персонифицируется, то есть представлена как самостоятельная личность:
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. […]
Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время.
Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими[108].
Однако Премудрость по естеству не божественна; особо подчеркивается, что она тоже сотворена Богом. Это нечто вроде «славы» Божьей, какой она выглядела в передаче Р. Премудрость олицетворяет Божий Замысел, по которому люди могли бы на миг заглядывать в сущность вещей и дел человеческих. Автор «Притчей» рассказывает, как Премудрость (Хохма) скитается по улицам и призывает людей убояться Яхве. Во II в. до н. э. схожий портрет Премудрости нарисовал правоверный иерусалимский еврей Иисус, сын Сирахов. В его повествовании она предстает на Божьем Собрании и возносит хвалу самой себе: некогда она изошла из уст Всевышнего как Слово, которым Господь творил мир; ныне она присутствует повсюду в мире, но для постоянного пребывания избрала народ Израилев[109].
Как и «слава» Яхве, Премудрость была символом деятельности Господа на земле. Евреи постепенно развивали настолько возвышенную идею Яхве, что представить Его лично вмешивающимся в человеческую жизнь становилось все труднее. Как и Р, иеговисты предпочитали отличать Бога в обычном понимании от истинной божественной реальности. Читая о том, как Премудрость покинула Бога и странствовала по миру в поисках человеков, трудно не вспомнить давних языческих богинь – Иштар, Анат или Исиду, – которые тоже спустились из божественных сфер, чтобы исполнить свою спасительную миссию. Около 50 г. до н. э. В Александрии, где еврейская община была особенно велика, литература о Премудрости приобрела полемическую грань. В «Премудрости Соломона», сочиненной представителем этой общины, иудаистов призывают противиться соблазнам эллинистической культуры и хранить верность собственным традициям, ведь подлинную мудрость дает богобоязненность, а не античная философия. Автор тоже персонифицировал Премудрость, именовал ее на греческий лад – Софией – и доказывал, что она неотделима от иудейского Бога:
Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его[110].
Этот фрагмент тоже станет чрезвычайно важным для христиан, когда дело дойдет до толкования естества Иисуса. Еврейский автор, однако, видит в Софии лишь один из аспектов непостижимого Господа, отчасти доступный человеческому пониманию. Она – Бог в том виде, в каком Он открывается человеку, то есть наше восприятие Божественного, таинственно отличающееся от Его истинной сущности, которую человеку не разгадать никогда.
Автор «Премудрости Соломона» проницательно подметил нараставшие трения между греческой мыслью и еврейской верой. Мы уже говорили о решающем – и, возможно, непримиримом – противоречии между аристотелевским Богом, едва ли замечающим сотворенную им самим вселенную, и Богом библейским, страстно вовлеченным в человеческую жизнь. Греческого Бога можно постичь умом, тогда как библейский Господь дает познать Себя только в откровениях. Яхве отделен от нашего мира непреодолимой пропастью, а греки полагали, что дар разумности делает людей подобными Богу и потому до Него можно при старании дотянуться. Тем не менее даже влюбленные в греческую философию сторонники единобожия неизменно старались превратить идеального Бога в своего собственного. Эти попытки будут одной из главных тем нашего дальнейшего исследования. Первым, кто их предпринял, был, вероятно, выдающийся иудейский мыслитель Филон Александрийский (ок. 30 г. до н. э. – 45 г. н. э.). Филон был платоником и заслужил репутацию видного философа-рационалиста. Он писал на безупречном греческом и, судя по всему, даже не знал еврейского – но оставался правоверным иудеем и строго соблюдал мицвот. Не исключено, что Филон просто не замечал несовместимости своего Бога с греческим. А между тем его Бог был очень непохож на традиционного Яхве. Прежде всего, Филона, по-видимому, смущали исторические книги Библии, и он пытался переиначить позорные события, превратив их в утонченные аллегории (вспомним, что Аристотель вообще ставил историю ниже философии). Бог Филона лишен каких-либо человеческих качеств: говорить, например, что Бог «гневается», совершенно неуместно. О Боге мы знаем только одно: Он есть. С другой стороны, как иудей, Филон все-таки верил, что Господь являл Себя пророкам. Как же совместить одно с другим?
Филон решил эту проблему, отметив важное различие между совершенно непостижимым естеством усия (ousia) Бога и его деяниями на земле, которые философ именовал «силами» (dynameis), или «энергиями» (energeiai). В целом, это походило на решение Р и авторов «Премудростей»: истинного Господа, как Он есть, нам не познать никогда. По Филону, Бог говорит Моисею: «Сущность Моя больше, чем могут вместить естество человеческое и, поистине, даже небеса и вся вселенная»[111]. По причине ограниченности нашего разума Бог пользуется Своими «силами», которые, судя по всему, равнозначны платоновским божественным формам (правда, в этом вопросе Филон не всегда последователен). Это и есть высшие реалии, какие только доступны человеческому пониманию. У Филона они извечно исходят от Бога, подобно тому как у Платона и Аристотеля – от Первоначала. Особенно важны две такие силы: Филон именует их Царской (она раскрывает Бога в упорядоченности мира) и Творческой (через нее Бог являет Себя в благодеяниях, даруемых людям). Ни ту, ни другую не следует путать с божественным естеством (усией), извечно окутанным непроницаемой тайной. Силы Бога позволяют нам улавливать лишь проблески совершенно непостижимой реальности. Время от времени Филон говорит о сущности (усии) Бога в сочетании с Царской и Творческой силами, образующими нечто вроде троицы. В частности, предлагая свое толкование истории о пришествии Яхве и двух ангелов к Аврааму близ дубравы Мамре, Филон утверждает, что это аллегорическое олицетворение Божественной усии (Бог-как-Он-есть) и двух главных сил[112].
J был бы изумлен подобными идеями. Евреи вообще с недоверием относились к представлениям Филона о Боге. Христианам эти взгляды принесли, однако, огромную пользу, а греки, как мы увидим далее, глубоко прониклись мыслью о разнице между непостижимым «естеством» Бога и «энергиями», посредством которых Он нам открывается. Значительное влияние на них оказала и филоновская теория о божественном Логосе. Как и другие авторы книг о Премудрости, Филон полагал, что Бог составил некий генеральный план (логос) творения. Замысел-Логос соответствовал Платоновому миру идеальных форм, и формы эти воплотились затем в материальной вселенной. В этом вопросе Филон тоже не до конца последователен: он то считает Логос одной из сил, то, судя по всему, ставит его над ними и именует высочайшей из идей Бога, доступных человеческому пониманию. Тем не менее, размышляя о Логосе, мы ничуть не приближаемся к познанию Бога, хотя и вырываемся за пределы сбивчивого ума и обретаем интуитивное восприятие, которое «выше мышления и всего драгоценнее, так как прочее – просто мысль»[113]. Такая деятельность во многом сходна с платоновским созерцанием (теорией). Филон настойчиво утверждал, что нам никогда не постичь Бога-как-Он-есть и высшей из доступных человеку истин является лишь восторженное осознание того, что Бог совершенно запределен и умом Его не объять.
Впрочем, все не так безнадежно, как может показаться. Филон поведал нам про бурные чувства и счастье, которые он испытывал при погружении в непостижимое, наделявшее его свободой и творческими силами. Как и Платон, душу он считал изгнанницей, попавшей в ловушку материального мира. Изгнаннице надлежит подняться к Богу, вернуться на родину, оставив любые слова и чувства, так как тело приковывает ее к несовершенному миру. В конце концов освобожденная душа испытывает блаженство, которое уносит ее за унылые горизонты эго к иной, беспредельной действительности. Нам уже ясно, что рассуждения о Боге часто превращались в творческую игру воображения. Пророки, размышляя о своих переживаниях, инстинктивно соотносили их с некой сущностью, которую они именовали «Богом». Филон показал, что религиозное созерцание имеет много общего с другими видами творческой деятельности. По его признанию, временами, когда он с тоской корпел над своими книгами и не мог продвинуться ни на шаг, его вдруг окутывало Божественное:
Я внезапно переполнялся, мысли сыпались, словно снег, и такая Божественная одержимость вселяла в меня какое-то корибантическое безумие, и я не замечал более ничего – ни места, ни людей, ни настоящего, ни самого себя, ни что я говорю или пишу. Ибо мной овладевали впечатления, мысли, радость жизни, пронзительные видения и необычайная ясность зрения вещей, какая дается глазам лишь при чистейшем изображении[114].
Позднее столь тесное единство с греческим миром стало для евреев невозможным. В год смерти Филона в Александрии прошли еврейские погромы; повсюду стремительно распространялась боязнь мятежей со стороны евреев. В I в. до н. э. север Африки и Средний Восток захватила Римская империя. Римляне тоже поддались соблазну эллинской культуры; их давним богам нашлось место в греческом пантеоне, а сами они с восторгом переняли эллинскую философию. Чего они не унаследовали от греков, так это неприязни к евреям. Вообще говоря, последним римляне оказывали куда больше почтения, так как считали евреев достаточно надежными союзниками в тех греческих полисах, где к Риму относились враждебно. В религии евреям тоже предоставили полную свободу: все знали, что вера израильтян очень древняя, и одно это внушало уважение. Отношения между евреями и римлянами были неплохими даже в Палестине, где чужеземную власть всегда недолюбливали. К I веку н. э. иудаизм занял в Римской империи очень прочное положение: евреи составляли десятую часть ее населения, а в Александрии, где жил Филон, евреев было не менее сорока процентов от общего числа жителей. Римский мир искал в те времена новых религиозных решений; в воздухе витали идеи единобожия, а местные боги постепенно переходили в разряд скромных частных проявлений единой и вездесущей божественности. Римлян особенно привлекала высоконравственная сторона иудаизма. Многие из тех, кто по вполне понятным причинам не желал делать обрезание и соблюдать все законы Торы, часто становились почетными членами синагог; таких верующих называли “богобоязненными”. Их становилось все больше; есть даже предположения, что в иудейскую веру обратился один из императоров Флавиев (как позднее Константин принял христианство). В Палестине, однако, группа политических ревнителей яростно сопротивлялась римской власти. В 66 г. н. э. они подняли восстание против Рима и, как ни странно, целых четыре года сдерживали натиск римских войск. Власти опасались, что евреи начнут бунтовать и в других землях, поэтому мятеж был безжалостно подавлен. В 70 г. войска нового императора Веспасиана взяли Иерусалим, Храм сровняли с землей, а город переименовали на римский лад: Элия Капитолина. Евреи в очередной раз вынуждены были стать изгнанниками.
Утрата Храма, идейного символа обновленного иудаизма, стала для верующих страшным горем, но, судя по всему, палестинские евреи, которые всегда были консервативнее эллинизированных соплеменников в диаспорах, успели подготовиться к бедствиям. На Святой Земле одна за другой появились многочисленные секты, и каждая из них так или иначе отрекалась от Иерусалимского Храма. Ессеи и кумранская секта считали, что в Храме все равно царят продажность и разврат, потому-то правоверным и приходится теперь жить небольшими группами вроде монашеской по духу общины, обосновавшейся у Мертвого моря. В секте мечтали построить новую, уже не рукотворную святыню – Храм Духа. Вместо давних обрядов жертвоприношения животных вводились очистительные ритуалы, грехи смывали с себя крещением и совместными трапезами. Бог должен пребывать в товариществе тех, кто Его любит, а не в каменном здании, – так рассуждали общинники.
Самыми прогрессивными среди евреев Палестины были фарисеи; они считали мировоззрение ессеев слишком оторванным от жизни. В Новом Завете фарисеи именуются “гробами повапленными” и громогласными лицемерами, но эти риторические крайности обусловлены полемикой I века. Фарисеи были страстными ревнителями иудейской духовности. Они верили, что всему Израилю суждено стать народом священников, а Бог должен пребывать не только в Храме, но и в самой невзрачной лачуге. В соответствии со своими взглядами, фарисеи вели себя как официальная духовная каста, соблюдали особые правила чистоты, а обряды проводили только в домашних святилищах. Они считали, что принимать пищу следует только в состоянии духовной чистоты, так как обеденный стол каждого еврея подобен жертвеннику Яхве в Храме. Помимо прочего, фарисеи призывали ощущать присутствие Бога в самых незначительных повседневных мелочах. Отныне евреи могли сближаться с Богом без посредничества священников и сложных ритуалов, а грехи искупали любовью и добрыми делами во благо своих ближних. Важнейшей из мицвот Торы стало милосердие. Кроме того, считалось, что, когда несколько евреев читают Тору сообща, рядом с ними незримо пребывает Бог. Начало столетия ознаменовалось появлением в стране двух соперничавших школ: первая, более строгая, опиралась на учение Шаммая Старшего; вторую возглавлял великий раввин Гиллель Старший – она-то и стала кузницей популярнейшей партии фарисеев. Сохранилась легенда о том, как один язычник пришел к Гиллелю и сказал, что обратится в иудаизм, если учитель успеет выразить всю сущность Торы, стоя на одной ноге. Гиллель ответил ему: «Не делай другим того, чего не пожелал бы себе, – вот и вся Тора. А теперь иди и читай ее»[115].
К началу страшного 70 года фарисейство стало самым уважаемым и значительным направлением палестинского иудаизма. Оно уже доказало своему народу, что для поклонения Богу не нужны храмы; к этому сводится смысл известной притчи:
Однажды раввин Иоханан бен Заккай вышел за ворота Иерусалима, а раввин Иошуа пошел вслед за ним и увидел, что Храм лежит в руинах.
«Горе нам! – воскликнул Иошуа. – Погибла святыня, где искупали мы грехи Израилевы!»
«Не печалься, сын мой, – ответил Иоханан. – У нас по-прежнему есть иной, не менее верный путь искупления – любящая доброта; ибо сказал Господь, что милости хочет, а не жертвы»[116].
По преданию, после падения Иерусалима раввин Иоханан бен Зак-кай (ок. 1–80 гг. н. э.) был вывезен из горящего города в гробу. Он был против восстания евреев и считал, что его народу было бы выгоднее избежать конфликта. Римляне позволили ему создать в Иавнее, что к западу от Иерусалима, независимую фарисейскую общину. Такие группы возникали по всей Палестине и Вавилонии, и между ними сохранялась тесная связь. В этих общинах проходили подготовку книжники-таннаи, к числу которых относились многие герои-раввины: сам Иоханан, мистик Акиба бен Иосиф (ок. 50–135 гг.) и раввин Исмаил бен Элиша. Таннаи составили «Мишну» – кодифицированный свод Устного Закона, где заветам Моисея придавался более современный вид. Впоследствии другие ученые – амораи – написали комментарии к «Мишне» и ряд трактатов; совокупность этих трудов получила название «Талмуд». Вообще говоря, есть два Талмуда: Иерусалимский, составленный к концу IV в., и Вавилонский; последний был закончен лишь к началу VI в. и считается сейчас более авторитетным. На этом процесс не остановился: новые поколения ученых мужей добавляли свои комментарии к Талмуду и экзегезам предшественников. Талмудические рассуждения о законе Моисея вовсе не так сухи, как может показаться со стороны. В сущности, это были нескончаемые размышления на тему о Слове Божьем и о новой «святая святых». Каждый комментарий ложился кирпичиком в стены и своды нового Храма, освящающего присутствие Бога среди Его людей.
Яхве всегда был богом потусторонним и повелевал людьми извне, с невообразимо далеких высей. Раввины сделали Его, однако, непосредственно близким человеку и наполнили Богом обыденные мелочи. Вследствие утраты Храма и мучительного опыта очередного изгнания евреи нуждались в Боге, который был бы рядом, вместе с ними. Раввины не строили какого-то официального учения о Боге. Вместо этого они учились переживать Его почти осязаемое присутствие. Такую духовность называют «нормальным мистическим» состоянием[117]. В самых ранних фрагментах Талмуда опыт переживания Бога связан с таинственными физическими явлениями. Раввины говорят о Святом Духе, который объемлет все сущее и само здание святыни и дает ощутить Свое присутствие в дуновениях ветра или жаре пламени; другие слышат Бога в колокольном звоне и громких ударах. Например, раввин Иоханан размышлял однажды над увиденной Иезекиилем колесницей, как вдруг пламя низошло с высоты, ангелы возникли ниоткуда и глас небесный подтвердил, что Господь уготовил раввину особую миссию[118].
Ощущение близости Бога было настолько сильным, что какие-либо официальные, безличные доктрины в подобных случаях были бы совершенно неуместны. Раввины не раз высказывали предположение, что каждый израильтянин из числа стоявших некогда у подножия горы Синайской воспринял Господа по-своему. Бог, можно сказать, приспосабливал Себя «под стать разумению каждого человека»[119]. Как выразился один раввин, «Бог является не удручая, но сообразно со способностью человека Его узнать»[120]. Это исключительно важное прозрение означало, что Бога невозможно описать жесткой формулой, как если бы Он был для всех одинаков; Бог – переживание исключительно субъективное. Каждый человек воспринимает Божественную реальность по-своему – в том виде, который соответствует его потребностям и характеру. Раввины утверждали, что и каждый пророк видел Господа по-своему, соответственно особенностям его представлений о Божественном. Как мы убедимся впоследствии, сходные взгляды сложились и в других формах единобожия. Богословские мнения до сих пор остаются в иудаизме делом частным и никому не навязываются.
Любая официальная доктрина умаляла бы загадочность Господа. Раввины неустанно подчеркивали, что Бог совершенно непостижим. В тайну Божественного не смог проникнуть даже Моисей, а царь Давид признался, что его попытки постичь Господа оказались тщетными: Он слишком велик для человеческого ума[121]. Евреям запрещено было даже произносить Его имя, и это еще раз напоминает, что всякая попытка выразить сущность Бога заведомо обречена. Имя Господне записывали как «YHVH» и при чтении священных текстов не произносили. Восхищаться деяниями Бога в окружающем мире допустимо, но, как сказал раввин Хуна, это может приоткрыть лишь мимолетные проблески реальности: «Человек не в силах постичь смысл грома, урагана, бури, собственного естества и порядка во вселенной. Так не безумная ли Дерзость мнить, будто способен он познать пути Царя Царей?»[122] Значение идеи Бога сводилось не к поиску удобных ответов, а к пробуждению чувства таинственности и чудесности всего сущего. Раввины даже призывали израильтян не слишком часто восхвалять Господа в молитвах, ведь и лестные слова неминуемо искажают истину[123].
Но какими отношениями может быть связана с обычным миром эта запредельная, непостижимая сущность? Раввины отвечали на этот вопрос парадоксом: «Господь – обитель мира, но мир – не Его обитель»[124]. Бог, так сказать, окружает, окутывает вселенную, но не пребывает в ней, как сотворенное Им сущее. Было у раввинов и другое излюбленное сравнение: Господь проницает мир, как душа обитает в теле: в каждом случае первое выше второго. Говорили также, что Бог подобен всаднику: сидя верхом, тот отчасти зависит от животного, но все же разумнее коня и властен над ним. Это, конечно, лишь несовершенные уподобления, и они тоже далеки от истины, так как наше воображение способно только строить догадки о бытии необъятного и невыразимого «чего-то», где мы живем и действуем. Высказываясь о присутствии Господа на земле, раввины столь же тщательно, как и библейские авторы, отличали следы Бога, которые Он позволяет нам замечать, от Его непостижимого сокровенного естества. Предпочитали образы «славы» (кавод), тетраграмматона (YHVH) и Святого Духа, постоянно напоминавшие о том, что Бог в нашем восприятии не равнозначен Его сущности.
Одним из самых популярных синонимов понятия «Бог» стала Шехина (от древнееврейского шакан: «пребывать в [чьей] скинии»). Теперь, когда храмы канули в забвение, символом близости к Божеству стал Господь, сопровождавший израильтян во время скитаний по пустыне. Многие полагали, что Шехина, оставшаяся с народом Божьим на земле, по-прежнему обитает на Храмовой горе, пусть даже сам Храм давно разрушен. Другие раввины возражали: гибель Храма, по их мнению, высвободила Шехину из окрестностей Иерусалима и позволила ей распространиться по всему миру[125]. Подобно «славе» Божьей или Святому Духу, Шехина считалась не самостоятельной божественной сущностью, а присутствием Господа на земле. Окидывая взглядом историю своего народа, раввины пришли к заключению, что Шехина была с евреями всегда:
Приди и узри, сколь любимы израильтяне Господом, ибо куда ни шли, следовала за ними Шехина, ибо сказано: «не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте?»[126]
И в Вавилоне Шехина была с ними, ибо сказано: «ради вас Я послал в Вавилон»[127]. И когда Израиль спасется в грядущем, Шехина по-прежнему пребудет с ними, ибо сказано:
«Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих»[128] – другими словами, Бог возвратится с твоими пленными[129].
Связь Израиля с Богом была такой тесной, что, вспоминая, как Он помогал им в прошлом, израильтяне часто говорили: «Себя Ты спасал, Господи!»[130] Так раввины, на свой иудейский лад, нащупали наконец идею Бога, тождественного человеку, – аналог индуистского Атмана.
Образ Шехины помогал изгнанникам воспитывать в себе ощущение Божьего присутствия повсюду, куда ни заносила их судьба. Одни раввины говорили, что в чужих землях Шехина переносится из синагоги в синагогу, другие утверждали, что она всегда пребывает у входа молельни и освящает собой каждый шаг еврея, идущего в Дом Знаний; кроме того, Шехина стоит в дверях синагоги, когда находящиеся там евреи хором произносят Шема[131]. Подобно первым христианам, раввины призывали израильтян жить сплоченной общиной – как «одно тело и одна душа»[132]. Сама община стала новым Храмом, восславляющим вездесущего Бога; когда иудаисты собирались в синагоге и повторяли Шема в унисон, «ревностно, единогласно, единомышленно и единозвучно», Господь был среди них. Но разлада в общине Он не выносил, а если подобное случалось, немедленно возвращался на небеса, где ангелы извечно поют Ему хвалу «одногласно и всесозвучно»[133]. На высшую связь Бога с Израилем можно было надеяться лишь при условии полного единства израильтян на земле. Раввины неустанно повторяли, что всюду, где несколько евреев дружно изучают Тору, появляется и Шехина[134].
В изгнании евреи с особой остротой ощущали жестокость окружающего мира, но благодаря Шехине могли чувствовать близость милосердного Господа. Иудаисты крепили к рукам и лбам филактерии (тфиллин), носили ритуальную бахрому (цицит) и, как предписывало «Второзаконие», гвоздями приколачивали над дверью домов текст Шема. Никто не должен был даже пытаться осмыслить такие странные обряды, ведь толкования лишь профанировали бы их сокровенный смысл. Вместо этого надлежало исполнять мицвот так, чтобы сам ритуал выливался в чувство всеохватной любви Господа: «Израиль любим! Библия окутывает его множеством мицвот: тфиллин на голове и руке, мезузах на двери, цицит на одеждах»[135]. Эти знаки были сродни дорогим подаркам, какие цари вручают своим супругам, чтобы те выглядели еще прекраснее.
Но все было не так просто. Судя по тому же Талмуду, кое-кто сомневался, что в нашем унылом мире вера в Бога что-то меняет[136]. Духовность раввинов стала нормой иудаизма – и не только для беженцев из Иерусалима, но и для евреев, проживших на чужбине всю жизнь. Сыграли роль вовсе не убедительные теоретические доводы – ведь многие практические предписания Моисеева Закона не имели логического смысла. Религию раввинов приняли потому, что она была действенной, помогала не впадать в отчаяние.
Эта форма духовности считалась, однако, привилегией мужчин. Женщинам не предлагали – иными словами, не разрешали – становиться раввинами, изучать Тору и молиться в синагогах. Вера в Бога, как и большинство других идеологий той эпохи, приобретала патриархальные черты. Религиозные обязанности женщин сводились к поддержанию ритуальной чистоты в доме. У евреев идея освящения сущего давно означала отделение одних его частей от других, и теперь они в привычном духе разъединили женщин и мужчин – как молоко на кухне держат в стороне от мяса. На деле это означало, что женщинам отвели место низших существ. Пусть раввины и твердили, что Господь особо благословил жен, на утренних молитвах мужчинам все равно вменялось благодарить Творца за то, что Он не сделал их язычниками, рабами или женщинами. Брак и семейный очаг, тем не менее, считались священными. Святость брака раввины подчеркивали предписаниями, которые нередко понимаются превратно. Например, запрет половой близости во время менструации объясняется вовсе не тем, что женщина в эти дни якобы грязна и неприятна. Кратковременное воздержание призвано было укрепить мужнюю любовь: «Супруг может чрезмерно привыкнуть к жене и отстраниться от нее, и потому в Торе сказано, что семь дней [в период менструации] она должна быть нидда [недоступна для половых сношений], чтобы [после] муж желал ее, как в день свадьбы»[137]. В праздничные дни перед посещением синагоги мужчине предписывалось ритуальное омовение – но не потому, что он нечист телесно, а для особой чистоты перед священным богослужением. По тем же соображениям женщине вменялось купание после месячных: так она готовила себя к последующему священнодействию встречи с мужем. Подобная идея святости сексуальных отношений стала совершенно чужда христианству, где секс и Бог нередко считались несовместимыми.
Позднее иудеи действительно очень часто толковали свои законы как запреты, но в ту эпоху раввины отнюдь не проповедовали мрачную, аскетичную, жизнеотрицающую духовность. Они, напротив, утверждали, что иудей обязан быть счастливым и радостным. Например, в их описаниях Святой Дух «покидает» или «оставляет» таких известных библейских персонажей, как Иаков, Давид или Эсфирь, когда те больны или погружены в уныние[138]. Утратив присутствие Духа, раввины нередко повторяли начальные строки двадцать первого псалма: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?» (возникает, кстати, интересный вопрос о загадочном смысле предсмертного восклицания Иисуса, промолвившего те же слова). Так или иначе, раввины учили, что Господь вовсе не желает, чтобы люди страдали. К своему телу человек должен относиться с почтением и заботой, так как оно сотворено по образу Божьему. Что касается плотских удовольствий, то избегать их даже грешно, ведь Господь создал их именно для утехи. Раввины не считали, будто мучения и аскетизм приближают к Богу. Призывая свой народ к практическим способам «стяжания» Святого Духа, они в определенном смысле предлагали каждому создать свои, личные представления о Божественном. По их словам, трудно судить, где кончаются дела человеческие и начинается Промысел Божий. Даже пророки неизменно представляли Господа видимым на земле, приписывая Ему собственные прозрения. Тем самым раввины отводили себе решение задачи одновременно человеческой и божественной. Считалось, что новые предписания создаются людьми и Богом сообща. Приумножая Тору, раввины расширяли и укрепляли Его присутствие на земле. Вскоре их самих начали почитать как живое воплощение Торы; они были более прочих «подобны Господу», так как хорошо знали Закон[139].
Ощущение вездесущности Бога привело иудаистов к представлению о святости всего человечества. Раввин Акиба учил, что мицва «Люби ближнего своего, как самого себя» является «величайшим законом Торы»[140]. Оскорбление сородича расценивалось как хула на Бога, который создал людей по Своему подобию; в сущности, дурной поступок по отношению к ближнему означал безбожие, еретическое пренебрежение к Господу. Самым страшным преступлением было, разумеется, убийство – настоящее святотатство, ибо «сказано в Писаниях: кто проливает кровь, тот унижает Божественное»[141]. Помощь ближнему считалась актом imitatio dei, подражанием Его милосердию и состраданию. Более того, все люди равны, потому что каждый создан по образу Божьему. Даже Первосвященник должен быть наказан, если причинит вред соплеменнику, ведь такой поступок равнозначен отрицанию существования Господа[142]. Бог сотворил адам, единое человечество, чтобы показать нам, что всякий, кто погубит живую душу, будет покаран так, словно разрушил целый мир. С другой стороны, спасти от смерти одного человека – все равно что целую вселенную[143]. И это были отнюдь не возвышенные рассуждения, а основы законодательства, которое запрещало жертвовать одним человеком ради многих (например, при погромах). Одним из самых серьезных проступков было унижение ближнего, даже инородца или раба – это приравнивалось к убийству, то есть кощунственному отрицанию Господа[144]. Решающее значение приобрело право на свободу: во всем своде раввинских трудов почти не встретишь упоминаний о тюремном заключении, ведь только Господь вправе лишать человека свободы. Пренебрежением к Богу считалось также распространение о ком-то дурных слухов[145]. Евреи, однако, не склонны были считать Господа своеобразным «Большим Братом», неусыпно надзирающим свыше за каждым нашим шагом. Главной задачей было, напротив, воспитание в человеке внутреннего ощущения Божественности, благодаря которому любое общение с окружающими приобретает оттенок священнодействия.
Животным очень легко жить в ладу со своим естеством, но людям, похоже, всегда было сложно оставаться по-настоящему человечными. Прежде Бог Израилев, казалось, пробуждал в своем народе самую страшную и бесчеловечную жестокость, но за долгие столетия совершенно изменился. Образ Яхве начал внушать людям сопереживание и почтительность к своим собратьям – характерные приметы всех религий «Осевого времени». Идеалы раввинов очень схожи с принципами второй религии Единого Бога, и это не удивительно, ведь корни христианства уходят именно в иудаизм.
3. Свет язычникам
В ту пору, когда Филон развивал в Александрии свой платонизированный иудаизм, а в Иерусалиме изощрялись в нескончаемых спорах Гиллель и Шаммай, на севере Палестины начинался путь нового харизматичного чудотворца. Об Иисусе нам известно очень мало. Первый связный рассказ о его жизни, Евангелие от Марка, был написан не ранее 70 г., спустя целых сорок лет после смерти Христа. К тому времени исторические факты уже переплелись с мифическими сюжетами, которые показывают, какое глубокое значение приобрел Иисус в глазах его последователей. Марк передает именно это значение, а не реалистичный портрет Христа. Ранние христиане видели в нем нового Моисея или Иисуса Навина, основателя Нового Иерусалима. Как и в Будде, в Иисусе воплотились чаяния его современников: он стал живым олицетворением вековечных мечтаний народа Израилева. Еще при жизни Иисуса многие палестинские евреи уверовали в него как в Мессию. У ворот Иерусалима его встречали и славили как Сына Давидова, но уже несколько дней спустя предали мучительной римской казни – распятию. Несмотря на скандальную историю Мессии, который умер как обычный преступник, его ученики не могли смириться с тем, что вера в него была ошибкой. Пошли слухи, что Иисус воскрес из мертвых. Одни поговаривали, что через три дня после казни его гроб оказался пустым, другие клялись, будто он являлся им в видениях, а однажды Христа якобы встретили сразу полтысячи человек. Ученики верили, что он скоро вернется, чтобы утвердить мессианское Царство Божье, – и, поскольку в таких представлениях не было ничего противного иудаизму, секту христиан признавали многие правоверные иудеи, в том числе и такие авторитеты, как раввин Гамлиил, внук Гиллеля и один из самых прославленных таннаим. Последователи Иисуса, как все богобоязненные евреи, ежедневно бывали в Храме. Позже, однако, идея Нового Израиля, внушенная жизнью, смертью и воскресением Иисуса, стала новой языческой верой, которая в конце концов пришла к совершенно новым представлениям о Боге.
Во времена казни Иисуса (ок. 30 г. н. э.) евреи уже были рьяными монотеистами, поэтому никто не предполагал, что Мессией окажется божественная сущность: это должен был быть простой смертный, пусть даже из высших сословий. Кое-кто из раввинов считал, что имя Мессии ведомо Богу предвечно, и в этом смысле можно, конечно, говорить, что Мессия пребывает «в Боге» от сотворения мира. Такую же символику вкладывали «Притчи» и «Екклесиаст» в образ божественной Премудрости. Евреи ожидали, что Мессией, «Помазанником», будет потомок Давида, царя и духовного пастыря, основавшего первое еврейское государство со столицей в Иерусалиме. В «Псалмах» Давида и Мессию время от времени именуют «Сынами Божьими», но это лишь образное выражение, подчеркивающее их особые отношения с Яхве. С тех пор как евреи вернулись из вавилонского плена, никто и помыслить не мог, что у Яхве, будто у какого-то гнусного языческого божка, может появиться отпрыск.
В «Евангелии от Марка» (самом раннем и, как принято считать, наиболее достоверном) Иисус выглядит вполне обычным человеком: семья, братья и сестры – и никаких ангелов, возвещающих его рождество и поющих над колыбелью. Младенчество и отрочество Иисуса вообще не отмечены ничем выдающимся. Более того, когда он начал проповедовать, горожане Назарета удивлялись, что сын местного плотника оказался таким необыкновенным. Марк повествует только о зрелых годах Иисуса. Вполне возможно, что Иисус был вначале учеником некоего Иоанна Крестителя, бродячего аскета – и, вероятно, ессея, поскольку Иоанн считал иерусалимскую власть безнадежно развращенной и выступал против нее с гневными проповедями. Он призывал простой люд покаяться и совершить очистительный обряд крещения в Иордане, как заведено у ессеев. Лука полагает, что Иисус и Иоанн состояли в родстве. Так или иначе, но именно для того, чтобы принять у Иоанна крещение, Иисус прошел долгий путь из Назарета в Иудею. И, как сообщает Марк, «когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение»[146]. Иоанн сразу понял, что перед ним Мессия. Вслед за этим эпизодом Марк тут же переходит к рассказу о том, как Иисус проповедует по городам и весям Галилеи, провозглашая: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие»[147]
Об истинном характере миссии Иисуса спорят давно. Судя по всему, в Евангелиях приводится лишь весьма незначительная часть его собственных высказываний; к тому же многие тексты были впоследствии сильно переработаны в церквах, основанных после смерти Иисуса апостолом Павлом. И все же некоторые места в текстах свидетельствуют о существенно иудаистском характере жизни и учения Иисуса. Известно, что чудотворцы в Галилее были фигурами вполне привычными. Подобно Иисусу, все они нищенствовали, проповедовали, исцеляли недужных и изгоняли бесов. Как и у Христа, у этих святых галилеян обычно бывало много учеников. Кое-кто полагает, что Иисус был фарисеем школы Гиллеля, как и Павел, который утверждал, что перед обращением в христианство был фарисеем – есть даже сведения, что он сидел у ног раввина Гамлиила[148]. Воззрения Иисуса действительно соответствовали основным убеждениям фарисеев, ведь он тоже считал, что милосердие, любовь и доброта являются важнейшими из мицвот. Как и фарисеи, он хранил верность Торе; известно также, что он соблюдал правила набожности строже, чем многие его современники.[149] Кроме того, он фактически проповедовал «золотое правило» Гиллеля, утверждая, что весь Закон можно выразить одной идеей: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки».[150] В том же Евангелии от Матфея Иисус выступает с резкой обличительной речью против «книжников и фарисеев», в которой именует их лицемерами; но столь клеветническое искажение реальных фактов со стороны человека, чья доброжелательность, по всеобщему мнению, была отличительной чертой всей его миссии, выглядит в высшей степени недостоверным. Лука, например, отзывается о фарисеях довольно положительно – и в Евангелии, и в «Деяниях Апостолов». Добавим, что если бы фарисеи действительно были заклятыми врагами Иисуса и обрекли его на казнь, Павел вряд ли решился бы упомянуть о своем фарисейском прошлом. Антисемитский тон «Евангелия от Матфея» отражает, вероятнее всего, напряженность в отношениях иудаистов и христиан, которая возникла намного позднее, уже в 80-е годы. В Евангелиях Иисус часто спорит с фарисеями, но эти диспуты либо вполне дружелюбны, либо отражают несогласие с более суровой школой Шаммая.
После смерти Иисуса его ученики решили, что он – Бог. Случилось это, впрочем, далеко не сразу; скоро мы убедимся, что доктрина об Иисусе как Боге в облике человека сформировалась лишь к четвертому столетию. Развитие христианской веры в Вочеловечение было процессом медленным и сложным. Сам Иисус явно не притязал на Божественность. При крещении глас небесный называет его «Сыном Божьим», но это, скорее всего, просто подтверждение того, что Иисус и есть возлюбленный Мессия. В подобном свидетельстве свыше нет ничего необычного: многие раввины испытывали так называемый бат кол (буквально: «Дочь Гласа») – особый душевный взлет сродни более прямым пророческим видениям[151]. Однажды такой бат кол услышал Иоханан бен Заккай, когда на него и его учеников низошел в виде огня Святой Дух, подтвердивший его, раввина, миссию. Иисус называл себя «Сыном Человеческим». Об этом именовании тоже немало спорили, но исходное выражение на арамейском (бар наша), судя по всему, просто подчеркивает людскую слабость и бренность. Если так, то Иисус скромно пояснял, что по-человечески смертен и рано или поздно тоже уйдет.
В Евангелиях говорится, что Господь наделил Иисуса определенными божественными «силами» (dynamis), которые позволяли этому простому смертному творить божественные чудеса исцеления и отпускать грехи. Таким образом, глядя на деяния Иисуса, люди видели живое и наглядное подобие Бога, в чем трое его учеников убедились однажды без всяких сомнений. Этот сюжет сохранился во всех синоптических Евангелиях и стал очень важным для христиан грядущих поколений. Иисус взошел с Петром, Иаковом и Иоанном на высокую гору (по устоявшейся версии, это была гора Фавор в Галилее) и там «преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет»[152]. Затем Иисус беседовал с представшими рядом Илией и Моисеем – они олицетворяют соответственно пророков и Завет. Петр чуть не лишился рассудка и, словно сам не понимая, о чем говорит, пролепетал, что в память о таком событии неплохо бы поставить на горе три кущи. В этот миг вершину окутало светлым облаком (вроде того, что опустилось некогда на гору Синайскую), и бат кол провозгласил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»[153]. Столетия спустя греческие христиане, размышляя над сокровенным смыслом этого видения, пришли к выводу, что тогда посредством преображенной человечности Иисуса воссияли «силы» Господни.
Те же греки подметили, впрочем, что Иисус никогда не утверждал, будто такие божественные «силы» могут проявляться только через него. Напротив, он неустанно напоминал ученикам, что если у них будет «вера», то появятся и «силы». Под «верой» он понимал, конечно, не разработку всех теологических тонкостей, а воспитание внутреннего состояния – открытости, полной самоотверженности перед Господом. Любому, кто полностью, без остатка вверит себя Богу, по силам делать то же, что делал Иисус. Подобно раввинам, Иисус считал, что Дух благосклонен не к редким избранным, а ко всем доброжелательным людям. В некоторых фрагментах даже предполагается, что Иисус – опять же, как многие раввины, – не отрицал того, что Дух может низойти и на гойим. Главное – «иметь веру», и тогда всякий сможет творить еще большие чудеса: не только изгонять бесов и отпускать грехи, но даже поднять гору и ввергнуть ее в море[154]. Истинно верующий сам ощутит, как его человеческая слабость и бренность преображается деятельными «силами» Господа, которыми полнится мир Царства Мессии.
После смерти Иисуса его ученики не могли расстаться с верой в то, что он был так или иначе богоподобен. Молиться ему начали практически сразу. Святой Павел ничуть не сомневался, что силы Господни доступны даже язычникам, и проповедовал Евангелие в землях Македонии, Греции и нынешней Турции. Он был убежден, что в Новый Израиль могут войти не только евреи, соблюдающие Завет Моисеев во всей его полноте. Это возмутило ближайших учеников Иисуса, которые хотели создать более узкую, чисто иудейскую секту, и они после горячих споров порвали с Павлом. Впрочем, большую часть учеников Павла составляли евреи диаспоры и «богобоязненные», так что Новый Израиль все равно оставался глубоко иудейским. Павел никогда не называл Иисуса «богом» – только «Сыном Человеческим» в чисто иудаистском смысле; очевидно, что Иисус не был для апостола воплощением самого Господа: по мнению Павла, он просто обладал Божьими «силами» и «Духом», которыми вершились деяния Господа на земле и которые не следовало приравнивать к недоступной Божественной Сущности. Новоявленные христиане языческого мира, разумеется, далеко не всегда улавливали подобные тонкости; прошло время, и чудотворца, который всеми силами подчеркивал свою слабость и бренность, все равно обожествили. Доктрина Вочеловечения Господа во Христе всегда возмущала иудаистов, а позднее была признана богохульством и в исламе. Замысловатая идея Вочеловечения таила в себе целый ряд опасностей; к тому же христиане часто понимали ее слишком буквально. Впрочем, в истории религии почитание «божьих воплощений» – дело обычное; мы еще увидим, что поразительно сходные по смыслу теологические построения разрабатывали даже иудаисты и мусульмане.
Религиозный порыв, предопределивший удивительное обожествление Иисуса, станет более понятным после краткого освещения событий, происходивших в ту же пору на другом конце света. В индуизме и буддизме стало общепринятым поклонение таким возвышенным существам, как сам Будда или воплощения традиционных индуистских божеств. Эта форма почитания личностей, именуемая бхакти, была обусловлена извечной тягой людей к религиям «с человеческим лицом». Тем не менее столь явная смена отправных точек в обеих индийских религиях без особых трудностей совместилась с исходной верой, поскольку не отменяла ее важнейших приоритетов.
Будда умер в конце VI в. до н. э., и люди, естественно, хотели сберечь о нем память, но скульптуры и картины выглядели неуместными, ведь, погрузившись в нирвану, Просветленный уже не «существовал» в обычном смысле слова. Между тем крепла любовь к Будде-человеку, и желание размышлять об этой просветленной человечности стало таким острым, что в I в. до н. э. статуи все-таки появились. Первые из них поставили в Гандхаре (северо-восток Индии) и Матхуре на реке Джамна. Духовная сила, исходившая от подобных изображений, обеспечила им центральное место в буддийской духовности – несмотря на то что почитание человека, который полностью отбросил все личное, заметно противоречило самой сути учения Гаутамы. Впрочем, все религии меняются и развиваются, иначе рискуют просто устареть. Большинство буддистов ценят бхакти исключительно высоко, поскольку понимают, что эта дисциплина сберегла многие глубокие истины, которым грозило забвение. Вспомним, что, достигнув просветления, Будда пережил искушение остаться в нирване, но сочувствие к страдающему человечеству заставило его еще сорок лет провести в нашем мире, проповедуя Путь. Однако к I веку до н. э. буддийские монахи, похоже, все-таки позабыли об этом: они отгородились от мира стенами своих обителей и стремились достичь нирваны. К тому же монашеская жизнь отпугивала своими тяготами, и многие чувствовали, что она им не по силам. В I столетии н. э. появился новый тип буддийского героя – бодхисаттва, человек, который по примеру Будды отказался от нирваны, пожертвовав собственным освобождением ради спасения других. Бодхисаттва обрекает себя на новые рождения, лишь бы помочь людям избавиться от страданий. Как поясняют «Праджня-парамита-сутры» («Проповеди о совершенной мудрости»), составленные в конце I в. до н. э., бодхисаттвы
…не стремятся к личной нирване. Напротив, они видели множество страданий в мире бытия и, по-прежнему желая обрести высшее просветление, не пугаются более рождений и смертей. Они остаются во благо мира, для облегчения бремени мира, из сострадания к миру. Они исполнились решимости: «Мы станем защитой миру, местом успокоения в мире, окончательным утешением для мира, островами в этом мире, светом миру, наставниками для мира, указующими путь к спасению»[155].
Кроме того, бодхисаттва обладает неисчерпаемым источником добродетели и помогает менее одухотворенным людям. Тот, кто поклоняется бодхисаттве, получает возможность попасть в следующей жизни на одно из райских небес буддийской мифологии – в мир более благоприятный для достижения просветления.
Священные тексты неустанно напоминают, что подобные идеи не следует воспринимать буквально. Они не имеют ничего общего с привычной логикой и земными явлениями; это лишь символы, таящие неуловимую истину. В начале II в. н. э. философ Нагарджуна, основатель школы «пустоты», воспользовался парадоксами и диалектическим подходом, чтобы показать бессилие обычного понятийного языка. Окончательные истины, по его мнению, можно постигать только интуитивно, посредством медитации. Даже само буддийское учение условно: оно выражено исключительно обыденными, человеческими словами и потому не может во всей полноте изъяснить реальность, о которой пытался сообщить Будда. Буддисты, перенявшие эту философию, вскоре начали верить, что все вокруг нас – иллюзия (у нас, на Западе, их назвали бы идеалистами). Абсолют, сокровенная основа всего сущего, есть не что иное, как пустота, ничто, небытие, так как не существует в обычном смысле слова. Вполне естественно, что эту «пустоту» отождествили с нирваной. Каждый будда, включая Гаутаму, достигает нирваны, и из этого следует, что он в результате некоего несказанного преображения становится нирваной и безраздельно сливается с Абсолютом. Таким образом, всякий, кто стремится к нирване, тем самым жаждет отождествиться с буддами.
Легко заметить, что бхакти – поклонение буддам и бодхисаттвам – очень похоже на христианскую веру в Иисуса. Помимо прочего, такой подход сделал буддийскую веру более приемлемой для широких масс (вспомним, как мечтал Павел сделать иудаизм доступным для язычников). Сходным образом развивалась идея бхакти и в индуизме; там начали поклоняться прежде всего Шиве и Вишну, двум старшим ведическим божествам. Популярное идолопоклонство вновь оказалось сильнее философской строгости упанишад. Со временем индуисты создали и свою Троицу: Брахма, Шива и Вишну считались тремя символами, или аспектами, единой и невыразимой реальности.
Быть может, Божественную тайну лучше созерцать в образе Шивы, парадоксального бога добра и зла, плодовитости и воздержанности, созидания и разрушения. По известной легенде, Шива – великий йог; он помогает верующим преодолеть личностное разумение Божества посредством медитации. Вишну обычно добр и весел. Он часто является людям в виде многочисленных воплощений, или аватар, самой прославленной из которых был Кришна – отпрыск знатной семьи, воспитанный пастухами. Популярные предания с восторгом повествуют о том, как он резвился с девицами; в этом случае Бог предстает перед нами в облике Возлюбленного Души. В другом случае, однако, Вишну-Кришна открывает царевичу Арджуне свою устрашающую сторону:
Вижу богов в твоем теле, о Боже, и множество разных существ – владыку Брахму, космического творца, сидящего на лотосе-престоле, всех мудрецов и божественных змиев[156].
Кришна каким-то чудом вмещает в своем теле все; у него нет ни начала, ни конца, он заполняет собой все пространство и содержит всех божеств: «Боги ревущих бурь, боги солнца, яркие боги и боги обрядов»[157]. Кроме того, он – «человека дух неустанный», то есть суть человечности[158]. К нему все стремится, словно реки к морю или мотыльки к палящему огню. Глядя на это ужасающее зрелище, Арджуне остается только дрожать и трепетать; он едва не лишается чувств.
Развитие бхакти отвечало глубокой потребности человека в личных взаимоотношениях с Божеством. Поскольку Брахман совершенно недоступен, существовала опасность, что он, подобно древнему Богу Неба, полностью изгладится из человеческой памяти. Эволюция идеала бодхисаттвы в буддизме и аватары Вишну в индуизме свидетельствует о новой ступени развития религиозности, когда верующие настаивают на том, что Абсолют не может быть чем-то меньшим, нежели человек. С другой стороны, эти символические учения и мифы исключают мысль о том, будто Абсолют можно выразить одним-единственным богоявлением: и будд, и бодхисаттв, и аватар было и будет очень много. Наконец, в этих мифах выразился идеал человечества: каждый должен стать просветленным, превратиться в бога – это и есть наше предназначение.
В I в. н. э. в иудаизме тоже росла жажда божественной имманентности. Личность Иисуса вполне соответствовала чаяниям людей. Апостол Павел, первый христианский автор и основоположник христианства как религии, считал, что Иисус сменил Тору и отныне является главным самооткровением Господа перед миром[159]. Остается лишь гадать, что под этим понималось. Послания Павла были скорее ответами на конкретные вопросы, а не последовательным и строгим изложением богословия. Очевидно, что он считал Иисуса Мессией: само слово «христос» является переводом древнееврейского Massiach, «помазанник». Кроме того, об Иисусе апостол говорил как о человеке необычном, хотя, как правоверный иудей, никогда не утверждал, будто Иисус – воплощенный Бог. Для описания своих чувств Павел постоянно пользуется выражением «во Христе»: христиане живут «во Христе», его смертью они крещены, а Церковь каким-то загадочным образом составляет Тело Христово[160]. Доказывать подобные истины логически Павел даже не пытался. Как и у многих других иудеев, у него были самые смутные представления о греческом рационализме, который он именует попросту «безумием»[161]. Все основано на чисто субъективных, мистических впечатлениях, и потому апостол описывает Иисуса как атмосферу, где «мы Им живем и движемся и существуем»[162]. Иисус стал для Павла источником религиозных переживаний, и апостол рассказывает о нем с таким благоговением, с каким его современники говорили, должно быть, только о Боге.
Разъясняя переданную ему веру, Павел утверждает, что Иисус страдал и умер «за грехи наши»[163]. Похоже, ученики Иисуса были настолько потрясены позорной казнью, что всеми силами старались оправдать ее некой пользой. В девятой главе мы еще поговорим о том, как на протяжении XVII столетия другие иудеи искали подобное объяснение не менее позорной смерти другого Мессии. Первые христиане верили, что Иисус каким-то чудом выжил, но «силы», которыми прежде обладал только он, отныне, как и было обещано, перешли к его ученикам. Из посланий Павла нам известно, что первые христиане испытывали самые разнообразные необычные переживания, наводящие на мысль о появлении нового идеала человека: одни творили чудеса, другие говорили на небесных языках, третьи оглашали провозвестия, внушенные, по их мнению, Самим Богом. Церковные службы были мероприятиями шумными и зрелищными, что выгодно отличало их от нынешних пресных речитативов в приходских церквах. Судя по всему, смерть Иисуса действительно была в каком-то смысле благотворной – она родила «обновленную жизнь» и «новую тварь», о которых многократно говорит в своих посланиях Павел[164].
Но в то время не было еще хорошо разработанной теории распятия как искупления «первородного греха» Адама; этот раздел богословия появился не ранее четвертого века и стал важным только для Запада. Павел и другие новозаветные авторы никогда не пытались точно разъяснить, в чем заключается спасительность смерти Иисуса. Несмотря на это, образ жертвенной казни Христа во многом сходен с идеалом бодхисаттвы, набиравшим в те времена силу в Индии. Иисус, как и бодхисаттва, стал посредником между человеком и Абсолютом – с той лишь разницей, что Христос был единственным таким посредником и его содействие спасению людей было fait accompli[165], а не делом неопределенного будущего. Павел настаивает на том, что самопожертвование Иисуса было событием уникальным. Хотя апостол и выражает надежду, что его собственные терзания тоже принесут пользу другим, не остается никаких сомнений в том, что мучения и смерть Иисуса куда выше «рангом»[166]. В такой идее, впрочем, таится своя опасность. Бесчисленные будды и непостижимые, парадоксальные аватары напоминали верующим, что Высшую реальность совершенно невозможно изъяснить до конца. Уникальность Вочеловечения в христианстве неявно предполагает, что неисчерпаемое бытие Бога уже проявилось однажды во всей полноте в одном-единственном человеке, а это может привести к примитивному идолопоклонству.
Сам Иисус повторял, что «силы» Господни доступны не только ему. Павел развивал эту идею, доказывая, что Иисус был лишь первым образцом нового человека: он не просто сделал то, что не удавалось прежнему Израилю, но и стал новым Адамом, символом обновления человечества – всех людей, в том числе и гойим[167]. Такая мысль тоже имеет много общего с буддийской: поскольку все будды слились воедино с Абсолютом, к этому сводится и предназначение каждого человека.
В послании к филиппийской церкви Павел произносит слова, которые принято считать первым христианским гимном. Помимо прочего, в нем поднимается ряд важных проблем. Прежде всего, апостол разъясняет новообращенным, что они, как сам Иисус, должны быть готовы к самопожертвованию:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти яростной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя свыше всякого имени,
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
И всякий язык исповедал, что Господь [Кириос] Иисус Христос в славу Бога Отца[168].
В этом гимне, очевидно, отражено распространенное среди первых христиан мнение о том, что Иисус изначально обладал неким предсуществованием «в Боге» и лишь затем стал человеком посредством «самоуничижения» (кенозис) – то есть, подобно бодхисаттвам, решил разделить страдания с простыми смертными. Склад ума Павла был слишком иудейским, чтобы счесть Христа вторым Лицом Божества, извечно сущим наряду с YHVH. Гимн ясно показывает, что даже после вознесения Иисус остается отличным от Бога и занимает относительно Него низшее положение, хотя Господь возвеличил его и наградил званием Кириос. Не сам Христос принял это имя; оно дано ему лишь «в славу Бога Отца».
Примерно сорок лет спустя, около 100 г., подобное предположение высказал автор Евангелия от Иоанна. Во введении он рассказывает о Слове (логос), которое было «в начале у Бога» и стало орудием творения: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»[169]. Под греческим понятием логос евангелист подразумевает вовсе не то, что когда-то имел в виду Филон; судя по духу текста, его автору куда ближе был палестинский, а не эллинизированный иудаизм. В арамейских переводах древнееврейских текстов, так называемых таргумах, термин Метга («слово») означает деятельность Господа на земле. По существу, он передает тот же смысл, что и более ранние категории «славы», «Святого Духа» или Шехины, то есть подчеркивает разницу между проявлениями Божественного в нашем мире и непостижимым бытием Самого Бога. Как и божественная Премудрость, «Слово» олицетворяет исходный созидательный замысел Господа. Говоря о том, что Иисус имел некое предвечное существование, Павел и Иоанн вовсе не подразумевают, будто он был вторым божественным «Лицом», как в более позднем учении о Троице. Апостолы просто утверждают, что Христос возвысился над преходящим и личностным уровнем бытия. И поскольку воплотившиеся в Иисусе «сила» и «премудрость» означают деятельность Самого Господа, Христос действительно в определенном смысле выразил то, «что было от начала»[170].
Подобные идеи имели смысл в контексте строгого иудаизма, но поздние христиане, воспитанные на греческой мысли, истолковали их совсем иначе. «Деяния апостолов», написанные не ранее 100 г., со всей очевидностью показывают, что у первых христиан сохранялись сугубо иудейские представления о Боге. На Пятидесятницу[171], когда сотни евреев всех диаспор сошлись в Иерусалим, чтобы отпраздновать годовщину появления Торы, на учеников Иисуса низошел Святой Дух. Они услышали, как «внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, […] и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные»[172]. Святой Дух явился первым евреям-христианам так же, как он открывался их современникам, таннаим. Ученики Христа тут же поспешили на улицы и начали проповедовать перед толпами евреев и «богобоязненных» из «Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее»[173]. Ко всеобщему изумлению, каждому слушателю казалось, будто апостолы говорят на его родном языке. Обратившийся затем к толпе Петр представил это чудо как торжество иудейской веры: пророки предсказывали, что однажды Господь изольет свой Дух на всех людей, так что даже женщины и рабы будут видеть видения и «сновидениями вразумляться»[174]. Этот день должен был ознаменовать становление Царства Мессии, когда Господь начнет жить на земле рядом со Своим народом. Петр отнюдь не утверждает, что Иисус Назорей был Богом, и лишь повторяет слова «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди нас, как и сами знаете». После мученической смерти Иисуса Господь воскресил его и вознес на особое, высочайшее место одесную Себя. Эти события были предвидены пророками и сочинителями псалмов, так что теперь «весь дом Израилев» может не сомневаться, что Иисус и был долгожданным Мессией[175]. Речь Петра является, судя по всему, главным провозвестием (керигмой) ранних христиан.
К концу IV в. христианство существенно окрепло именно в тех землях, которые перечислил автор «Деяний». Оно пустило корни в синагогах еврейской диаспоры, куда приходило немало «богобоязненных», то есть прозелитов. Казалось, реформированный иудаизм Павла решил множество давних проблем, ведь те люди в своем роде тоже «говорили на иных языках»: им не хватало единодушия и последовательности во взглядах. Многие евреи диаспоры считали Иерусалимский храм, насквозь пропитанный кровью животных, учреждением примитивным и варварским. «Деяния апостолов» донесли до нас это мнение в истории Стефана, еврея-эллиниста, который перешел в секту Иисуса и за богохульство был насмерть забит камнями по приговору Синедриона, еврейского совета старейшин. В своей предсмертной, полной страсти речи Стефан заявил, что Храм – оскорбление самой природы Бога: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет»[176].
Многие члены еврейской диаспоры по-прежнему признавали талмудический иудаизм, разработанный раввинами после разрушения Храма; другие же считали, что христианство дает ответ на давние вопросы о статусе Торы и универсальности иудаизма. Особенно привлекательной новая вера была, разумеется, для «богобоязненных», у которых появлялась надежда стать полноправными гражданами Нового Израиля без изнурительного бремени шестисот тринадцати мицвот.
В первом веке христиане продолжали размышлять о Боге и молились ему как правоверные иудеи; они дискутировали наравне с раввинами, а церкви их мало чем отличались от синагог. Однако в 80-е годы, когда христиан официально изгнали из синагог за отказ соблюдать Тору, начались их язвительные диспуты с иудаистами. В первые десятилетия н. э. иудаизм, как мы уже знаем, привлек немало новообращенных, но после 70 года, когда у евреев начались трения с римлянами, позиции их веры серьезно ослабели. Частые переходы «богобоязненных» в лагерь христиан отбили у иудаистов охоту к прозелитизму и заставили относиться к потенциальным кандидатам с подозрительностью. Язычники, которых прежде мог привлечь иудаизм, обращались теперь к христианству; правда, в большинстве своем то были рабы и представители беднейших сословий. Образованные иноверцы начали принимать христианство лишь к концу II столетия; именно они и сумели разъяснить идеи новой религии недоверчивому языческому миру.
В Римской империи христианство сочли сперва одним из ответвлений иудаизма, но после того, как христиане перестали показываться в синагогах, к ним начали относиться с презрением: отречение от веры отцов римляне восприняли как страшный грех, а саму секту – как религиозных фанатиков. Римским моральным идеалом была консервативность; высшая ценность придавалась обычаям предков и авторитету главы семейства. Под «прогрессом» понимались вовсе не дерзновенные прорывы в грядущее, а возвращение к былому золотому веку. В нашем обществе, основой которого стали перемены, в сознательном отказе от прошлого принято видеть большой творческий потенциал, но римляне считали любые новшества опасными и даже губительными. С особой же подозрительностью они относились к любым массовым движениям, рвавшим оковы традиций. По этой причине Рим строго следил за религиозным «шарлатанством» и ревностно ограждал от него своих подданных. И все же в Империи витал дух беспокойства и неудовлетворенности. Условия жизни в гигантском межнациональном государстве лишили древних богов величия и силы; теперь люди слишком остро сознавали существование чужих, непонятных культур. Требовались новые духовные решения. В Европу тем временем проникали восточные культы; Исиде и Семеле поклонялись наряду с традиционными римскими божествами, символами устоев государства. На протяжении I в. н. э. то и дело возникали новые секты, обещавшие обращенным спасение и доподлинные знания о потустороннем мире. Однако ни одна из новоявленных религий пока не угрожала старым порядкам. Восточные божества не требовали безраздельного к себе внимания и не противоречили прежним обрядам; они были чем-то вроде святых, помогали по-новому увидеть мир, освежали ощущение его просторности. Присоединяйся к любым культам, чти любых божеств! До тех пор, пока та или иная иноземная религия не представляла угрозы для привычных богов и не слишком выставляла себя напоказ, власть относилась к ней с терпимостью и без труда совмещала с привычным укладом жизни.
От религии в ту пору не ждали мучительных размышлений и объяснения смысла жизни. С подобными нуждами обращались к философии. В эпоху поздней античности жители Римской империи поклонялись богам, чтобы заручиться их помощью в трудную минуту, добиться божественного благоволения к своей стране и ощутить целительную связь с минувшим. Религия заключалась не столько в богословии, сколько в культах и обрядах; она опиралась на чувства, а не на идеологию или принятую рассудком теорию. Подобное отношение нередко встречается и в наши дни: многих из тех, кто ходит сейчас на богослужения, теологические тонкости занимают в последнюю очередь.
Большинству людей не нужно никакой экзотики, им не по нраву сама идея новшеств. Они чувствуют, что сложившиеся обряды приносят ощущение связи с традиционным, а неизменность всегда успокаивает. Прихожане не ждут от проповедника блистательных свежих мыслей, и любое нарушение привычного порядка службы их только настораживает. Примерно такими же были и язычники поздней античности: им нравилось чтить богов, которым до них поклонялись многие поколения предков. Древние ритуалы вызывали чувство самобытности, укрепляли местные традиции и, казалось, были залогом того, что жизнь и дальше будет не хуже, чем теперь. Достижения цивилизации выглядели хрупкими, а безрассудное пренебрежение к богам-покровителям, которые помогали человеку сберечь плоды его творчества, могло поставить любые свершения под угрозу. Всякий культ, так или иначе противоречивший вере отцов и дедов, воспринимался со смутной опаской. Таким образом, христианство было неудобным вдвойне: у него не было ни вызывающего почтительность тысячелетнего стажа иудаизма, ни привлекательных обрядов язычества, которые всякий мог увидеть и оценить своими глазами. Кроме того, новая вера несла в себе серьезную угрозу: христиане настаивали, что их Бог – единственный, а прочие божества – лишь выдумки. Римскому биографу Гаю Светонию (70–160 гг.) христианство казалось сектой иррациональной и эксцентричной: superstitio nova et prava[177] – «порочное», разумеется, именно в силу своей «новизны»[178].
Образованные язычники обращались за знаниями к философии, а не к религии. Их святыми и пророками были такие античные философы, как Платон, Пифагор и Эпиктет, которых называли иногда «богорожденными». Считалось, например, что Платон действительно был сыном Аполлона. К религии философы относились с прохладной почтительностью, так как она, по их мнению, занималась совершенно иными материями. В те времена философы были не сухарями-книгочеями в башнях из слоновой кости, а людьми деятельными и общительными; они стремились спасать души современников и привлекали в свои школы как можно больше учеников. И Сократ, и Платон были в своей философии весьма «религиозными»: благодаря научным и метафизическим рассуждениям перед ними раскрывалось величие вселенной. Таким образом, в I в. н. э. грамотные и пытливые умы искали ответы на загадки жизни именно у античных философов, чьи сочинения содержали и вдохновляющую идеологию, и высоконравственные принципы. Христианство казалось большинству варварским предрассудком, а христианский бог – свирепым первобытным идолом, который то и Дело беспричинно вмешивается в суету смертных. Он, разумеется, не шел ни в какое сравнение с далеким и неизменным Богом таких философов, как Аристотель. Одно дело – допускать, что сынами божеств были личности масштаба Платона или Александра Македонского, и совсем другое – боготворить какого-то еврея, позорно казненного где-то на задворках Римской империи.
Одной из самых популярных философий поздней античности был платонизм. Неоплатоников I и II вв. Платон привлекал не как этический и политический мыслитель, но как мистик. Его труды помогали философам познавать себя, освобождали душу из темницы тела и переносили в мир Божества. Это была возвышенная и благородная система взглядов, где космология отражала прежде всего устойчивость и согласованность вселенной. Бытие Бога заключалось в безмятежном созерцании Себя; неподвластный губительному влиянию времени и перемен, Он пребывал на самой вершине необъятной иерархии сущего. Вселенная зародилась в Боге и была естественным следствием Его чистого бытия; от Него исходили вечные формы, которые, в свою очередь, наполняли жизнью солнце, звезды и луну – светила, прикрепленные к отведенным им сферам. Были, наконец, и божества, но в них теперь видели ангелов-помощников Верховного Бога, которые несли божественное в подлунный мир. Платоник не нуждался в варварских сказках о боге, который ни с того ни с сего решил сотворить мир или, пренебрегая иерархией бытия, вступал в непосредственное общение с жалкой горсткой смертных. Последователям Платона не требовалось гротескное спасение благодаря распятому Помазаннику. Философ сам был подобен Богу, подарившему жизнь всему сущему, и потому мог вознестись в высшие сферы самостоятельно – разумно и в полной гармонии со вселенной.
Как же христианам удалось обратить в свою веру языческий мир?
Христианство словно сидело меж двух стульев: оно не было, по мнению римлян, ни религией, ни философией. Более того, христианам было довольно трудно даже толком перечислить свои «убеждения». Они вряд ли вообще сознавали, что создают совершенно особую систему взглядов, и в этом были очень похожи на своих сограждан-язычников. В их вере еще не было последовательного «богословия». Точнее всего христианство того времени можно определить как старательно воспитываемое состояние преданности. Слова «символа веры» произносились христианами не для того, чтобы выразить свое согласие с неким набором утверждений. Само слово credere, «верить», произошло, скорее всего, от cor dare: «вверять свое сердце». Восклицание «Credo!» («верую!», или, по-гречески, pisteno) подразумевало прежде всего эмоциональное, а не интеллектуальное отношение. Так, например, Феодор, который с 392 по 428 год был епископом Мопсуэстии, что в Киликии, втолковывал своей пастве:
Когда клянешься Господу: «Верую» (pisteno), тем самым показываешь, что остаешься верен Ему, никогда от Него не отвратишься, всегда будешь чтить Его выше всего иного, жить в Нем и поступать по заветам Его[179].
Позже христианам потребуется более четкое теоретическое обоснование своей веры, и они воспылают беспримерной в истории мировых религий страстью к богословским спорам. Нам уже известно, что в иудаизме официальной доктрины не было, а представления о Боге оставались, в общем, личным делом каждого. Такой же подход к вере был и у первых христиан.
Во втором столетии некоторые язычники, обратившиеся в христианство, попытались вразумить заблудших сограждан и доказать, что новая вера вовсе не является губительным разрывом с общепризнанной традицией. Одним из первых таких апологетов стал Иустин Кесарийский (100–165 гг.), мученически погибший за веру. В его неутомимом стремлении докопаться до сути отражается общая духовная тревога, характерная для той эпохи. Иустин не был ни глубоким, ни блистательным мыслителем. До обращения в христианство он бывал то у стоиков, то у перипатетиков, то у пифагорейцев, но, по-видимому, так и не смог разобраться в их сложных теориях. Характер и умственные способности Иустина не совсем подходили для занятий философией, но вера на уровне культов и обрядов его тоже не устраивала, и потому христианство оказалось вполне удачным выбором. В двух своих апологиях (ок. 150 и 155 гг.) он доказывал, что по сути христиане просто следуют Платону, который считал, что на свете есть один-единственный Бог. Главным же доводом Иустина было то, что Рождение Христа предсказывали и греческие философы, и еврейские пророки, – и эта мысль, должно быть, производила в ту пору сильное впечатление на язычников, ведь прорицания все еще были в большом почете. Кроме того, апологет утверждал, что Иисус – воплощение логоса, или божественной мысли, которую стоики считали основой космического порядка; логос активно действовал на земле на протяжении всей истории и в равной мере вдохновлял как греков, так и евреев. Развить эту свежую мысль Иустин, однако, не пытался, хотя вопросов она вызывала немало: как логос смог воплотиться в человеческом облике? Равнозначен ли логос таким библейским понятиям, как Слово и Премудрость? Какие отношения связывают его с Единым Богом?
Другие христиане разрабатывали куда более радикальные богословские системы, и не из любви к рассуждениям во имя истины, а ради укрощения душевной тревоги. В частности, в поисках причин своего острого чувства оторванности от божественного мира гностики («знающие») перешли от философии к мифологии. Их мифы отражали недостаток знаний о Боге и божественном; это невежество они, естественно, переживали как источник горя и стыда. И у Василида, который преподавал в Александрии в период между 130 и 160 годами, и у его современника Валентина, явившегося в Рим из Египта, появилось огромное число приверженцев – это по-своему подтверждает, что многие из новообращенных христиан чувствовали себя растерянными и лишенными ориентиров.
Все гностики начинали с непостижимой реальности, именуемой «Божество»: от Божества произошла та меньшая сущность, которую мы называем «Богом». О Божестве нет смысла говорить, поскольку оно совершенно недоступно ограниченному человеческому уму. Как поясняет Валентин, Божество – это
…Глубина или Первообраз, необъятный и невидимый, вечный и безначальный, существовавший бесчисленные века в величайшей тишине и спокойствии. Это мужской эон; ему соприсущ был женский эон «мысль», или «благодать», или «молчание»[180].
Люди всегда строили догадки об этом Абсолюте, но ни одно из объяснений никогда не станет достоверным. Описать Божество невозможно; оно – не «добро» и не «зло». Нельзя даже сказать, что оно «существует». Василид утверждал, что в начале не было Бога, было лишь Божество, и Оно, строго говоря, было «Ничто», потому что не существовало в привычном смысле слова[181].
Однако Ничто пожелало стать познанным, чтобы не оставаться далее в полном одиночестве в Глубине и Безмолвии. В недрах его бездонной сущности произошли радикальные перемены, следствием которых стал ряд эманаций, сходных с теми, о каких рассказывали древние языческие мифы. Первой эманацией был «Бог», которому сейчас поклоняются. Но и «Бог» был недоступен человеку, а само понятие нуждалось в дальнейшем прояснении. По этой причине от него попарно исходили все новые эманации (именуемые эонами), и каждая выражала одно из божественных свойств. «Бог» не имел пола, но каждая пара эманаций, как в «Энума элиш», состояла из мужского и женского – так создатели этой системы пытались избавиться от преобладания мужского элемента, присущего традиционному монотеизму. Очередные пары эманаций становились все слабее и разреженнее, так как все больше отдалялись от божественного Источника. Когда же появилась тридцатая такая пара эманации, процесс завершился и божественный мир – Плерома – принял свой окончательный вид. Ничего возмутительного в космологии гностиков не было: в ту эпоху все верили, что космос изобилует эонами, демонами и прочими духовными силами. Апостол Павел говорил о Престолах, Господствах, Властях и Силах, а для философов было самоочевидным, что такие незримые силы суть древние божества и посредники между людьми и Единым.
Затем произошла катастрофа – первобытное падение, которое гностики описывали по-разному. Одни утверждали, например, что София (Премудрость), последняя эманация, впала в немилость, поскольку пожелала обрести запретные знания о недоступной Божественности. Самонадеянность этих притязаний стала причиной изгнания ее из Плеромы; горе и страдания Софии воплотились в виде материального мира. С тех пор заблудшая изгнанница скитается по космосу, мечтая о возвращении к божественному Первоначалу. В этой смеси восточных и языческих идей выразилась убежденность гностиков в том, что наш мир есть в некотором смысле извращение мира небесного, вызванное неведением и путаницей. Другие гностики считали, что «Бог» не создавал наш мир, так как просто не имеет ничего общего с грубой материей. Вселенная сотворена одним из эонов, которого называли Демиургом, «Творцом». Он воспылал завистью к «Богу», захотел стать центром Плеромы – и, разумеется, был изгнан, после чего из духа противоречия сотворил вселенную. Но, как поясняет Валентин, Демиург «небо сотворил без знания, человека создал, не ведая человека, и землю произвел на свет без разумения земли»[182].
Однако другой эон, Логос, явился на помощь несовершенному творению и низошел на землю во плоти Иисуса для того, чтобы указать людям обратный путь к Богу. Со временем это направление христианства было полностью подавлено, но и столетия спустя иудаисты, христиане и мусульмане будут вновь и вновь возвращаться к этой мифологеме, чувствуя, что она выражает их религиозные переживания точнее, чем ортодоксальное богословие.
Такие мифы не задумывались как буквальные и достоверные рассказы о сотворении и спасении; они были лишь символическим отражением некой сокровенной истины. «Бог» и Плерома – отнюдь не внешние, пусть и очень далекие реалии; искать их следовало прежде всего в собственной душе:
Оставь поиски Бога и сущего, и прочие подобные искания.
Ищи Его, взяв началом себя. Познай, кто в тебе делает все Его собственным и говорит: «Мой Бог, мой ум, моя мысль, моя душа, мое тело». Познай источник радостей и печалей, любви и ненависти. Познай, что значит созерцать не желая и любить непроизвольно. И если тщательно изучишь это, то найдешь Его в себе[183].
Плерома означала карту души. Если знаешь, куда глядеть, то различишь божественный свет даже в том мраке, в который погружен мир, ведь при Изначальном Грехопадении – Софии ли, Демиурга ли – из Плеромы брызнуло немало божественных искр, увязших после в материи. Гностик может найти такую искру в собственной душе, осознать в самом себе частицу Божественности, которая поможет нащупать путь домой.
Пример гностиков показывает, что многие новообращенные христиане не удовлетворялись традиционными представлениями о Боге, унаследованными от иудаизма. Мир вовсе не казался им «благом», творением доброжелательного божества. Сходная раздвоенность и неопределенность характерна для доктрины Маркиона (100–165 гг.), который основал в Риме свою конкурирующую Церковь и привлек множество последователей. Иисус говорил, что доброе дерево не приносит худых плодов[184], так разве этот мир, где неприкрыто царят зло и страдания, мог быть создан благим Богом? Маркиона тоже ужасали древнееврейские писания, где речь идет о лютом и кровожадном боге, истреблявшем в праведном гневе целые народы. Маркион решил, что наш мир сотворен именно еврейским богом, который «ищет войны, непостоянен в своем намерении и даже противоречит себе»[185]. Однако Иисус поведал людям, что есть и другой Бог, о котором в древнееврейских книгах не упоминалось. Этот, второй Бог «кроток, ласков и весьма добр, даже чрезвычайно»[186], – иными словами, совсем не похож на свирепого «Судию», создавшего нашу вселенную. Люди должны, таким образом, отвернуться от земного мира, который ничего не расскажет о милосердном Боге, ибо не Им сотворен. Следует также полностью отказаться от «ветхого» завета и сосредоточиться исключительно на новозаветных текстах, сохраняющих дух Иисуса. Популярность учения Маркиона подтверждает, что своей философией он открыто выразил общее беспокойство. Было время, когда он, казалось, вот-вот учредит независимую Церковь. Маркион нащупал больное место в христианском мироощущении. Целым поколениям христиан было невероятно трудно воспринимать материальный мир положительно, а многие из них до сих пор не знают, как относиться к древнееврейскому Богу.
Богослов Тертуллиан (160–220 гг.) из Северной Африки показал, впрочем, что Маркионов «благой» Бог похож скорее на греческого, чем на библейского. Действительно, столь безмятежная сущность, никак не соприкасающаяся с нашим порочным миром, больше напоминает аристотелевский Недвижимый Двигатель, нежели еврейского Господа. В греко-римском мире библейский Бог действительно воспринимался многими как божество дикое, то и дело допускающее промахи и, в целом, не заслуживающее почтения. Около 178 г. языческий философ Цельс обвинил христиан в узкопровинциальном подходе к идее Бога. Его возмущал тот факт, что христиане притязают на особое и исключительное положение; Богу угодны все люди, а эта жалкая горстка христиан твердит: «Господь оставил весь мир и движения небесные, позабыл о просторах земных, сосредоточив внимание только на нас»[187].
Когда римская власть преследовала ранних христиан, их чаще всего обвиняли в «безбожии», так как новая концепция божественного была прямым оскорблением римской морали. Народ боялся, что христиане, не воздающие должного традиционным богам, поставят под угрозу все государство, и общественный порядок, и без того неустойчивый, рухнет. Христианство считали варварской верой, пренебрегающей всеми достижениями цивилизации.
И все же к концу II столетия в христианство начали обращаться по-настоящему образованные язычники. Им удалось примирить библейского бога семитов с греко-римскими идеалами. Первым из таких ученых стал Климент Александрийский (ок. 150–215 гг.), который, похоже, изучал прежде в Афинах философию. Климент не сомневался, что Яхве и Бог греческих мыслителей – один и тот же, а Платона называл «аттическим Моисеем». Однако богословие Климента изрядно удивило бы и апостола Павла, и самого Иисуса. Как у Платона и Аристотеля, главной характеристикой Бога у Климента оставалась apatheia: Он совершенно бесстрастен, неизменен и безучастен. Христиане могут причаститься божественному бытию, подражая спокойствию и невозмутимости Господа. Разработанный Климентом подход к жизни удивительно напоминает подробнейшие правила поведения, составленные когда-то раввинами, – с той лишь разницей, что постулаты Климента имели много общего с идеалами стоиков. Божественная безмятежность должна быть для христианина образцом в каждой мелочи жизни: нужно сидеть ровно, говорить тихо, смеяться сдержанно и даже отрыгивать неприметно. Благодаря прилежному воспитанию в себе бесстрастия христианин почувствует беспредельный внутренний Покой – подобие Бога, запечатленное в глубине человеческой души. Между Богом и людьми нет пропасти – и, соприкоснувшись с божественным идеалом, христианин ощутит присутствие Божественного Спутника, который «разделяет с нами кров, и стол, и всякие нравственные тщания нашей жизни»[188].
Тем не менее Климент тоже верил, что Иисус был «Богом живым, Который страдал и Которого ныне почитают»[189]. Тот, кто «их ноги […] омыл, перепоясавшись льняным полотенцем», был, без сомнений, смиренный «Бог и Господь вселенной»[190]. Подражая Иисусу, христианин тоже станет богоподобным: божественным, незапятнанным и бесстрастным. Действительно, Христос был божественным логосом, который облекся плотью, «чтобы могли научаться люди у человека, как стать Богом»[191]. Сходные идеи проповедовал на Западе Ириней, епископ Лионский (130–200 гг.): Иисус был воплощенным Логосом, божественным Замыслом. Воплотившись, он освятил все ступени человеческого развития и стал образцом для христиан, которые должны подражать ему во всем, как актеры, целиком перенимающие характер своего персонажа. Так христианин воплощает в жизнь свой потенциал[192]. И Климент, и Ириней пытались приспособить иудейского Господа к характерным для их эпохи и культуры взглядам. И хотя Бог этот имел мало общего с чутким и ранимым Богом пророков, Климентова доктрина apatheia стала впоследствии основополагающей концепцией Бога в христианстве. В греческом мире людям хотелось подняться выше изменчивости и суетных чувств, обрести сверхчеловеческий покой. Несмотря на свою внутреннюю парадоксальность, именно этот идеал и одержал в конце концов победу.
Климент тоже обошел стороной важнейшие вопросы богословия. Как простой смертный мог быть одновременно Логосом, божественным Замыслом? Что именно означают утверждения о божественности Иисуса? Совпадают ли понятия «Логос» и «Сын Божий» и какой смысл приобретает это древнееврейское звание в эллинистическом мире? Как безучастный Господь мог страдать в Иисусе? Почему вообще христиане считают Иисуса божественным, хотя сами настаивают, что на свете только один Бог? В III в. христиане начали сознавать эти проблемы особенно остро. Сначала некий римлянин по имени Сабеллий, о котором почти ничего не известно, предположил, что библейские понятия «Отец», «Сын» и «Дух» можно сравнить с масками (personae) вроде тех, какие носили тогда в театрах лицедеи, чтобы голоса звучали громче. Единый Господь открывается миру под тем или иным «лицом». У Сабеллия нашлись ученики, но большую часть христиан его теория встревожила. Из нее следовало, в частности, что, играя роль Сына, неуязвимый Бог в некотором смысле страдал, а подобная мысль казалась многим совершенно неприемлемой. Не меньшее возмущение вызвал в ту эпоху и Павел Самосатский (с 260 по 272 г. – епископ Антиохийский), который утверждал, что Иисус был простым смертным, в котором, как в храме, пребывали Слово и Премудрость Господа. В 264 г. синод в Антиохии осудил богословие Павла, и тому удалось сохранить епископский сан только благодаря поддержке Зенобии, царицы Пальмирской. Как мы видим, для христиан было очень непросто примирить уверенность в божественной сущности Иисуса со столь же непоколебимой убежденностью в том, что Бог един.
В 202 г. Климент покинул Александрию ради поста священника при епископе Иерусалимском, а его место в школе для новообращенных занял блистательный ученик Ориген, которому тогда едва исполнилось двадцать лет. В отрочестве Ориген страстно верил, что самый надежный путь на небеса – мученичество. Четырьмя годами раньше погиб на арене его отец Леонид, и Ориген попытался было последовать его примеру. Матери, однако, удалось удержать сына, спрятав его одежды. Ориген начинал с веры в то, что христианская жизнь означает противоборство со всем миром, но позднее отказался от этих взглядов и разработал свою версию христианского платонизма. Былая вера в существование бездонной пропасти между Богом и земным миром, преодолеть которую можно лишь ценой невыносимых мук, сменилась новым богословием, подчеркивающим неразрывную связь мироздания с Господом. Это была светлая, оптимистичная, исполненная радости духовная доктрина: христианин шаг за шагом восходит по лестнице бытия, пока не достигнет самого Бога, который есть наша родина и подлинная сущность.
Как платоник, Ориген верил в родство Господа и человеческой души; по его мнению, люди обладают врожденным знанием божественного, которое можно «вспомнить» и пробудить специальными упражнениями. Чтобы согласовать платоновскую философию с семитскими преданиями, Ориген разработал особый символический подход к толкованию Библии. Так, например, непорочное зачатие Христа в лоне Девы Марии следовало понимать прежде всего как зарождение божественной Премудрости в человеческой душе. Кроме того, Ориген внес поправки в некоторые идеи гностиков. По его теории, все обитатели духовного мира изначально созерцали несказанного Бога, который являл Себя в облике Логоса, божественного Слова и Премудрости. Но постепенно они устали от этого совершенного созерцания, выделились из божественного мира и, низвергнутые, застряли в телесных оболочках – это и был предел их падения. Тем не менее не все еще потеряно: душа может вернуться к Богу, пройдя долгую и трудную дорогу, причем путь этот продолжается и после смерти. Рано или поздно каждый выйдет из темницы тела, лишится половых признаков и вновь станет чистым духом. Созерцание (теория) приносит душе все больше знания (гнозис) о Боге, и знание это преображает ее до тех пор, пока, как учил еще Платон, она сама не станет божественной. Бог – полная загадка, и описать Его словами или идеями просто невозможно; тем не менее душа обладает способностью познавать Бога, так как отчасти разделяет Его божественную сущность. Созерцание Логоса – совершенно естественное занятие человека, поскольку все наделенные духом существа (logikoi) предначально равны друг другу. Когда души пали и были изгнаны из высшего мира, там остался лишь один дух, по-прежнему поглощенный созерцанием Божьего Слова. Это был дух будущего человека Иисуса Христа, а наши души – такие же, как и его. Вера в божественную природу Иисуса-человека была лишь переходным этапом; она помогает нам на нашем пути, но узреть Господа воочию можно только отказавшись от нее.
В IX веке Церковь осудит многие идеи Оригена как еретические. Ни Ориген, ни Климент не верили, в частности, что Бог сотворил мир из ничего (ex nihilo), хотя эта концепция позднее войдет в ортодоксальную христианскую доктрину. Что касается представлений Оригена о божественности Христа и пути спасения человечества, то они и вовсе противоречат более позднему официальному мнению. Ориген не верил во всеобщее «спасение» смертью Христа и утверждал, что каждый восходит к Господу самостоятельно. Однако в те времена, когда Ориген и Климент высказывали подобные соображения и разрабатывали свою, христианскую версию платонизма, никакой официальной доктрины еще не было. Никто не знал, сотворен ли наш мир Богом и в какой мере божествен каждый человек. Ортодоксальное вероучение сложилось лишь после мучительной борьбы в бурную эпоху IV–V вв.
Более всего Ориген прославился, пожалуй, своим самооскоплением. В Евангелиях Иисус говорит, что «есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного»[193], и Ориген воспринял это замечание слишком серьезно. В поздней античности оскопление было довольно обычной операцией. Ориген не кромсал себя ножом в приступе ярости и не руководствовался в своем решении патологическим отвращением к сексуальности, которое было присуще кое-кому из западных богословов – например, блаженному Иерониму (342–420 гг.). Британский ученый Питер Браун предполагает, что оскоплением Ориген хотел наглядно подтвердить свою доктрину маловажности всего человеческого, которое душа вскоре превзойдет. Очевидно, такие, казалось бы, неизменные свойства, как половая принадлежность, в процессе боґжения исчезают, ведь Бог не имеет пола. Так или иначе, но в эпоху, когда обязательной приметой философа была солидная борода, символ мудрости, гладкощекий и тонкоголосый Ориген выглядел, должно быть, довольно странно.
У Аммония Саккаса, бывшего наставника Оригена, учился в Александрии Плотин (205–270 гг.). После учебы Плотин вступил в римское войско, втайне надеясь, что это поможет ему добраться до Индии, куда он страстно мечтал попасть. Поход кончился плачевно, и Плотин бежал в Антиохию. Позднее он основал в Риме престижную школу философии. О Плотине известно очень мало – он был человеком чрезвычайно скрытным, о себе никогда не говорил, даже не отмечал свои дни рождения. Как и Цельс, Плотин считал христианство верой весьма сомнительной, но, тем не менее, оказал огромное влияние на целые поколения будущих последователей всех трех монотеистических религий. По этой причине его представления о Боге стоит обсудить подробно. Идеи Плотина стали своеобразным водоразделом в истории философии: он изучил все главные течения греческой мысли за предыдущие 800 лет и привел их к той совершенной форме, которая вдохновляла даже наших видных современников – например, Томаса Элиота и Анри Бергсона. Опираясь на платоновские идеи, Плотин разработал систему взглядов, нацеленную на самопознание. Как и его предшественники, он вовсе не стремился дать научное объяснение устройству мироздания или отыскать материальные причины зарождения жизни. Не занимаясь поисками объективных объяснений в окружающем мире он, напротив, призывал учеников уходить в себя и изучать бездны собственной души.
Человек отчетливо сознает, что в его жизни что-то не так. Он не умеет ладить ни с другими, ни с самим собой. Он оторван от своей сокровенной природы и лишен ориентиров. Главными приметами нашего существования являются, похоже, внутренние противоречия и склонность все усложнять. Тем не менее мы неустанно стараемся свести окружающее нас многообразие явлений к некоему упорядоченному целому. Глядя на ближнего своего, мы не рассматриваем по отдельности его руки, ноги и голову, а машинально организуем разобщенные на вид конечности в целостный образ человека. Эта тяга к единству – основополагающее свойство человеческого мышления и, по мнению Плотина, оно, видимо, вообще отражает сущность всех вещей. Для того чтобы постичь сокровенную истину действительности, душа, по совету Платона, должна себя переделать, пройти очистительный процесс, катарсис, и погрузиться в созерцание (теорию). Душе нужно попытаться вырваться за пределы космоса и мира чувств и даже превзойти естественные возможности рассудка – только так удастся заглянуть в самую сердцевину реального. Это не взлет к некой внешней действительности, но, напротив, погружение в глубочайшие тайники собственного ума – если угодно, «восхождение наизнанку».
Высшей реальностью является предвечное целое, которое Плотин называл «Первоединым». Все сущее обязано своим появлением на свет только этой всемогущей реальности. Поскольку Первоединый – сама простота, сказать о нем нечего: у него нет таких свойств, отличимых от его сущности, какие можно было бы определить обычным языком. Первоединый просто есть. По той же причине он безымянен: «Если примемся мыслить о Первоедином в утвердительных категориях, – пояснял Плотин, – то Безмолвие расскажет о нем много больше правды»[194]. Нельзя даже говорить, что Первоединый существует, так как он и есть Бытие – это «не вещь, а то, что отлично от всех вещей»[195]. Затем Плотин добавляет, что Первоединый – это «Всё и Ничто; ни одна из существующих вещей, но, в то же время, каждая из них»[196]. Как мы убедимся в дальнейшем, подобные рассуждения станут лейтмотивом истории Бога.
Но и Безмолвие не есть истина во всей полноте, уточняет Плотин, поскольку люди способны отчасти познать Божественное. Это было бы невозможно, если бы Первоединый оставался окруженным непроницаемой тайной. Он должен был превзойти себя, вырваться за пределы своей Простоты, чтобы сделать себя доступным таким несовершенным созданиям, как мы. Такое самопреодоление Божественного можно назвать «экстазом» в буквальном смысле слова, ведь это и есть «выход из себя» как акт чистой щедрости: «Так как Первоединый есть всесовершенный, так как он никого не ищет, не имея никакой потребности, никакого желания, то сам Он как бы через край всем переполнен; это-то переполнение и произвело нечто иное»[197]. Здесь нет ничего личностного: Плотин считал, что Первоединый пребывает вне каких-либо человеческих категорий, в том числе индивидуальности. Чтобы пояснить, почему безупречно простой Источник произвел все сущее, философ вернулся к древнему мифу и описал эманации целым рядом аналогий: свет, исходящий от солнца, или жар от огня, который тем горячее, чем ближе к его слепящему сердцу. Излюбленной метафорой Плотина было сравнение Первоединого с центром круга, потенциально вмещающим все окружности, какие только можно от него начертать. Эманации сходны с кругами от брошенного в воду камня. Однако, в отличие от таких мифов, как «Энума элиш», где очередная пара богов возникала из предыдущей и была совершеннее и могущественнее своих родителей, в системе Плотина все наоборот: как и у гностиков, чем дальше сущность от своего источника в Первоедином, тем она слабее.
Первые две эманации Первоединого Плотин считал божественными, так как именно они позволяют людям познавать бытие Бога и участвовать в нем. Вместе с Первоединым эти эманации образуют Божественную Триаду; эта идея во многом близка к нашему современному представлению о Троице. Первая эманация, Ум (нус),






