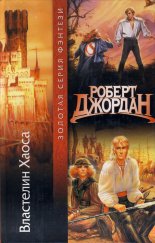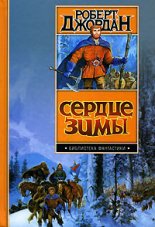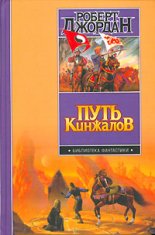Спроси у Ясеня Скаландис Ант

– А-а, – протянула Татьяна. – Понятно. Полтора часа, говоришь? Ну, и как же мы поедем? По кольцевой со скоростью двести пятьдесят?
– Послушай, Верба, – вмешался Тополь, – ну, что ты сегодня такая ершистая. Давай лучше снова песни петь. Ну, не поедем мы по кольцевой, не поедем. Я кольцевую с детства ненавижу!
– Для справки, – вставил Кедр, – когда Леня был маленьким, никакой кольцевой еще не построили.
Пропустив эту реплику мимо ушей, Тополь сообщил не совсем понятно:
– Я вызвал рассекателей. – И добавил. – Кедр, иди за баранку. Сам господин Малин за рулем – нас пограничники не поймут.
– Простите, а кто из нас летит в Лондон? – робко поинтересовался я, когда мы уже разогнались по трассе километров до двухсот.
– Ты, – сказал Тополь не оборачиваясь.
– Хорошо, – сказал я и не стал задавать никаких вопросов.
Собственно, мне уже было все равно. Если бы за те же полтора часа меня доставили не во Внуково, а в Плесецк и оттуда – на Луну, я бы тоже не слишком удивился. На деньги этого дона Корлеоне, или как его там, можно, наверно, и на Марс слетать, если того потребует Святое Дело Службы ИКС. Кажется, я уже вполне усвоил странную лексику этих "безнадежно больных людей", а вот логику их святого дела пока еще понимал слабо.
– Тебя там встретят. Прямо в аэропорту, – соизволил сообщить мне Тополь. – И все расскажут. Для начала по-русски. А сейчас, Мишель, можно я немного посплю? Кедра тоже лучше не отвлекай разговорами. Дорога мокрая.
А мне и не хотелось ни с кем разговаривать. Я просто смотрел в окно на дождь и слушал, как тихо и уютно посапывает Верба. Она была такая крошечная, что, поджав ноги и положив голову мне на колени, ухитрилась буквально свернуться калачиком.
У моста через канал на въезде в Москву с нами поравнялись, приветственно мигая, два милицейских «форда-виктория». Кедр сбросил скорость и, не останавливая машину полностью, выслушал доклад старшего по званию, после чего одна из машин оглушительно сигналя, рванула вперед, а вторая стала прикрывать нас сзади. С этими «рассекателями» мы и пропороли Москву насквозь со скоростью выше ста восьмидесяти, притормозив лишь раз, у поворота с Тверской на Манежную под запрещающий знак, и на коротком отрезке до Каменного моста, двигаясь против потока, конечно, не разгонялись на всю катушку. Во Внуково прибыли за десять минут до взлета и, отпустив «рассекателей», проехали прямо на летное поле через какие-то двойные ворота, любезно раскрываемые перед нами. Невероятно, но всем охранникам, таможенникам и пограничникам оказалось достаточно номера нашей машины, а может быть, знакомых лиц за ветровым стеклом. Джипы сопровождения остались по эту сторону ворот. Мы ехали почти не останавливаясь, и только один строгий майор попросил у Тополя и Кедра их удостоверения и внимательно изучил. Мои же документы были вообще никому здесь не нужны.
Верба поцеловала меня еще раз, уже стоя на последней ступеньке трапа, перед самым входом в самолет. Я долго не отпускал ее губ, внезапно поняв, что влюбился всерьез, что во всем этом нереальном дурдоме лишь она одна по-настоящему нужна мне, и что я не хочу, не хочу с ней расставаться. И она поняла это все без слов. И сказала:
– Давай не будем разыгрывать финальную сцену из "Итальянцев в России". Сейчас этот трап поедет назад, а ты, Мишик, пойдешь вон туда – где стоит эта симпатичная девушка в фирменном костюме компании "KLM". Ты должен лететь. За меня не беспокойся. Мы скоро опять увидимся! Я даже зуб вылечу! Честно! Все будет хорошо! Я позвоню тебе! Слышишь?! Завтра! Или послезавтра!
Я уже стоял в дверях самолета, а трап с Татьяной на последней ступеньке уезжал от меня как-то ненормально быстро. Или это только казалось мне?
– Exuse me, miss, – извинился я, проходя в салон.
– Ну, что вы, что вы, господин Малин! – ответила на чистом русском языке стюардесса компании "KLM". – Проходите, пожалуйста, я покажу вам ваше место.
Глава девятая
ПОЧЕМУ ВЫ НАЧИНАЕТЕ С ПАРИКМАХЕРСКОЙ?
Сережа возвращался из школы знакомым двором. Он уже распрощался с другом Колькой и был теперь совсем один. До дома оставалось два шага, когда вдруг из-под забора выскочил маленький темно-серый мышонок, сверкнул черными бусинами и отчаянно кинулся через дорогу к спасительной пожухлой траве на клумбе. Сереже захотелось поймать зверька, он резко шагнул вперед и поставил на пути беглеца правую ногу. Юркий мышонок обогнул препятствие и побежал еще быстрее. В охотничьем азарте мальчик вновь преградил ему путь, сделав второй стремительный шаг. И промахнулся. Мягкий комок хрустнул под подошвой ботинка. Сережа отдернул ногу и обмер: мышонок теперь не бежал – он полз на передних лапах, волоча задние, а вместо черной бусинки его правого глаз вздулся нереально большой кровавый пузырь. Мальчик смотрел на полумертвое животное и какую-то секунду был просто не в силах шевельнуться. Ничего более страшного ему еще не приходилось в жизни видеть. Потом созрело решение. Он наступил на мышонка каблуком и навалился на него всей тяжестью тела, зажмурившись и стараясь не слышать жуткого влажного хруста. А затем, не оглядываясь зашагал домой. В подъезде Сережа не выдержал и разревелся. И в квартиру вошел уже весь в слезах. Долго он не мог объяснить маме, что же случилось, пугая ее почти истерическими рыданиями. Потом успокоился и рассказал. Мама поняла. Мама все поняла, и от этого стало немного легче. Но все равно той же ночью он увидел кровавого мышонка во сне.
Это было первое убийство в его жизни. Сережа учился тогда во втором классе.
Через двадцать лет он вспомнит несчастного раздавленного зверька. Когда у здоровенного, метров двух ростом, негра от прямого попадания в голову точно так же вздуется жутким кровавым пузырем один глаз, но негр будет еще идти, наступать, и его конвульсивно сжатые мертвые пальцы будут давить на спусковую скобу маленького смертоносного «узи», и две пули попадут Сергею в ногу, чтобы остаться там надолго, потому что восемь часов они будут прорываться к своим через проклятые джунгли, и только на побережье, в продувной палатке полевого госпиталя старина Гомеш прооперирует его, и потом, уже в Луанде чудом спасет изувеченную ногу с признаками начинающейся гангрены, а всю дорогу в вертолете он будет бредить и на всех языках, известных ему к тому времени просить окружающих: «Добейте, мышонка! Раздавите его, чтоб не мучился! Добейте мышонка!..»
Это будет его второе убийство. Уже серьезное – убийство человека. А потом будет третье, четвертое, пятое. А потом он испугается. Он испугается потерять счет убийствам. И тогда на торговом судне он удерет в Италию, рассчитывая черт знает на что, на какого-то почти сказочного и скорее всего уже не существующего человека, встреченного им три года назад…
Отец Сережи Малина был физик-ядерщик. Из тех, про кого Михаил Ромм снимал «Девять дней одного года». Николай Федорович успел поработать с самим Курчатовым. Позднее защитил докторскую, а в семидесятом, когда ему только-только отметили пятидесятилетний юбилей, и он только-только начал в своей лаборатории работу над новой сверхсекретной тематикой, а жена его Люда, Сережина мама, только-только сделала себе новую прическу, а сам Сережа готовился с отличием закончить шестой класс, и все они вместе собирались ехать на Юг… В общем в семидесятом, возвращаясь с дачи майским вечером, Николай Федорович вдруг перестал давить на газ, а ручку скоростей почему-то перевел в нейтралку, и уронил голову на руль, который был повернут немного вправо, и машина тихо съехала на обочину и остановилась. Гаишники в те годы работали еще исправно, да и люди добрые не ленились сообщать о происшествиях на дорогах, так что нашли его скоро, но это уже никакого значения не имело. Смерть наступила мгновенно. Все-таки, девятьсот бэр (или девять тысяч?) Сергей никогда не помнил, какая именно доза радиации является смертельной для человека, он только помнил, что отец получил этих рентген во много раз больше.
Он помнил, как пришел на следующий день в школу и на первой же перемене практически ни за что, придравшись к какой-то ерунде, жестоко побил Ваську Кудина. Васька был задира, но мелкий такой, дохлый, и бить его считалось не совсем приличным. Малин потом извинился, а Васька даже не обиделся – понял.
И было лето семидесятого на даче в Софрино. И он не очень часто играл с мальчишками, редко ходил купаться с ними и мало гонял на велосипеде. Он все больше любил оставаться один. Сидел в доме или в гамаке под березами на участке, или шел на "анизотропное шоссе". В двух километрах от дачи проходила так называемая "бетонка" – стратегическая кольцевая автодорога в радиусе сорока пяти – пятидесяти километров от Москвы, о которой все знали, но которая не была обозначена ни на одной общедоступной карте. Здесь, в районе Северной железной дороги, бетонка была чрезвычайно живописна и ввиду отсутствия вдоль нее (по определению) населенных пунктов навевала романтические ассоциации.
Сергей открыл для себя в то лето "Трудно быть богом" Стругацких и, читая пролог, представлял именно эту, летящую меж полей, зеленых лугов и березовых рощ дорогу. Вот оно – анизотропное шоссе истории. Здесь, бросив под кустами велосипед, он мог подолгу сидеть, глядя на облака в небе, на шумящие кроны деревьев, на редкие машины, проезжающие по бетонке, и мечтать о путешествиях к далеким мирам, о фантастических изобретениях, о машине времени. О машине времени он особенно часто мечтал. Он так хотел вернуться в прошлое и забрать оттуда отца, чтобы они снова были вместе. И он верил, что анизотропное шоссе – это волшебное место, что рано или поздно, здесь начнут исполняться все желания, надо только дождаться этого момента, надо иметь терпение. Он был уже не маленький, он понимал, что чудес на свете не бывает, но страшно любил фантастику, а с помощью фантастики можно было объяснить все, и притом не сказочным, а строго научным образом. И это было здорово. Да, он понимал, что все чудеса – обман, но вместе с тем верил, искренне верил и в машину времени, и в бескорыстную помощь инопланетян, которые умеют воскрешать людей. И особенно сильна была его вера здесь – на обочине "анизотропного шоссе". В этом состояла его маленькая тайна, о которой он никому, никому не рассказывал.
Тем же летом он придумал вечный двигатель.
А осенью учитель физики объяснил ему, почему любой вечный двигатель, в том числе и придуманный Сережей Малиным невозможен, но после разговора с мальчиком физик вызвал маму и посоветовал ей отдать Сережу в математическую школу. Сама идея его изобретения была крайне любопытна, а то, как семиклассник вел научный спор, вообще поразило старого опытного учителя.
Следующий, восьмой класс начался для Малина в физико-математической школе, куда он попал, с блеском пройдя собеседование. Никакой особой любви к математике и вообще к точным наукам Сергей не испытывал. Уже тогда он начал писать стихи и больше всего на свете любил поэзию. Но в математическую школу перешел охотно. Если бы существовали биологические школы, он бы и туда пошел с энтузиазмом, химические, исторические – пожалуйста, литературные – еще лучше, но таких школ не было, а учиться по обычной программе ему было скучно.
В новой школе учились почти одни мальчишки, и все очумительно умные. Девчонок было двое, не настолько умных, зато очень симпатичных, и на первое же Восьмое марта мужская половина класса, пользуясь своим численным превосходством, подарила им по огромному плюшевому медведю и по огромной же "бабаевской" шоколадке впридачу. А Сережа сочинил еще и поздравительные стихи для обеих. На следующий год он уже пел им под гитару. Это было его новое увлечение, не чуждое, кстати, и еще нескольким вундеркиндам из их класса. Одновременно с этим все повально болели шахматами, затаив дыхание следили за успехами гениального Бобби Фишера, прорабатывали, повторяя ход за ходом, его партии со Спасским, устраивали шахматные турниры между классами, даже между школами, а Сергей ухитрился еще и разряд по шахматам получить. Третьим увлечением чокнутых юных математиков было изучение языков. Незнание английского на уровне свободного чтения без словаря считалось между ними просто неприличным, а сверх того полагалось знать хотя бы еще один язык. Пришедшие из французских, немецких и испанских школ пользовались особым уважением. Сергей учился семь лет в простой английской, и в отчаянной попытке взять реванш, принялся изучать арабский. Так в школе началась мода на экзотические языки. Один брался за финский, другой уже бойко лопотал на фарси, третий таскал повсюду учебник португальского, кто-то рискнул заняться хинди, а кто-то – даже японским. Наконец, всех добил Микола (Николай, конечно, но все его так и звали – Микола) Нечипоренко, взявшийся изучать иврит.
А потом школа кончилась. И сразу все сделалось непонятно. Мама, конечно, хотела, чтобы он поступал на мехмат или в физтех и шел по стопам отца. А Сергея совсем перестала привлекать наука. Он боялся в этом признаться не только маме, но и себе. Школу-то он закончил с отличием, несмотря на все обилие посторонних увлечений, среди которых был еще и спорт.
К ужасу мамы, он занялся боксом и за неполные два года получил первый разряд, каким-то чудом даже не испортив свою внешность. Так вот. Летом семьдесят пятого подающий надежды юноша с физико-математическим складом ума мечтал одновременно о трех вещах: первое – стать великим писателем и поэтом (влияние огромного количества прочитанных книг и умение сочинять стихи и песни); второе – стать разведчиком, работающим на все разведки мира (результат увлечения языками и эффект трижды посмотренного сериала "Семнадцать мгновений весны"); третье – сделаться профессиональным спортсменом (влияние тренера по боксу). Теоретически все это было совместимо, в обратной последовательности, разумеется: спортсмен, разведчик, писатель. А вот карьера физика-ядерщика никак не вписывалась в вожделенную схему. По схеме следовало поступать в МГИМО или уж сразу в Высшую школу КГБ. Но жизнь не терпит схем, и все получилось иначе – не по его и не по маминым планам.
Был выпускной вечер. Сначала в его физматшколе, а потом в той первой, где он проучился восемь лет и куда не мог не прийти, потому что там осталась Рита Тагилова, его любовь с шестого класса.
О, какое это было прекрасное время! Когда они ходили зимой на Чистяки, а весной и осенью в Сад Баумана или Сокольники, когда он провожал ее до дома каждый день после школы и нес ее сумку, и читал ей стихи, свои и классиков. Как они разговаривали часами обо всем и ни о чем, как смотрели друг на друга! А в седьмом классе впервые поцеловались. По-настоящему. Это была очумительная любовь. И ревность была, и интриги. В Риту влюбились сразу трое мальчишек: Сергей, Виталик и Колька. В шестом классе они все дружили, чаще гуляли одни, чем с девчонками и делились друг с другом переживаниями и детскими мечтами. В седьмом начали соперничать. Сергей вышел победителем и нажил себе врагов. Теперь они уже по-серьезному дрались. А потом все кончилось. Малин перешел в новую школу, со старыми друзьями встречался редко, Риту он как бы и забыл, началась новая полувзрослая жизнь с боксом, шахматами, гитарой, с напряженной, как в вузе, учебой. Девушек в его жизни совсем не стало. Их вдруг заменили героини книг, фильмов, популярные спортсменки, он засматривался на теле– и кинокрасавиц, всерьез мечтая о знакомстве с ними. Но однажды совершенно случайно встретил Риту. Им было уже по шестнадцать. Рита стала почти женщиной. Он стал уже почти мужчиной. Совсем новое чувство проснулось в нем. Это был взрыв. Но очевидно, односторонний. Он звонил ей несколько раз, она уходила от встреч под разными предлогами. Только один раз они посидели часок в "Севере" на Пушкинской, выпили по бокалу шампанского, съели мороженого. Он планировал признаться ей в любви, но не сумел. И кажется, Рита не поняла, чего он хотел. А он тогда уже хотел всего, всего сразу, по-настоящему, по-взрослому. Но был конец мая, оба они должны были готовиться к экзаменам. И расстались на месяц.
И вот, выпускной вечер. Старая московская школа у Красных ворот. Семьдесят пятый год. Время было пьяное. Взрослость зачастую измерялась количеством выпитого. А на выпускных еще разрешалось пить шампанское, которое, конечно, втихаря из-под стола обильно разбавляли водкой. В общем все быстро делались веселыми, а в вестибюле обязательно дежурил всю ночь милиционер во избежание массовых пьяных драк. Сергей появился внезапно. И сразу все понял. Как же он, дурак, раньше не догадался. У Риты теперь был Роберт. "И давно вы знакомы?" "Да уж скоро год. Он пришел к нам в десятом классе". "И что, это серьезно?" "Очень серьезно". "А как же я?" "Не знаю. Тебя я тоже люблю". "Что?!" Они все были пьяные. И Рита с Сергеем до одурения долго целовались. Пока не пришел Роберт. Роберт был на голову выше и в полтора раза шире в плечах.
– Не надо, Роберт, – сказала Рита. – Я сама виновата.
– Надо, – сказал Роберт. И добавил шутливо: – Надо, Федя, надо.
Но очень скоро стало не до шуток. Федя, то есть Сергей разбил противнику лицо тремя точными ударами, и поединок был прекращен Ритой за явным преимуществом перворазрядника по боксу. Роберт был в глубоком нокдауне, весовая категория не помогла. Но удивительнее всего оказался финал этой истории: Рита ушла с Робертом, буквально плача от жалости к нему, а Сергей остался один. Он стоял у окна в темном классе своей родной школы, вытирал носовым платком окровавленные кулаки и думал о том, что никогда больше не будет заниматься боксом.
Никогда и нигде в животном мире самка не уходит с побежденным самцом. Только у людей. Люди вообще очень неправильные животные. Но раз уж ты человек, ты должен решать все проблемы по-людски. Сила, приятель, это еще далеко не все.
В ту ночь он напился. Мать расстроилась, конечно, но не слишком удивилась, такое с ее сыном случалось уже в третий раз. Зато бокс, на радость маме, он действительно бросил. Это было очень характерно для него – увлечься чем-то, быстро уйти с головой в новое дело, достичь немалых результатов, а потом так же внезапно утратить всякий интерес, к тому, что стало уже почти профессией. А о профессии пора было думать всерьез.
Тут-то и нарисовался у них в доме как бы возникший из небытия дядя Семен, брат отца, геолог, бродяга и романтик по натуре, типичный физик-лирик, шестидесятник диссидентского толка. Сергей видел его последний раз, когда был еще совсем мальчишкой, и теперь дядя Семен просто очаровал юношу. Решение созрело внезапно, но бесповоротно – поступать в геологоразведочный.
Однако Малин не был бы Малиным, если бы уже через полгода не выкинул следующий фортель.
Один из преподавателей физвоспитания в институте Виктор Гаврилович Карасев оказался опытным тренером по легкой атлетике. В прошлом десятиборец, он был настоящим спортсменом-фанатиком и агитировал всех ходить не на общие занятия, а в его секцию. При первом же знакомстве Малин без ложной скромности поведал ему, что вообще-то имеет второй взрослый разряд по легкой атлетике. Действительно однажды на школьных соревнованиях он прыгнул в высоту на метр семдесят пять примитивным перекидным способом (про флоп тогда еще мало кто знал) и сам даже не слишком удивился, установив новый рекорд школы – Сергей привык, что у него многое получалось легко и сразу – а учитель физкультуры на Последнем звонке неожиданно поздравил его и вручил значок и удостоверение второразрядника. Было это в общем приятно, но тогда он еще чувствовал себя боксером и быстро забыл о легкоатлетическом успехе. Вспомнил теперь.
Гаврилыч сразу потребовал продемонстрировать прыжок. Сергей с огромным запасом перелетел планку на высоте метр шестьдесят, и Гаврилыч чуть не прослезился, оценив увиденное безошибочным взглядом профессионала.
– И этот прирожденный прыгун два года своей жизни потратил на какой-то гнусный мордобой! – воскликнул он.
В общем, освоив флоп, за неполный месяц Малин довел личный рекорд до метра девяноста (это был уже первый разряд по тем временам), а через год выполнил норму мастера и был заявлен на чемпионат Союза. Внезапная нелепая травма, за которой последовало воспаление надкостницы на голени толчковой ноги, помешала его участию в крупном турнире. И Сергей увидел в этом некий знак. Подступал момент неизбежного расставания с очередным хобби. Да, он страстно любил спорт, он был настоящим спортсменом в душе, но кроме того хотел учиться, и путешествовать, и как можно больше читать, и не только на русском языке, и переводить стихи, и сочинять песни, и петь их под гитару, и развлекаться с девчонками, и гулять на пьяных вечеринках… Все это не слишком хорошо уживалось с жестким режимом профессионального спортсмена.
Малин начал пропускать тренировки. Рост его результатов прекратился, остановившись на однажды показанном во время тренировки и теперь уже недосигаемом уровне – два пятнадцать. Сергей перестал отдавать спорту всего себя –опять же на радость маме, но дядя Семен уже начал понимать, что никакого геолога, а тем более ученого, из его племянника не получится. Надо отдать должное дяде, он не считал свою профессию лучшей на свете, да и вообще во главу угла ставил другое – простую человеческую порядочность, честность, доброту и ум. Вот эти качества он в первую очередь и пытался привить талантливому мальчишке, рано потерявшему отца и с нетерпением хватающемуся за все подряд. Бывало они до глубокой ночи просиживали на кухне за чаем и говорили, говорили, говорили уже вдвоем, без сестры Катюхи, ушедшей спать, без мамы, уставшей от их бесконечных философских споров о литературе и политике.
Благодаря дяде Семену Сергей уже в те годы многое понял о стране, в которой ему довелось родиться. Ну, о сталинских-то репрессиях он знал от родителей, и к революции поэтому относился сложно. Романтики в ней пока еще виделось много, но кое-что уже настораживало: жестокость красного террора, разрушение памятников, притеснение религии, запрещение определенной литературы. Запрещенная литература – это было особенно актуально. С нее-то и начался следующий этап его прозрения.
Дядя Семен приносил в дом самиздат. Именно в семьдесят пятом Сергей и узнал впервые, что это такое – самодельно переплетенные тончайшие листы с подслеповатым машинописным шрифтом или тогда еще экзотические ксероксы на непривычно плотной бумаге. Переснятые или перепечатанные многократно, читались они зачастую с трудом, но какое это было наслаждение! Ни с чем не сравнимое, потому что через серые и блеклые страницы проступали абсолютно новые незнакомые миры – миры Солженицына и Зиновьева, миры Платонова и Набокова, мир Авторханова – мир безжалостно правдивой нашей истории и завораживающий, ошеломительный мир поэзии Бродского. Но настоящим потрясением стал для Малина Оруэлл – "Ферма животных" и "1984", особенно "1984". Это было уже в семьдесят девятом, за пять лет до обозначенного писателем года, и может быть, великий роман просто стал последней каплей для уже заполненной до краев чаши возмущения и гнева, а может быть сказалось совпадение отдельных мыслей самого Сергея с мыслями Оруэлла – но так или иначе, именно теперь, когда он прочитал о "двоемыслии", его собственное "двоемыслие" закончилось раз и навсегда. Очень разные миры очень разных авторов сложились вдруг в единый уродливый неправдоподобно страшный, но удивительно реальный мир, и это был тот самый мир, в котором ему довелось жить. Словно в детской мозаике, нашлось последнее недостающее звено, картинка сделалась цельной, и иллюзий не осталось. Совсем не осталось. Теперь он знал о чудовищной советской системе примерно столько же, сколько все остальные будут знать лишь через двенадцать лет, когда по Москве прогрохочут танки и развалится "империя зла" – Советский Союз.
Конечно, он был не один такой знающий. Но людей, понимающих ситуацию в равной мере с ним, было крайне мало. И по молодости лет он впал тогда в некую эйфорию, почувствовал себя посвященным в страшную тайную, причастным к элитарному глубоко законспирированному обществу. Потом пришло понимание: людей, посвященных полностью в страшную тайну не только крайне мало, но они еще и крайне разобщены. Собственно, объединение этих людей, было в принципе невозможно. Как объединить высшее партруководство, высшую сволочь, безусловно, знающих и понимающих все, но и готовых на все (абсолютно на все!) ради собственного благополучия и – писателей-диссидентов, творящих в стол в ожидании новых времен или выдворенных за границу; как объединить бегущих из КГБ на Запад лучших офицеров и – бегущих в Израиль евреев – учителей, врачей, ученых – лучших в стране специалистов; как объединить тех семерых, что вышли в шестьдесят восьмом на Красную площадь с лозунгом "За вашу и нашу свободу", чтоб отбывать теперь наказание неизвестно где и – таких как он, Сергей Малин, просто начитавшихся Оруэлла "под одеялом". Впрочем, попытки как раз такого объединения были. Сергей, конечно же, слышал о то и дело образующихся подпольных движениях и партиях. Но если за чтение самиздата сажали очень редко, а за распространение просто чаще, то за создание нелегальных организаций сажали обязательно, всех и очень быстро. И к тому же Сергей теперь знал, куда сажали. И путь в спецпсихушку казался ему принципиально тупиковым.
Конечно, идти против танка с шашкой наголо – это очень красиво, но только до того момента, пока кишки не начали наматываться на траки, ведь трудно увидать что-то красивое в грязно-кровавом месиве, где мозги уже не отличить от дерьма. Так что проклятый Ильич оказался беспощадно прав, когда просто и четко сформулировал в горячо любимой всеми со школьных лет работе "Партийная организация и партийная литература": "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя