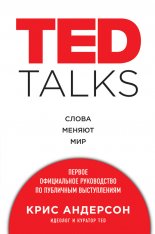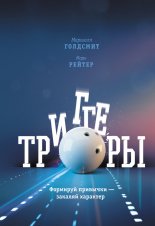Прислуга Стокетт Кэтрин

– Хорошо, папочка, – отвечала я. И это был наш единственный секрет.
Впервые меня назвали уродиной, когда мне было тринадцать. Богатый дружок моего братца Карлтона, во время охоты.
– Почему ты плачешь, детка? – встревожилась Константайн.
Я рассказала, как назвал меня тот мальчишка, а слезы рекой текли по лицу.
– Да ну? А ты и вправду уродина?
Я растерянно моргнула:
– Как это?
– Слушай внимательно, Евгения. (Константайн была единственной, кто время от времени соблюдал мамино правило.) Уродство живет внутри. Быть уродом значит быть гадким, злым человеком. Ты что, из таких?
– Не знаю. Наверное, нет, – разрыдалась я снова.
Константайн присела рядом, за кухонный стол. Я услышала, как скрипнули ее воспаленные суставы. Она крепко прижала к моей ладони свой большой палец, что означало на нашем языке «слушай и запоминай».
– Каждое утро, пока не помрешь и тебя не закопают в землю, тебе придется принимать это решение. – Константайн сидела так близко, что я могла разглядеть поры на ее черной коже. – Тебе придется спрашивать себя: «Собираюсь ли я поверить в то, что сегодня эти дураки скажут обо мне?»
Она не убирала палец от моей ладошки. Я кивнула в знак того, что понимаю. Я была достаточно сообразительной, чтобы точно знать – она говорит о белых людях. И хотя я все еще чувствовала себя несчастной и знала, что, скорее всего, действительно некрасива, Константайн впервые говорила со мной так, словно я не была белым ребенком своей матери. Всю жизнь мне втолковывали, что значит быть девочкой, как именно следует думать о политике, о цветных. Но палец Константайн, крепко прижатый к моей ладони, помог понять, что на самом деле я могу выбирать, во что верить.
Константайн приходила на работу в шесть утра, а в страду и вовсе в пять. Она успевала приготовить папе завтрак еще до того, как он отправлялся в поле. Почти каждое утро, проснувшись, я спускалась в кухню, где она уже стояла у плиты, а на столе работал радиоприемник. Константайн слушала проповедь отца Грина, завидев же меня, улыбалась:
– Доброе утро, красавица!
Я усаживалась за стол и рассказывала, что мне приснилось. Константайн считала, что сны предсказывают будущее.
– Я оказалась на чердаке, оттуда видно было ферму, – рассказывала я. – Я видела верхушки деревьев.
– Ты станешь хирургом по мозгам! Чердак означает голову.
Мама завтракала в столовой, потом уходила в гостиную вышивать или писать письма миссионерам в Африку. Со своего зеленого вращающегося кресла она могла наблюдать практически за всеми и всем в доме. Невероятно, как она умудрялась застукать меня, стоило только попытаться проскользнуть мимо двери. Я застывала на месте, чувствуя себя доской для дартса, красным центром мишени, в которую матушка метала дротики.
– Евгения, ты знаешь, что в этом доме жевательная резинка запрещена.
– Евгения, немедленно приложи спирт к синяку.
– Евгения, ступай наверх и причешись – что, если неожиданно нагрянут гости?
Я усвоила, что в носках передвигаешься гораздо тише, чем в туфлях. Я научилась пользоваться черным ходом. Научилась носить шляпы, прикрывая лицо рукой, когда проходила мимо. Но в первую очередь я усвоила, что лучшее место для меня – кухня.
Летний месяц в Лонглифе тянулся годами. Подруги навещали меня редко – мы жили слишком далеко от остальных белых соседей. Хилли и Элизабет, жившие в городе, все выходные проводили в гостях друг у друга, а мне позволялось порезвиться с подружками только раз в две недели. Я, разумеется, плакалась на тяжелую жизнь. Чаще всего я воспринимала присутствие Константайн как должное, но, думаю, все же понимала, как мне повезло, что она у меня есть.
В четырнадцать я начала курить. Сигареты таскала из пачки «Мальборо», которую Карлтон хранил в ящике комода. Ему было почти восемнадцать, и никто не возражал, что он уже давно курит где хочет – и дома, и в поле с отцом. Папа иногда курил трубку, но сигареты он не любил, а мама не курила вообще. И несмотря на то что большинство ее подруг курили, мама запретила мне даже пробовать, пока не исполнится семнадцать.
Так что приходилось пробираться во двор и устраиваться на качелях из автомобильной покрышки, где крона старого дуба надежно скрывала меня от посторонних глаз. Или поздно вечером высовываться из окна спальни и дымить. Зрение у мамы было орлиное, а вот обоняние практически нулевое. Зато Константайн все чуяла. Она чуть улыбалась, прищурившись, но молчала. Если мама направлялась в сторону черного хода, когда я пряталась за деревом, Константайн спешила на улицу и колотила ручкой щетки по металлическим поручням лестницы.
– Что это ты делаешь, Константайн? – спрашивала, бывало, мама, но я к тому моменту успевала погасить сигарету и бросить окурок в дупло дерева.
– Просто очищаю эту старую щетку, мисс Шарлотта.
– В таком случае, будь любезна подыскать более тихий способ. О, Евгения, ты, кажется, выросла за ночь еще на дюйм? Что же мне с этим делать? Ступай… надень подходящее платье.
– Хорошо, мэм, – в один голос отвечали мы с Константайн и обменивались лукавыми улыбками.
О, как чудесны общие секреты. Наверное, это похоже на отношения с сестрой или братом, близкими по возрасту. Но дело было не только в курении или играх в «кошки-мышки» с мамой. Просто рядом был человек, для которого ты важнее и лучше всех, – даже если собственная мать беснуется от того, что ты неприлично долговязая, кудрявая и нескладная. Человек, в глазах которого читаешь: «А мне ты нравишься».
Впрочем, она не любила сюсюканья. Когда мне было пятнадцать, одна девчонка, новенькая, показала на меня пальцем и громко спросила:
– А это что за аист?
Даже Хилли с трудом сдержала улыбку, оттаскивая меня в сторону, как будто мы не расслышали.
– Какой у тебя рост, Константайн? – спросила тогда я, не в силах сдержать слезы.
– А у тебя? – грозно прищурилась Константайн.
– Пять футов и одиннадцать дюймов, – прорыдала я. – Я уже выше, чем тренер по баскетболу у мальчишек.
– Ну а я пять футов тринадцать, так что довольно себя жалеть.
Константайн была единственной женщиной, на которую я смотрела снизу вверх и которой могла взглянуть прямо в глаза.
Первое, что поражало в Константайн, помимо ее роста, – глаза. Светло-карие, удивительного медового цвета – совершенно неожиданно на фоне темной кожи. Я никогда не видела у чернокожих таких светлых глаз. Вообще-то в Константайн можно было разглядеть множество оттенков коричневого. Локти у нее были абсолютно черные, а зимой они покрывались белой шелушащейся корочкой. Кожа на руках, шее и лице – черная как смоль. Ладони оранжевого оттенка, и мне всегда было любопытно – стопы тоже такого цвета или нет, но я никогда не видела Константайн босиком.
– Нынче мы с тобой только вдвоем, – сказала она как-то раз с улыбкой.
В те выходные мама с отцом повезли Карлтона смотреть Университет Луизианы и Тулейн16. В следующем году братец собирался поступать в колледж. Утром папа принес в кухню раскладушку и поставил рядом с уборной Константайн. Она всегда спала на ней, если приходилось оставаться на ночь.
– Гляди-ка, что у меня есть, – показала она на дверь в кладовку.
Я подошла, заглянула внутрь и увидела, что из сумки Константайн торчит огромный, в пятьсот деталей, пазл с изображением Маунт-Рашмор17. Это было наше любимое занятие, когда Константайн оставалась ночевать.
В тот вечер мы просидели несколько часов – жевали орешки и перебирали детальки, рассыпанные по кухонному столу. Снаружи бушевала гроза, и от этого в комнате было еще уютнее. Лампочка мигнула и вновь ярко загорелась.
– Это который? – Константайн внимательно изучала картинку на коробке сквозь очки.
– Это Джефферсон.
– О, точно. А вот этот?
– Это… – Наклоняюсь поближе. – Думаю, это… Рузвельт.
– Я тут узнаю только Линкольна. Он похож на моего отца.
Я замерла с деталькой пазла в руке. Мне исполнилось четырнадцать, я училась не ниже чем на «А». Я была умна, но удивительно наивна.
– Потому что твой отец был таким… высоким? – осторожно спросила я.
Она усмехнулась:
– Потому что мой отец был белым. Ростом я пошла в маму.
Я выронила кусочек картона:
– Твой… отец был белым, а мать… цветной?
– Угу, – отозвалась она и улыбнулась, соединив пару деталей. – Взгляни-ка. По мне, так подходит.
У меня в голове крутилось множество вопросов. Кем он был? Где он? Я знала, что он не женился на матери Константайн, потому что это незаконно. Я вытащила сигарету из своего тайного запаса, который захватила к столу. В свои четырнадцать я чувствовала себя очень взрослой, поэтому смело закурила. В тот же миг лампочка над столом мигнула, потускнела и тихонько зажужжала.
– О, папочка люби-ил меня. Всегда говорил, что я его самая любимая. – Константайн откинулась на спинку стула. – Он приходил к нам каждую субботу, а однажды подарил мне десять лент для волос, десяти разных цветов. Из настоящего японского шелка, из самого Парижа привез. Я сразу усаживалась к нему на колени и не слезала, пока ему не пора было уходить, а мама ставила пластинку Бесси Смит18 на патефон, который он ей подарил, и мы с папой пели: «Как же странно, удивительно, никто не хочет знать тебя, когда ты на мели…»
Я, совершенно обалдев, слушала, вытаращив глаза. В приглушенном свете ее голос вспыхнул невероятным сиянием. Если бы шоколад мог звучать, он запел бы голосом Константайн. Если бы у песни был цвет, она обрела бы цвет шоколада.
– Однажды у меня было очень тяжело на душе, я, наверное, думала, что есть много того, из-за чего стоит огорчаться, – бедность, холодная вода, больные зубы, всякое такое. Но он обнял мою голову, крепко прижал к себе и долго-долго не отпускал. Когда я подняла голову, то увидела, что он тоже плачет, и он… сделал то же самое, что я сделала для тебя, так что ты поймешь. Он прижал палец к моей ладошке и сказал… попросил прощения.
Мы молча смотрели на разбросанный пазл. Мама не хотела бы, чтоб я знала, что отец Константайн был белым и что он просил у нее прощения за то, что так устроен мир. Я не должна была знать подобных вещей. Я чувствовала себя так, словно получила от Константайн драгоценный подарок.
Я загасила сигарету в парадной серебряной пепельнице. Свет ярко вспыхнул вновь. Константайн улыбнулась мне, а я улыбнулась в ответ.
– Почему ты никогда прежде не рассказывала мне об этом? – спросила я, глядя ей прямо в глаза.
– Я не могу рассказывать тебе обо всем, Скитер.
– Но почему?
Она знала все обо мне, о моей семье. Разве у меня когда-нибудь были от нее секреты?
Она пристально смотрела на меня, и в ее глазах я разглядела глубокую, безнадежную печаль. Немного помолчав, Константайн сказала:
– Некоторые вещи следует держать при себе.
Когда настал мой черед отправляться в колледж, мама выплакала все глаза, пока мы с папой отъезжали от дома. Но сама я чувствовала себя свободной. Я вырвалась с фермы, убегала подальше от постоянной критики. Хотелось спросить маму: «Разве ты не рада? Разве тебе не легче оттого, что я не буду больше досаждать тебе?» Но мать выглядела совершенно убитой.
В общежитии я была самой счастливой первокурсницей. Я писала Константайн каждую неделю – рассказывала о своей комнате, о занятиях, о студенческих клубах. Письма приходилось отправлять на наш адрес, потому что в Пекло почту не доставляли; оставалось надеяться, что мама не станет вскрывать чужие письма. Константайн отвечала дважды в месяц, на листах оберточной бумаги, сложенных конвертиком. Строки, написанные большими округлыми буквами, к концу страницы совсем сползали вниз. Она описывала мельчайшие подробности жизни в Лонглифе: «Спина у меня сильно болит, но ноги еще хуже» или «Миксер сорвался с подставки, пролетел по всей кухне, кошка как заорет – и вылетела вон. С тех пор я ее не видала». Она рассказывала, что папа простудился и кашляет, что в церковь к ним приходила Роза Паркс. Частенько интересовалась, счастлива ли я, и требовала подробностей. Наши письма напоминали неторопливый разговор, многолетний обмен вопросами и ответами, в Рождество или во время летних каникул продолжавшийся лицом к лицу.
Мама в письмах ограничивалась рекомендациями типа «Не забывай молиться» или «Не носи туфли на каблуках, это делает тебя еще выше». К инструкциям был прикреплен чек на тридцать пять долларов.
В апреле моего выпускного года пришло письмо от Константайн, где говорилось: «У меня для тебя сюрприз, Скитер. Я так волнуюсь, едва могу на месте усидеть. И не спрашивай ни о чем. Сама увидишь, когда домой вернешься».
До последних экзаменов и выпускного оставался всего месяц. И это было последнее письмо от Константайн.
Я пропустила выпускную церемонию в «Оле Мисс». Все мои близкие подружки бросили учебу и вышли замуж, и я не видела смысла заставлять родителей тащиться целых три часа в один конец, только чтобы посмотреть, как я иду по сцене, – мама все равно предпочла бы увидеть, как я иду по проходу к алтарю. От «Харпер и Роу» ответа все не было, поэтому, вместо того чтобы купить билет на самолет до Нью-Йорка, я отправилась домой в «бьюике» второкурсницы Кей Тернер, зажатая между моей пишущей машинкой и свадебным платьем Кей. В следующем месяце Кей Тернер выходила замуж за Перси Стэнфора. И битых три часа я выслушивала ее беспокойства по поводу свадебного торта.
Дома мама чуть отступила назад, чтобы разглядеть меня получше.
– Что ж, кожа у тебя прекрасная, – констатировала она. – Но волосы… – И вздохнула, покачав головой.
– Где Константайн? – спросила я. – В кухне?
И тут мама спокойно, словно повторяя прогноз погоды, сообщила:
– Константайн здесь больше не работает. Давай поскорее распакуем все эти чемоданы, пока одежда не измялась окончательно.
Я недоуменно моргала, подумав, что не расслышала:
– Что ты сказала?
Мама выпрямилась, разгладила складки на платье:
– Константайн больше нет, Скитер. Она уехала к своим родственникам в Чикаго.
Нет, сюрприз Константайн заключался не в этом. Такую ужасную новость она сообщила бы мне сразу.
Мама глубоко вдохнула и продолжила:
– Я не велела Константайн писать тебе об отъезде. Не во время выпускных экзаменов. Что, если бы ты провалилась и пришлось оставаться еще на год? Господь свидетель, четырех лет в колледже более чем достаточно.
– И она… согласилась? Не писать мне и не сообщить, что уезжает?
Мама со вздохом отвернулась.
– Мы обсудим это позже, Евгения. Пойдем в кухню, я познакомлю тебя с новой прислугой, Паскагулой.
Но я не пошла с мамой в кухню. Я смотрела на чемоданы, в ужасе от мысли, что придется их распаковать. Дом казался огромным и пустым. Вдалеке, на хлопковом поле, гудел комбайн.
К сентябрю я утратила надежду не только получить ответ от «Харпер и Роу», но и отыскать Константайн. Похоже, никто понятия не имел, как с ней связаться. В конце концов я перестала расспрашивать окружающих, почему Константайн уехала. Она словно просто исчезла. Пришлось признать, что Константайн, единственный верный союзник, оставила меня лицом к лицу с этими людьми.
Глава 6
Жарким сентябрьским утром прсыпаюсь в своей детской кровати, сую ноги в сандалии, которые братец Карлтон привез мне из Мексики. Видимо, мужские, потому что ножки мексиканских девушек не вырастают до размера девять с половиной. Мама терпеть не может эти сандалии, говорит, они омерзительно выглядят.
Поверх ночной рубашки натягиваю старую отцовскую рубаху и выскальзываю за дверь. Мама на задней террасе с Паскагулой и Джеймисо, следит, как они открывают устриц.
– Никогда не оставляй негра с негритянкой наедине без присмотра, – когда-то давным-давно шепотом намекнула мне мама. – Они не виноваты, просто они так устроены.
Спускаюсь к почтовому ящику посмотреть, не пришла ли заказанная по почте книжка «Над пропастью во ржи». Запрещенные книги я всегда заказываю у книготорговца в Калифорнии, рассудив, что, если штат Миссисипи запретил их, книги наверняка стоящие. К концу дорожки сандалии и щиколотки покрываются чудесной желтой пылью.
По другую сторону ограды расстилаются ярко-зеленые хлопковые поля, усеянные раскрытыми коробочками. Несколько участков отец потерял из-за дождей в прошлом месяце, но большая часть посевов созрела неповрежденной. Листья покрыты коричневыми пятнышками дефолианта, и в воздухе все еще чувствуется кисловатый химический запах. На окружном шоссе ни одной машины. Открываю почтовый ящик.
Вот оно, под маминым «Женским домашним журналом», письмо, адресованное мисс Евгении Фелан. Красный штамп в углу: «Издательство “Харпер и Роу”». Вскрываю конверт тут же, прямо в одной ночной сорочке и старой отцовской рубахе.
4 сентября 1962 года
Уважаемая мисс Фелан,
Я лично отвечаю на Ваше письмо, поскольку полагаю восхитительным, что юная леди без всякого опыта работы пытается получить должность редактора в таком престижном издательстве, как наше. Для подобной должности необходим как минимум пятилетний опыт работы по специальности. Вы бы знали это, если бы потрудились навести справки.
Однако, будучи в свое время столь же амбициозной юной леди, я решила дать Вам совет: обратитесь в местную газету и поработайте там для начала. В своем письме Вы сообщили, что Вам «безмерно нравится писать». Всякий раз, когда не заняты работой на мимеографе или не готовите кофе своему боссу, внимательно смотрите вокруг, наблюдайте, исследуйте и пишите.
Не тратьте время на очевидные вещи. Пишите о том, что Вас волнует, особенно если никому больше до этого нет дела.
Искренне Ваша
Элейн Штайн,главный редактор, отдел художественной литературы.
Под напечатанным текстом приписка от руки, синими чернилами, неразборчивым почерком:
P. S. Если Вы серьезно, я охотно просмотрю Ваши наброски и выскажу свое мнение. Я предлагаю это, мисс Фелан, вовсе не из корыстных соображений, а просто потому, что некогда то же самое сделали и для меня.
Грузовик, полный хлопка, загрохотал по шоссе. Негр на пассажирском сиденье едва не вывалился из кабины, глазея на меня. Я совершенно забыла, что я – белая девушка в полупрозрачной ночной рубашке. Я только что получила письмо из Нью-Йорка – пожалуй, многообещающее – и замерла возле калитки, повторяя вслух: «Элейн Штайн». Никогда в жизни не встречалась с евреями.
Мчусь обратно к дому, стараясь не сильно сжимать письмо в руке. Не хочу, чтобы оно помялось. Взлетаю вверх по лестнице, провожаемая мамиными воплями, чтобы я немедленно сняла эти вульгарные мексиканские мужские башмаки, – необходимо немедленно записать все, что меня, черт побери, волнует в этой жизни, особенно то, до чего остальным нет дела. Слова Элейн Штайн расплавленным серебром текли по моим жилам, и я печатала с немыслимой скоростью. Список, оказывается, довольно длинный.
На следующий день я готова отправить Элейн Штайн свое первое письмо с перечислением идей, которые я полагаю достойным материалом для журналиста: чудовищная неграмотность населения Миссисипи; многочисленные аварии по вине пьяных водителей в нашем округе; ограниченные возможности для профессиональной карьеры женщин.
И лишь отправив письмо, понимаю, что, пожалуй, выбрала темы, которые могли бы произвести впечатление на нее, а вовсе не те, которые в действительности интересовали меня.
Глубоко вдохнув, тяну на себя тяжелую стеклянную дверь. Изящный колокольчик как-то женственно звякает. Гораздо менее женственная секретарша вопрошающе глядит на меня. Она такая огромная, что в маленьком деревянном кресле ей явно неудобно.
– Добро пожаловать в «Джексон джорнал». Чем могу служить?
О встрече я договорилась еще позавчера, не прошло и часа после получения письма от Элейн Штайн. Я спросила, нет ли у них любой свободной вакансии. И удивилась, что собеседование назначили так скоро.
– У меня встреча с мистером Голденом.
Секретарша поднимается и вперевалку ковыляет к двери в дальнем конце приемной. Я пытаюсь унять дрожь в руках. Заглядываю в приоткрытую дверь, вижу маленькую комнату с деревянными стенными панелями. Четверо мужчин в деловых костюмах барабанят по пишущим машинкам и черкают карандашами. Сутулые, измученные, трое из них почти лысые – уцелела лишь скромная подковка волос на затылке. В комнате клубится сигаретный дым.
Вновь появляется секретарша и, не выпуская из руки сигареты, манит меня пальцем:
– Ступайте вон туда.
Прохожу мимо разглядывающих меня мужчин, сквозь клубы дыма, в дальний кабинет.
– Закрывайте дверь! – орет мистер Голден, стоит мне переступить порог. – Не впускайте сюда этот чертов дым.
Мистер Голден встает из-за стола. Он дюймов на шесть ниже меня, одет элегантно, моложе моих родителей. У него длинные зубы, сальные черные волосы и глумливая усмешка гадкого типа.
– Вы что, не знаете? – возмущается он. – На прошлой неделе сообщили, что сигареты смертельно опасны.
– Я ничего об этом не слышала. (Надеюсь, этой информации не было на первой странице его газеты.)
– Дьявол, я знаю столетних ниггеров, которые выглядят моложе, чем эти идиоты. – Он усаживается на место, но я продолжаю стоять, потому что других стульев в кабинете нет. – Ладно, давайте посмотрим, что там у вас.
Протягиваю свое резюме и несколько статей, которые написала еще в школе. Всю мою жизнь «Джорнал» валялась у нас на кухонном столе, раскрытая на фермерских отчетах или местных спортивных новостях. Сама я редко читала эту газету.
Мистер Голден не просто просматривает мои бумаги, он редактирует их красным карандашом.
– Три года редактор «Мюрра Хай», два года редактор «Ребел Роузер», три года редактор «Кси Омега», специальность – английский и журналистика, четвертая в выпуске… Черт побери, девочка, – бормочет он, – у тебя что, в жизни не было ничего интересного?
– А это… – Чуть откашлявшись, я решаюсь подать голос: – Это важно?
Он поднимает взгляд.
– Вы необычайно высокого роста, но, полагаю, такая симпатичная девушка, как вы, встречалась с целой баскетбольной командой.
Смотрю на него, недоумевая, издевка это или комплимент.
– Надо думать, в уборке вы разбираетесь… – Он вновь переводит взгляд на мои статьи, испещренные яростными красными пометками.
Мое лицо стремительно вспыхивает.
– Уборке? Я здесь не для того, чтобы убирать. Я пришла, чтобы писать.
Сигаретный дым просачивается из-под двери. Словно в здании пожар. Какой же я была дурой, решив, что могу запросто прийти и получить работу журналиста.
С тяжелым вздохом он протягивает мне толстую стопку исписанных листов:
– Вот и будете писать. Мисс Мирна, недовольная всем, покинула нас, напилась лака для волос или чего-то в этом роде. Прочтите письма, напишите ответы в ее стиле, никто, черт побери, и не заметит разницы.
– Я… что? – И я беру эту толстую стопку, потому что не знаю, что еще могу сделать. Понятия не имею, кто такая мисс Мирна. И задаю единственный вопрос, который вертится в голове: – Сколько, вы говорите… будете платить?
Он, как ни странно, окидывает меня восхищенным взором – от туфель на плоской подошве до плоской прически. Некий инстинкт подсказывает мне, что следует улыбнуться и поправить волосы. Чувствую себя глупо, но так и делаю.
– Восемь долларов, каждый понедельник.
Киваю, прикидывая, как бы выяснить, какого рода работа мне предстоит, не разоблачив себя.
Он подается вперед:
– Вы ведь знаете, кто такая Мисс Мирна, верно?
– Разумеется. Мы… с девочками всегда ее читаем, – уверенно вру я, и мы вновь долго молча смотрим друг на друга. Где-то трижды звонит телефон.
– И что? Восьми долларов недостаточно? Господи, женщина, тогда иди отмывай туалет мужа бесплатно!
Закусываю губу. Но, прежде чем успеваю издать хоть один звук, он раздраженно закатывает глаза:
– Ну хорошо, десять. Работа должна быть готова к четвергу. И если мне не понравится ваш стиль, я не стану это печатать и платить за это.
Забираю папку, рассыпаясь в благодарностях – гораздо более жарких, чем следовало бы. Он, не обращая внимания, снимает телефонную трубку и начинает разговор, прежде чем я выхожу за дверь. Добравшись до машины, откидываюсь на мягкое кожаное сиденье «кадиллака». Перебираю странички из папки и улыбаюсь от уха до уха.
Я только что получила работу.
Домой вхожу, распрямив спину – впервые с тех пор, как в двенадцать лет у меня начался бурный рост. Меня распирает от гордости. Каждая клеточка мозга протестует, но я не могу устоять и не рассказать все матери. Врываюсь в гостиную и сообщаю, что нашла работу – буду вести, в качестве Мисс Мирны, еженедельную колонку хозяйственных советов.
– Какое счастье… – Мамин вздох недвусмысленно означает, что в таком случае и жить не стоит. Паскагула охлаждает для нее чай.
– Это, по крайней мере, начало, – защищаюсь я.
– Начало чего? Раздачи советов по домоводству, в то время как… – Новый вздох, долгий и медленный, как звук спускающей шины.
А вдруг весь город будет думать точно так же? Радость постепенно улетучивается.
– Евгения, ты понятия не имеешь даже о том, как чистить серебро, что уж говорить о поддержании чистоты в доме.
Прижимаю папку к груди. Мама права, я ведь не сумею ответить ни на один вопрос. И все же могла хотя бы порадоваться за меня.
– А уж сидя за пишущей машинкой, ты никогда ни с кем не познакомишься. Евгения, надо хоть немного соображать.
Гнев вскипает во мне, я выпрямляюсь еще больше.
– Ты думаешь, я хочу жить здесь? С тобой? – Хохочу я в надежде ранить ее чувства.
Короткая вспышка боли в глазах. Губы сжимаются в ниточку. Но я не намерена брать свои слова обратно, потому что наконец-то – наконец-то – высказала то, что ей пришлось дослушать.
Я не собираюсь уходить. Я хочу услышать ответ. Хочу услышать ее извинения.
– Я должна… спросить тебя кое о чем, Евгения. – Мама судорожно комкает в руках носовой платок. – Я как-то читала, что… некоторые девушки, неуравновешенные, начинают думать… ну, у них появляются неестественные мысли.
Понятия не имею, о чем она толкует. Смотрю на вентилятор под потолком. Похоже, он крутится чересчур быстро. Клац-клац-клац…
– Ты… тебя… привлекают мужчины? У тебя нет неестественных мыслей по поводу… – Она крепко зажмуривается. – Девочек или… женщин?
Вот здорово было бы, если б вентилятор сейчас сорвался и рухнул на нас.
– Потому что в той статье говорилось, что от этого есть лекарство, особый отвар из корней…
– Мама, – произношу я, не открывая глаз. – Я так же мечтаю о девушках, как ты мечтаешь о… Джеймисо. – И направляюсь к двери. Но напоследок бросаю взгляд через плечо. – Ты ведь не мечтаешь о нем, верно?
Мама, возмущенно вскрикнув, подскакивает. А я с грохотом взбегаю вверх по лестнице.
На следующий день складываю аккуратной стопочкой письма Мисс Мирне. В кошельке у меня тридцать пять долларов – ежемесячная выплата, которую продолжает выдавать мне мама. Спускаюсь вниз, со сладчайшей христианской улыбочкой на лице. Живя дома, я вынуждена просить у матери ее машину. А значит, она поинтересуется, куда я собралась. А значит, я вынуждена постоянно ей лгать, а это хоть и приятно, но вместе с тем несколько унизительно.
– Я собираюсь в церковь, узнать, не нужно ли чем-то помочь в подготовке к воскресной школе.
– О, чудесно, дорогая. Можешь не спешить.
Вчера вечером я решила, что для ведения колонки мне необходима помощь профессионала. Первой мыслью было попросить Паскагулу, но я с ней едва знакома. Вдобавок мать наверняка опять поднимет шум и примется пилить меня за все подряд. Служанка Хилли, Юл Мэй, такая стеснительная, что едва ли получится ее упросить. Единственная прислуга, с которой я часто встречаюсь, это Эйбилин, работающая у Элизабет. Эйбилин чем-то напоминает Константайн. К тому же она намного старше меня и, должно быть, очень опытна.
По пути к Элизабет заезжаю в «Бен Франклин», покупаю папку, коробку карандашей, блокнот в голубой обложке. Завтра в два часа дня моя первая колонка должна лежать на столе у мистера Голдена.
– Скитер, входи.
Элизабет открывает дверь, и я пугаюсь, что Эйбилин сегодня не работает. Элизабет в голубом халате, волосы накручены на гигантские бигуди, отчего голова кажется огромной, а тело еще более тщедушным, чем на самом деле. Элизабет носит бигуди целые дни напролет, а жидкие волосы все не становятся пышными.
– Прости, я не в форме. Мэй Мобли подняла меня посреди ночи, а сейчас еще Эйбилин куда-то подевалась.
Вхожу в крошечную прихожую. В этом доме низкие потолки и маленькие комнаты. Все выглядит каким-то потрепанным – выцветшие голубые шторы, вытертое покрывало на диване. Я слышала, дела у Рэйли идут неважно. Может, в Нью-Йорке или где-нибудь еще это и нормально, но в Джексоне, штат Миссисипи, люди не желают вести бизнес с грубым и снисходительным ослом.
Перед домом я заметила машину Хилли, но самой ее нигде не видно. Элизабет садится за швейную машинку, взгромоздив ее прямо на обеденный стол, и сообщает:
– Я почти закончила. Остался последний шов.
Через минуту поднимается, встряхивает в руках зеленое платье с круглым белым воротничком.
– Скажи честно, – шепчет она с мольбой в глазах. – Оно выглядит как самодельное?
Подол с одной стороны длиннее, воротничок морщит, а манжеты перекошены.
– Стопроцентно покупное. Прямо из «Мезон Бланш».
Для Элизабет это магазин мечты. Пять этажей дорогой одежды на Канал-стрит в Новом Орлеане, одежды, которую невозможно отыскать в Джексоне.
Элизабет благодарно улыбается, а я интересуюсь:
– Мэй Мобли спит?
– Наконец-то! – Элизабет сердито поправляет выбившуюся из бигуди прядь. Порой, когда она говорит о дочери, в голосе прорываются резкие ноты.
Открывается дверь гостевой ванной, и на пороге возникает Хилли со словами:
– Так гораздо лучше. Теперь у всех есть свое место.
Элизабет с преувеличенной озабоченностью поправляет иголку в машинке.
– Можешь передать Рэйли, что я сказала «Вы молодцы», – добавляет Хилли, и до меня доходит, о чем идет речь. Отныне у Эйбилин есть в гараже своя уборная.
Хилли улыбается – ее «Инициатива» начинает действовать.
– Как поживает твоя мама? – спрашиваю я, хотя точно знаю, что это крайне неприятная для нее тема. – Она нормально устроилась в доме престарелых?
– Надеюсь. – Хилли одергивает красный джемпер, прикрывающий складки жира на талии. Брюки в красно-зеленую клетку создают иллюзию аппетитных округлостей сзади. – Разумеется, она не ценит все, что я делаю. Мне пришлось уволить ее служанку, которая пыталась стащить серебро прямо у меня под носом. – Хилли прищуривается: – А кстати, никто из вас не слышал, эта Минни Джексон работает где-нибудь?
Мы отрицательно мотаем головами.
– Сомневаюсь, что ей удастся найти работу в этом городе, – замечает Элизабет.
Хилли согласно кивает, на миг задумавшись. Делаю глубокий вдох, сгорая от желания сообщить свою новость, и выпаливаю:
– Я получила работу в «Джексон джорнал»!
В комнате повисает тишина. Потом Элизабет взвизгивает от восторга. Хилли улыбается мне с такой гордостью, что я смущенно краснею и пожимаю плечами, словно в этом нет ничего особенного.
– С их стороны было бы крайне глупо не взять тебя, Скитер Фелан. – Хилли поднимает стакан с чаем, словно произнося тост.
– Э-э… хм, кто-нибудь из вас когда-нибудь читал колонку Мисс Мирны? – робко спрашиваю я.