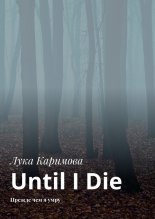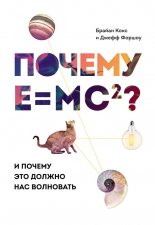Тьма, – и больше ничего (сборник) Кинг Стивен

Арлетт.
Да.
Потому что именно она оставила эти две купюры в красной шляпе продажной женщины, чтобы я их нашел. Теперь вы видите ее дьявольский замысел? Не эти сорок долларов добили меня, а разница между ними и суммой, которую Коттери потребовал на учителя для своей беременной дочери. Он хотел, чтобы она изучала латынь и не отставала в тригонономии.
35, 35, 35.
Я думал о деньгах, которые требовались Харлу на учителя, остаток недели и выходные дни тоже. Иногда доставал эти две купюры — я их расправил, но все перегибы остались — и смотрел на них. В воскресенье принял решение. Сказал Генри, чтобы в понедельник он отправлялся в школу на «Модели-Т», потому что грузовик требовался мне самому для поездки в Хемингфорд-Хоум. Надо было повидаться с мистером Стоппенхаузером из банка насчет краткосрочной ссуды. Маленькой ссуды. Всего тридцать пять долларов.
— Зачем тебе эти деньги? — Генри сидел у окна и задумчиво смотрел на темневшее западное поле.
Я ему рассказал. Думал, мой ответ приведет к очередному спору о Шеннон, и в каком-то смысле мне этого хотелось. Он ничего не говорил о ней всю неделю. Я знал, что Шен увезли. Мерт Донован просветил меня, когда заглянул за посевной кукурузой. «Поехала в какую-то модную школу в Омахе. Что ж, будет очень умной, вот что я думаю. Если женщины хотят голосовать, им лучше учиться. Хотя, — продолжил он после паузы, — моя делает то, что я ей говорю. И правильно, это для ее же блага».
Если я узнал, что Шеннон увезли, Генри тоже узнал и, возможно, раньше меня: в школе новости распространяются быстро. Но со мной он не поделился. Наверное, я пытался дать ему шанс выплеснуть все обиды и обвинения. Неприятно, конечно, но в долгосрочной перспективе могло принести пользу. Язве нельзя позволять гноиться — ни на лбу, ни под ним, в мозгу. Если такое происходит, заражение расползается по всему организму.
Но сын лишь буркнул что-то невразумительное, и я попытался задеть его сильнее:
— Мы с тобой разделим расходы. К Рождеству придется возвращать уже тридцать восемь долларов. По девятнадцать на каждого. Я вычту твои из тех денег, которые причитаются тебе за работу на ферме.
Конечно же, думал я, он вспылит… но вновь услышал в ответ невразумительное бурчание. Он даже не стал возражать против того, чтобы поехать в школу на «Модели-Т», хотя говорил, что другие ученики смеются над этой колымагой, называют ее «Жоподробилка Хэнка».
— Сынок!
— Что?
— Ты в порядке?
Он посмотрел на меня и улыбнулся. Во всяком случае, его губы изогнулись.
— Все у меня хорошо. Удачи тебе завтра в банке, папка. Я пошел спать.
— Ты меня поцелуешь? — спросил я, когда он встал.
Он поцеловал меня в щеку. Последний раз.
Генри поехал на машине в школу, я — на грузовике в Хемингфорд-Хоум, где мистер Стоппенхаузер пригласил меня в свой кабинет после короткого пятиминутного ожидания. Я изложил причину приезда, но не стал вдаваться в детали, сказав, что деньги нужны мне на личные нужды. Полагал, что такая мизерная сумма не требует дополнительных объяснений, и не ошибся. Когда я закончил, он, сцепив пальцы, положил руки на стол и посмотрел на меня чуть ли не с отеческой строгостью. В углу напольные часы «Регулятор» тихонько отсчитывали секунды. С улицы донесся куда более громкий треск двигателя. Его заглушили, последовала пауза, потом завелся другой двигатель. Мой сын приехал на «Модели-Т» и теперь уезжал на моем грузовике? Я не мог знать этого наверняка, но предполагал, что так и есть.
— Уилф, — начал мистер Стоппенхаузер, — прошло слишком мало времени, чтобы ты пережил случившееся с твоей женой — я про ее внезапный отъезд. Ты уж извини, что я коснулся столь болезненной темы, но мне кажется, это правильно, поскольку кабинет банкира в чем-то сравним с исповедальней священника. И я собираюсь поговорить с тобой, как голландский дядюшка.[15] И это логично, ведь мои родители прибыли оттуда.
Однажды я эту шутку слышал — и скорее всего ее слышали едва ли не все посетители этого кабинета — и почтительно улыбнулся, как бы признавая за ним право на иронию и поучение.
— Одолжит тебе «Хоум бэнк энд траст» тридцать пять долларов? Безусловно. Я бы одолжил их сам, достав из собственного бумажника, да только обычно ношу с собой сумму, необходимую на ленч в «Превосходном ресторане» да на чистку обуви. Деньги — постоянное искушение, даже для такого хитрого, умудренного жизненным опытом парня, как я, а кроме того, бизнес превыше всего. Но! — Он назидательно поднял палец. — Тебе не нужны тридцать пять долларов.
— Увы, нужны. — Я задался вопросом: а знает ли он, зачем именно? Он действительно был хитрым, умудренным жизненным опытом парнем. Но таким же был и Харлан Коттери, а тот, как выяснилось, дал маху.
— Нет, не нужны. Тебе нужны семьсот пятьдесят долларов, вот что тебе нужно, и ты можешь получить их сегодня. Или положи их на счет, или выйди с ними на улицу, мне все равно. Ты оплатил закладную за свой дом три года назад. Дом целиком и полностью принадлежит тебе. Так что нет абсолютно никакой причины не подписать еще одну закладную. Это делается постоянно, мой мальчик, причем нашими лучшими людьми. Ты бы удивился, узнав, какие бумаги лежат в нашем сейфе. От лучших людей. Да, сэр.
— Премного вам благодарен, мистер Стоппенхаузер, но я так не думаю. Эта закладная серым облаком висела над моей головой, пока я по ней не расплатился, и…
— Уилф, так об этом же и речь! — Палец вновь поднялся. На этот раз закачался из стороны в сторону, словно маятник «Регулятора». — Именно об этом! Люди, которые берут деньги под закладную, думают, будто вышли под ясное солнышко, а заканчивают тем, что не выполняют своих обязательств и лишаются ценной собственности. А такие, как ты, для кого закладная — тачка с камнями, которую надо везти и везти, всегда расплачиваются по долгам. Или ты хочешь мне сказать, что в ферму не надо вкладывать деньги? Не надо чинить крышу? Не надо подкупить домашней скотины? — Он с озорным видом взглянул на меня. — Может, даже провести в дом водопровод, как сделал твой сосед? Все это окупается, знаешь ли. После разных улучшений ферма подорожает на сумму, значительно превышающую закладную, Уилф! Вложенные деньги окупятся многократно!
Я обдумал его слова.
— Искушение велико, сэр. Не буду лгать насчет этого…
— И не надо. Кабинет банкира, исповедальня священника — разница невелика. Лучшие люди округа сидели в этом кресле, Уилф. Самые лучшие.
— Но я пришел лишь за краткосрочной ссудой, которую вы — и за это вам огромное спасибо — одобрили. А это ваше неожиданное предложение… Над ним нужно подумать. — Новая мысль пришла в голову и сразу мне понравилась. — Я должен поговорить об этом с моим мальчиком, Генри — Хэнком, как ему теперь нравится себя называть. Он уже в таком возрасте, когда с ним следует советоваться, ведь все мое со временем будет принадлежать ему.
— Понимаю, очень даже понимаю. Но, подписав закладную, ты поступишь правильно, поверь мне. — Стоппенхаузер поднялся и протянул руку. Я ее пожал. — Ты пришел сюда, чтобы купить рыбку, Уилф. Я предлагаю тебе приобрести удочку. Гораздо лучшая сделка.
— Спасибо вам, — ответил я, а уходя из банка, подумал: Я переговорю об этом с сыном. Хорошая мне пришла в голову мысль. Теплая мысль, согревшая сердце, которое зябло не один месяц.
Разум так странно устроен, правда? Сосредоточившись на предложении мистера Стоппенхаузера, я почти не обратил внимания на то, что грузовик, на котором я приехал, заменен легковушкой, на которой Генри уезжал в школу. Не представляю, как отреагировал бы, даже если бы голову занимали менее важные проблемы. Оба автомобиля я знал как свои пять пальцев. Оба принадлежали мне. До меня дошло, что машина другая, лишь когда я сунулся в кабину, чтобы взять заводную ручку, и увидел прижатый камнем сложенный лист бумаги, лежавший на водительском сиденье.
Я на какие-то мгновения застыл, заглядывая в кабину легковушки, одной рукой опираясь о борт, а вторую сунув под сиденье, где мы держали заводную ручку. Наверное, я знал, почему Генри удрал из школы и поменял автомобили, даже до того, как вытащил листок из-под импровизированного пресс-папье. Для дальней поездки грузовик надежнее. Скажем, для поездки в Омаху.
Папка!
Я должен взять грузовик. Полагаю, ты догадался, куда я еду. Оставь меня в покое. Я знаю, ты можешь послать шерифа Джонса, чтобы он привез меня домой, но я расскажу все, если ты это сделаешь. Ты, возможно, думаешь, что я изменю свое мнение, потому что я «всего лишь ребенок», НО Я НЕ ИЗМЕНЮ. Без Шен мне на все наплевать. Я люблю тебя, папка, пусть даже и не знаю почему, раз уж все, что мы сделали, приносит мне несчастье.
Твой любящий сын
Генри Хэнк Джеймс.
Домой я ехал как в забытьи. Думаю, кто-то махал мне рукой… кажется, даже Салли Коттери, которая стояла в придорожном овощном киоске Коттери, и, наверное, я помахал в ответ, но точно не помню. Впервые после того, как шериф Джонс заявился на ферму, задавая свои веселые, не требующие ответа вопросы и разглядывая все холодными, ничего не упускающими глазами, электрический стул представился мне реальной перспективой, настолько реальной, что я буквально чувствовал, как кожаные ремни затягиваются на моих запястьях и лодыжках.
Я знал, что Генри поймают, независимо от того, обращусь я к шерифу или нет. Мне это казалось неизбежным. Денег у него не было, даже жалких центов, чтобы заправить бак, так что он не доехал бы и до Элкхорна, а потом ему пришлось бы идти пешком. А если бы ему удалось украсть горючку, его поймали бы на подходе к тому месту, где теперь жила Шеннон. (Генри предполагал, что она там как заключенная, ему и в голову не приходило, что она может быть гостьей.) Конечно же, Харлан сообщил тамошней начальнице — сестре Камилле — приметы Генри. Даже если он и не рассматривал возможности того, что разъяренный лебедь появится там, где поселили его возлюбленную, сестра Камилла об этом думала. По роду своей деятельности ей, конечно, доводилось сталкиваться с разъяренными лебедями.
Я надеялся только на одно: попав в полицию, Генри будет хранить молчание достаточно долго, чтобы сообразить — причиной его задержания стали собственные глупые романтические идеи, а не мое вмешательство. Надеяться, что подросток поведет себя здраво — все равно что поставить на скачках на заведомого аутсайдера и уйти с ипподрома с выигрышем, но что еще мне оставалось?
И когда я въехал во двор, у меня появилась дикая мысль: не выключая двигателя легковушки, собрать вещи и укатить в Колорадо. Идея прожила не дольше двух секунд. Деньги у меня были — семьдесят пять долларов, — но машина сломалась бы задолго до того, как я пересек бы границу штата в Джулсбурге. Но эту проблему, будь она главной, я бы решил. Всегда мог поехать в Линкольн и обменять «Модель-Т», доплатив шестьдесят долларов, на более надежный автомобиль. Нет, меня остановила ферма. Дом. Мой дом. Я убил жену, чтобы сохранить его, и не собирался покидать дом только потому, что глупый, не успевший повзрослеть сын отправился в свой романтический поход. Если бы я и покинул ферму, то не для того, чтобы сбежать в Колорадо. Отсюда я мог уехать только в одно место — в тюрьму штата. И туда меня доставили бы в цепях.
Случилось все это в понедельник. Вторник и среда не принесли никаких вестей. Шериф Джонс не приезжал, желая сказать, что Генри арестовали, когда он голосовал на шоссе Линкольн — Омаха, и Харлан Коттери не появлялся с сообщением (демонстрируя пуританскую удовлетворенность, конечно же), что полиция Омахи арестовала Генри по требованию сестры Камиллы и в настоящее время он сидит в кутузке, рассказывая дикие истории о ножах, колодцах и джутовых мешках. На ферме царила тишина и покой. Я работал в огороде — собирал урожай овощей, чинил изгороди, доил коров, кормил кур, но делал все как автомат. В глубине души я верил, действительно верил, что все это — долгий и ужасный, невероятно запутанный сон, и, проснувшись, я увижу похрапывающую рядом со мной Арлетт и услышу стук топора Генри, колющего дрова, чтобы утром разжечь печь.
Наконец, в четверг миссис Макреди — милая и полная вдова, преподававшая основные предметы в школе Хемингфорда, — приехала на своей «Модели-Т», чтобы узнать, все ли в порядке с Генри.
— Вы знаете, по городу ходит какая-то желудочная инфекция. Вот я и подумала, а вдруг он заболел. Он так внезапно ушел из школы, — объяснила она свой приезд.
— Он заболел, это точно, — кивнул я, — только болезнь эта называется любовь, а не расстройство желудка. Он убежал из дома, миссис Макреди. — Неожиданно на глаза навернулись слезы, горячие и жгучие. Я достал платок из нагрудного кармана комбинезона, но несколько слезинок скатились по щекам до того, как я их вытер.
Когда в глазах у меня вновь прояснилось, я увидел, что миссис Макреди, любившая всех своих учеников, даже самых трудных, сама на грани слез. Она, должно быть, и без меня знала про «болезнь» Генри.
— Он вернется, мистер Джеймс. Не беспокойтесь. Я видела такое раньше и рассчитываю увидеть еще не раз до того, как выйду на пенсию, хотя ждать этого осталось недолго. — Она понизила голос, словно боялась, что петух Джордж или кто-то из его гарема мог оказаться шпионом. — Кого вы должны опасаться, так это ее отца. Он безжалостный и непреклонный. Не такой уж плохой человек, но безжалостный.
— Знаю, — ответил я. — И полагаю, вам известно, где сейчас его дочь.
Она опустила глаза. Другого ответа мне не требовалось.
— Спасибо, что приехали, миссис Макреди. Могу я попросить вас никому не рассказывать о нашей встрече?
— Разумеется… но дети уже шепчутся.
Да. Не могут не шептаться.
— У вас есть телефон, мистер Джеймс? — Она осмотрелась в поисках телефонных проводов. — Я вижу, нет. Не важно. Если я что-нибудь услышу, то просто приеду и скажу вам.
— Услышите раньше Харлана Коттери и шерифа Джонса?
— Бог позаботится о вашем сыне. И о Шеннон тоже. Знаете, они действительно были такой славной парой, все это видели. Иногда фрукт созревает слишком рано и мороз его убивает. Так печально. Очень, очень печально.
Она пожала мне руку — крепко, как мужчина, — и уехала на своем дешевом автомобильчике. Не думаю, что она отдавала себе в этом отчет, но в конце она заговорила о моем сыне и Шеннон в прошедшем времени.
В пятницу приехал шериф Джонс, за рулем автомобиля с золотой звездой на дверце. И не один — следом катил мой грузовик. Мое сердце радостно подпрыгнуло, когда я увидел грузовик, и упало, когда я рассмотрел водителя — Ларса Олсена.
Я изо всех сил старался сохранять спокойствие, пока Джонс исполнял Ритуал прибытия: подтянуть штаны, вытереть лоб (хотя день выдался холодным, а небо затягивали облака), пригладить волосы. Не получилось.
— Он в порядке? — спросил я. — Вы его нашли?
— Нет, к сожалению, не могу сказать, что нашли. — Шериф поднялся по ступенькам на крыльцо. — Обходчик обнаружил грузовик к востоку от Лайм-Биска, но никаких следов парня. Мы могли бы больше знать о его состоянии, если бы вы сразу сообщили о его побеге, так ведь?
— Я надеялся, Генри вернется сам, — пробубнил я. — Он уехал в Омаху. Не знаю, скажу ли я вам что-то новое, шериф…
Ларс Олсен крутился на границе зоны слышимости, жадно ловя каждое слово.
— Сядь в мой автомобиль, Олсен, — велел ему Джонс. — Это приватный разговор.
Ларс, смиренная душа, ретировался без единого слова. Джонс вновь повернулся ко мне. Менее приветливый, чем в прошлый приезд сюда, и совсем не такой добродушный.
— Я уже знаю достаточно, так? Этот твой мальчик обрюхатил дочь Харлана Коттери и, вероятно, помчался за ней в Омаху. Он съехал с дороги на поле с высокой травой, когда понял, что бак практически пуст. Это умно. Ум у него от тебя? Или от Арлетт?
Я промолчал, но шериф подал мне идею. Пустяковую, конечно, но она могла прийтись очень даже кстати.
— Он сделал кое-что еще, и за это мы все ему благодарны. Возможно, это даже поможет ему избежать тюрьмы. Он выдрал всю траву из-под грузовика, прежде чем продолжил путь на своих двоих. Так что выхлоп ее не поджег, знаете ли. Послужи грузовик причиной пожара, от которого пострадала бы пара тысяч акров прерий, присяжные могли отнестись к нему сурово, так? Несмотря на то что ему только пятнадцать.
— Что ж, этого не произошло, шериф, он все сделал правильно. Так о чем, собственно, речь? — Я, разумеется, знал ответ. Шериф Джонс мог недолюбливать Эндрю Лестера, адвоката, но он дружил с Харланом. Они состояли в только что созданном местном отделении ордена Лосей,[16] а Коттери затаил зло на моего сына.
— Немного нервничаете, так? — Шериф вновь вытер лоб, потом вернул на место стетсон. — Что ж, я бы тоже нервничал, будь это мой сын. И знаете что? Будь это мой сын, а Харлан Коттери — мой сосед, мой хороший сосед, я мог бы поехать к нему и сказать: «Харл, знаешь что? Думаю, мой сын мог поехать в Омаху, чтобы попытаться увидеться с твоей дочерью. Ты, вероятно, захочешь дать знать кому-нибудь, чтобы он не застал там никого врасплох». Но вы этого не сделали, так?
Идея, которую он мне подал, окончательно сформировалась. Пришла пора озвучить ее:
— Он не показался там, где она живет, да?
— Еще нет, не показался, но, возможно, он ищет это место.
— Не думаю, что он убежал, чтобы повидаться с Шеннон, — заявил я.
— Тогда зачем? Или вы считаете, что в Омахе более вкусное мороженое? Потому он и поехал именно туда?
— Я считаю, он поехал на поиски матери. Думаю, она, возможно, как-то связалась с ним.
Мои слова заставили шерифа замолчать на добрых десять секунд. Этого ему хватило, чтобы вновь вытереть лоб и пригладить волосы.
— Как она смогла это сделать? — наконец спросил он.
— Я предполагаю, письмом. — «Бакалея» в Хемингфорд-Хоуме служила также и почтовым отделением, куда приходили письма. — В магазине могли передать Генри письмо, когда он зашел туда за сладостями или пакетиком орешков, как он часто делает, возвращаясь из школы. Я не знаю этого наверняка, шериф, как и не знаю, почему, появляясь здесь, вы ведете себя так, будто я совершил преступление. Это не я накачал ее.
— Не надо так говорить о хорошей девочке.
— Может, и не надо, но для меня случившееся стало таким же сюрпризом, как и для Коттери, а теперь моего мальчика нет. Харлан и Салли по крайней мере знают, где сейчас их дочь.
Вновь мои слова поставили его в тупик. Достав из заднего кармана брюк маленький блокнот, он что-то записал. Убрав блокнот, спросил:
— Но вы не можете с уверенностью утверждать, что ваша жена связывалась с ним… Это вы мне говорите? Речь всего лишь о предположении?
— Генри часто вспоминал о матери после ее отъезда, а потом перестал. И сейчас я знаю, что он не появился там, куда Харлан и его жена отвезли Шеннон. — Это меня удивляло ничуть не меньше, чем шерифа Джонса… но и радовало. — И что мы получим, если сложить два и два?
— Не знаю. — Джонс хмурился. — Действительно, не знаю. Я думал, что во всем разобрался, но я ошибался и раньше, так? Да, и еще буду ошибаться. Мы все ошибаемся, вот что говорит Книга. Но, Бог свидетель, дети усложняют мне жизнь. Если ваш сын свяжется с вами, Уилфред, предложите ему вернуться домой и держаться подальше от Шеннон, пусть он и знает, где она. Она не захочет его видеть, это я гарантирую. Хорошая новость — обошлось без пожара в прериях и мы не можем арестовать его за кражу грузовика собственного отца.
— Не можете, — мрачно согласился я. — Вы не заставите меня обвинить его в чем-либо.
— Но!.. — Шериф поднял палец, напомнив мне мистера Стоппенхаузера из банка. — Тремя днями раньше, на окраине Лайм-Биска, неподалеку от места, где нашли грузовик, кто-то ограбил бакалейную лавку и заправочную станцию, с девочкой в синем чепчике на вывеске. Взяли двадцать три доллара. Сообщение об этом лежит на моем столе. Молодой парень в потрепанной ковбойской одежде, с банданой, закрывшей рот, и в надвинутой на глаза шляпе с широкими полями. За прилавком стояла мать хозяина, и грабитель пригрозил ей чем-то тяжелым. Она думала, это лом или кочерга, но кто знает? Ей за восемьдесят, и она наполовину слепа.
Теперь пришла моя очередь молчать. Меня словно оглушили. Наконец я выдавил:
— Генри уехал из школы, шериф, и, насколько помню, в тот день он был во фланелевой рубашке и вельветовых брюках. Одежду он с собой не взял, да и в любом случае ковбойской у него нет, если вы про сапоги и все такое. Нет у него и шляпы с широкими полями.
— Но он ведь мог все это украсть?
— Если вы больше ничего об этом не знаете, то лучше остановиться. Мне известно, что вы дружите с Харланом…
— Ладно, ладно, это совершенно ни при чем.
Но мы оба знали, что очень даже при чем, однако идти и дальше этой дорогой никаких причин не было. Возможно, мои восемьдесят акров не могли тягаться с четырьмя сотнями акров Харлана Коттери, но я оставался землевладельцем и налогоплательщиком и не желал, чтобы меня запугивали. На это я намекал, и шериф Джонс прекрасно меня понял.
— Мой сын не грабитель, и он не угрожает женщинам. Он так себя не ведет, потому что его не так воспитывали.
Во всяком случае, до последнего времени, вступил внутренний голос.
— Возможно, грабил бродяга, искавший способ быстренько разжиться деньгами, — пожал плечами Джонс. — Но я чувствовал, что должен об этом упомянуть, вот и упомянул. Мы не можем знать, что скажут люди, правда? Разговоры идут. Все говорят, так? Слова ничего не стоят. Для меня дело закрыто. Пусть шериф округа Лайм тревожится о том, что происходит в Лайм-Биске. Таков мой девиз, но вам следует знать: полиция Омахи приглядывает за тем местом, где находится Шеннон Коттери. Вы понимаете, на случай, если ваш сын с вами свяжется. — Он пригладил волосы и в последний раз надел шляпу. — Может, он вернется сам, никому не причинив вреда, и тогда мы сможем списать все это дело, как… ну, не знаю… как безнадежные долги.
— Отлично. Только не называйте его плохим сыном, если, конечно, не будете называть Шеннон Коттери плохой дочерью.
Судя по тому, как раздулись ноздри шерифа, мои слова ему не понравились, но развивать тему он не стал.
— Если Генри вернется и скажет, что виделся с матерью, дайте мне знать, хорошо? Она у нас числится в списке без вести пропавших. Глупо, я понимаю, но закон есть закон.
— Обязательно это сделаю.
Он кивнул и направился к своему автомобилю. Ларс сидел за рулем. Джонс его шуганул — он относился к тем, кто всегда сам водит свою машину. А я думал о молодом человеке, ограбившем лавку и заправочную станцию, и пытался убедить себя, что мой Генри никогда бы такого не сделал, даже если бы его загнали в угол. Ему не хватило бы дерзости и ловкости украсть одежду из чужого амбара или сарая. Но теперь Генри стал другим, а убийцы обучаются многому и быстро, так? Речь же идет о выживании. Я подумал, что, возможно…
Нет. Таким образом я это представлять не стану. Слишком уж неубедительно. Это мое признание, мое последнее слово и все такое, и, если не смогу написать правду, всю правду и ничего, кроме правды, какой от него прок? Кому нужно такое признание?
И все же это был он. Генри. Я видел по глазам Джонса, что он заговорил о придорожном ограблении только по одной причине: я не вилял перед ним хвостом, как ему того хотелось, но я в это поверил. Потому что знал больше, чем шериф Джонс. Генри помог отцу убить свою мать, а что в сравнении с этим кража чужой одежды или размахивание ломом перед старушкой? Сущий пустяк. И если он пошел на кражу один раз, то пойдет и второй, как только закончатся двадцать три доллара. Вероятно, в Омахе. Там его и поймают. А потом всплывет все остальное. Почти наверняка всплывет.
Вернувшись на крыльцо, я сел и закрыл лицо руками.
* * *
День сменялся днем. Я не знал, сколько их прошло, только все выдались дождливыми. Когда осенью зарядит дождь, все дела под открытым небом приходится откладывать, а у меня не было такого количества домашнего скота или приусадебных построек, чтобы заполнить все долгие часы работой под крышей. Я пытался читать, но слова не желали складываться в предложения, хотя время от времени отдельные из них просто прыгали со страницы в глаза и кричали. Убийство. Вина. Предательство. Такие вот слова.
Днями я в овчинном полушубке, защищающем от сырости и холода, просиживал на крыльце с книгой на коленях и смотрел, как дождевая вода капает с крыши. Ночами лежал без сна чуть ли не до рассвета, слушая, как стучит дождь по крыше. Словно кто-то застенчиво просил открыть дверь и пустить на ночлег. Я слишком много думал об Арлетт, которая теперь делила колодец с Эльпис. Начал представлять, что она… нет, не ожила (нервное напряжение не отпускало меня, но с ума-то я не сошел), но каким-то образом осознает происходящее. Каким-то образом наблюдает за разворачивающимися событиями из убогой могилы и получает удовольствие.
Тебе нравится, как все обернулось, Уилф? — спросила бы она, если бы смогла (и в моем воображении спрашивала). Оно того стоило? Что скажешь?
Примерно через неделю после визита шерифа, когда я сидел, пытаясь читать «Дом о семи фронтонах»,[17] Арлетт пробралась мне за спину, перегнулась через плечо и постучала по моей переносице холодным, мокрым пальцем.
Я отбросил книгу на напольный вязанный крючком ковер гостиной и, вскрикнув, вскочил. Когда я это сделал, холодная подушечка пальца прошлась по уголку моего рта. Потом коснулась макушки, там, где волосы начали редеть. На этот раз я рассмеялся — нервно и зло — и наклонился, чтобы поднять книгу. При этом последовало новое прикосновение — к загривку, словно моя жена интересовалась: Теперь я завладела твоим вниманием, Уилф? Я отступил в сторону — чтобы холодный и мокрый палец не угодил в глаз — и поднял голову. Потолок над головой изменил цвет — с него капало. Штукатурка еще не начала отслаиваться, но если бы дождь продолжился, так бы и произошло. Куски штукатурки могли даже падать на пол. Протечка обнаружилась именно над тем местом, где я всегда читал. Понятное дело. В других местах с потолком ничего не случилось, во всяком случае, пока.
Мне вспомнились слова Стоппенхаузера: Или ты хочешь мне сказать, что в ферму не надо вкладывать деньги? Не надо чинить крышу? И его озорной взгляд. Как будто он знал. Как будто он и Арлетт были в этом заодно.
Выбрось эту глупость из головы, приказал я себе. Ты думаешь о ней, пребывающей там, внизу, и одно это уже плохо. Выели черви ей глаза? Съели насекомые ее острый язык или хотя бы затупили его?
Я подошел к столу в углу комнаты, взял бутылку, которая на нем стояла, и налил себе добрую порцию виски. Рука дрожала, но не так чтобы сильно. Выпил виски в два глотка. Я знал, это плохо, если выпивка войдет в привычку, но не каждый вечер мужчина чувствует, как мертвая жена постукивает его по носу. Спиртное подняло мне настроение. Уверенности в себе прибавилось. Мне не требовались семьсот пятьдесят долларов по закладной, чтобы залатать крышу. Я мог это сделать одной доской после того, как закончится дождь. Конечно, латка будет выглядеть уродливо. Из-за нее дом станет напоминать, как сказала бы моя мать, лачугу. Да и ушло бы на ремонт день-два. Мне же требовалась работа на всю зиму. Тяжелая работа, способная отогнать все мысли об Арлетт на ее земляном троне, об Арлетт в джутовой сеточке для волос. Мне необходима была работа, после которой от усталости я валился бы в кровать и засыпал сразу, а не лежал, прислушиваясь к стуку дождя и гадая, не попал ли под него Генри, не кашляет ли сейчас от простуды. Иногда работа служила единственным спасением, единственным ответом.
На следующий день я поехал на грузовике в город и сделал то, о чем никогда не подумал бы, не возникни у меня необходимость одолжить тридцать пять долларов, — заложил дом за семьсот пятьдесят долларов. В конце концов мы попадаем в ловушки, которые сами же и расставляем. Я в это верю. В конце концов мы всегда попадаемся.
На той самой неделе в Омахе молодой человек в шляпе с широкими полями вошел в ломбард на Додж-стрит и купил никелированный пистолет тридцать второго калибра. Он заплатил пять долларов, несомненно, из тех, которые отобрал у полуслепой старухи, торговавшей бакалеей под вывеской с девочкой в синем чепчике. На следующий день молодой человек в надвинутой на глаза шляпе с широкими полями и в красной бандане, закрывавшей рот и нос, вошел в расположенное в Омахе отделение Первого сельскохозяйственного банка, направил пистолет на симпатичную молодую кассиршу, ее звали Рода Пенмарк, и потребовал отдать ему все деньги. Она протянула двести долларов, по большей части купюрами по одному и пять долларов, их обычно достают фермеры из нагрудных карманов комбинезонов.
Когда парень уходил, одной рукой засовывая деньги в карман брюк (он явно нервничал, поскольку несколько банкнот упали на пол), пузатый охранник — вышедший на пенсию полицейский — сказал ему:
— Сынок, ты же не хочешь этого делать.
Молодой человек выстрелил из своего пистолета тридцать второго калибра в воздух. Вокруг закричали.
— Пока еще я не хочу застрелить вас, — сказал молодой человек сквозь бандану, — но застрелю, если придется. Отойдите к этой колонне, сэр, и оставайтесь там, если хотите, чтобы все для вас хорошо кончилось. Мой друг ждет на улице, так что не дергайтесь.
Молодой человек выбежал за дверь, на ходу сдергивая бандану с лица. Охранник выждал минуту или около того, потом вышел из банка с поднятыми руками (оружия у него не было), на тот случай, если за дверью стоит кто-то еще. Никого, разумеется, не было. В Омахе знакомых у Генри не имелось, за исключением подруги, в животе которой рос ребенок.
Из денег по закладной двести долларов я взял наличными, а остальные положил на счет в банке мистера Стоппенхаузера. Поехал за покупками в магазин скобяных товаров, на лесопилку, в бакалею, где Генри мог получить письмо от матери… будь она жива и могла что-то написать. Выезжал из дома в моросящий дождь, а когда вернулся, уже шел дождь со снегом. Я разгрузил доски, стойки и кровельную дранку, покормил кур, покормил и подоил коров, разложил продукты, в основном макароны и крупы, которыми я в отсутствие Арлетт главным образом и питался. Покончив с этим, поставил на дровяную плиту кастрюлю с водой, чтобы помыться, и стянул с себя мокрую одежду. Вытащил пачку денег из нагрудного кармана, сосчитал: у меня оставалось чуть меньше ста шестидесяти долларов. Почему я взял наличными такую большую сумму? Потому что думал совсем о другом. И о чем или о ком, позвольте узнать? Об Арлетт и Генри, разумеется. В эти дождливые дни я практически все время думал только о них.
Я знал, что иметь при себе столько денег — идея не из лучших. Их следовало положить в банк, где мог бы набежать небольшой процент (гораздо меньше того, что мне предстояло выплачивать по закладной), пока я раздумывал, как наилучшим образом ими распорядиться. Но раз уж я их взял, предстояло спрятать их в безопасном месте.
Вспомнилась коробка с вульгарной красной шляпой. Там она хранила свою заначку: эти сорок долларов пролежали в коробке бог знает сколько времени, и ничего с ними не случилось. Мои деньги под лентой не уместились бы, и я подумал, что просто суну их в шляпу, где они и останутся до моей следующей поездки в город.
Я прошел в спальню — в чем мать родила — и открыл дверцу стенного шкафа. Отодвинул коробку с белой церковной шляпой Арлетт, потом потянулся ко второй. Я тогда задвинул ее подальше на полку, и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до нее. Коробку охватывала эластичная лента. Я засунул под нее палец, чтобы потянуть на себя, и тут же понял, что коробка слишком тяжелая, словно вместо шляпы там теперь лежал кирпич. И еще возникло странное ощущение: казалось, руку обдало ледяной водой. А в следующее мгновение холод сменился жаром. Это была боль, такая сильная, что все мышцы руки парализовало. Я отшатнулся, закричав от изумления и боли, роняя купюры. Мой палец прилип к эластичной ленте, так что я потащил за собой всю коробку. На ней сидела большая серая крыса, которая казалась мне знакомой.
Вы можете сказать: Уилф, одна крыса ничем не отличается от другой, — и я мог бы с вами согласиться, но эту крысу я знал. Разве я не видел, как она убегала от меня с коровьим соском, который торчал из ее пасти, как окурок сигары?
Коробка для шляпы отцепилась от моей руки, и крыса свалилась на пол. Будь у меня время подумать, она бы удрала и на этот раз, но здравомыслие заблокировалось болью, удивлением и ужасом, которые, полагаю, испытал бы любой человек, глядя, как из него хлещет кровь. Напрочь забыв, что я совершенно голый, как в момент появления на свет божий, я просто опустил правую ногу на крысу. Услышал, как хрустнули кости и расплющилось ее тело. Кровь и раздавленные внутренности полезли из-под хвоста и обдали мою левую лодыжку теплом. Крыса пыталась извернуться, чтобы укусить вновь. Я видел оскаленные передние зубы, но до меня она дотянуться не могла. Не дотягивалась, пока моя нога твердо стояла на ее спине. Поэтому убирать ногу я не собирался. Наоборот, еще сильнее вдавил в пол, прижимая укушенную руку к груди и чувствуя, как теплая кровь смачивает густую поросль волос. Крыса извивалась и дергалась, словно уж. Кровь хлынула из пасти. Глаза вылезли из орбит.
Я долго давил ногой на умирающую крысу. Внутренности уже превратились в кровавую пульпу, но крыса все равно дергалась и пыталась меня укусить. Наконец затихла. Но я простоял так еще долгую минуту, желая убедиться, что она не изображает опоссума[18] (крыса, изображающая опоссума, — ха!), и лишь удостоверившись, что она мертва, захромал на кухню, оставляя кровавые следы и думая почему-то об оракуле, предупредившем Пелия[19] остерегаться мужчину в одной сандалии. Но я был не Ясоном, а обычным фермером, наполовину рехнувшимся от боли и изумления, фермером, похоже, обреченным марать кровью место, где спал.
Сунув руку под ледяную воду, текущую из колонки, я услышал, как кто-то твердит: Хватит, хватит, хватит. Говорил это я сам и знал это, но слышал голос глубокого старика, которому осталось только одно: молить о пощаде.
Я помню остаток той ночи, но смутно, словно смотрю на фотографии в старом, заплесневелом альбоме. Крыса прокусила мне перепонку между большим и указательным пальцами левой руки — ужасная рана, но в определенном смысле мне повезло. Если бы она куснула палец, который я подсунул под эластичную ленту, то могла просто его отхватить. Я это понял, когда вернулся в спальню, поднял моего противника за хвост (правой рукой, левая онемела, и любое движение пальцев вызывало боль). При длине как минимум два фута, весила крыса никак не меньше шести фунтов.
Тогда это не та крыса, которая ускользнула по трубе, слышу я ваш голос. Не могла быть той. Но речь именно о ней, можете поверить. Никаких отличительных признаков я не видел, скажем, полоски белой шерсти или откушенного уха, но мог точно сказать: именно эта крыса покалечила Ахелою. И точно так же я знал, что в стенном шкафу и на шляпной коробке она оказалась не случайно.
Держа за хвост, я отнес ее на кухню и бросил в ведро для золы. Потом выкинул на помойку. Вышел голым под проливной дождь, но не заметил этого. Чувствовал только боль в левой руке, такую сильную, что она грозила забить все мысли.
Вернувшись в дом, снял с крючка пыльник (это удалось мне с трудом), кое-как надел его и вновь вышел во двор, на этот раз направившись в амбар. Смазал укушенную руку мазью Роули. Она уберегла от заражения Ахелою и могла точно так же спасти мою руку. Я собрался уходить, когда вдруг вспомнил, каким образом крысе удалось убежать от меня в прошлый раз. Труба! Я пошел к ней, наклонился, ожидая увидеть, что цементная пробка прогрызена насквозь или ее нет вообще, но там все было в порядке. Даже шестифунтовым крысам с огромными зубами не справиться с цементом. Само возникновение такой мысли показывает, в каком я был состоянии. На мгновение мне удалось посмотреть на себя со стороны: мужчина в расстегнутом пыльнике на голое тело, с окровавленными волосами на груди, животе и лобке, с прокушенной левой рукой, на которой поблескивал толстый слой коровьей мази, по цвету напоминавшей сопли, и с выпученными глазами. Совсем как у крысы после того, как я наступил на нее.
Это не та крыса, сказал я себе. Та крыса, что укусила Ахелою, мертва и лежит в трубе или на коленях Арлетт.
Но я знал, что крыса та самая. Знал это тогда и знаю теперь.
Та самая.
В спальне я опустился на колени и стал подбирать перепачканные кровью деньги. Подбирал долго, одной рукой. Один раз ударился прокушенной рукой о край кровати и взвыл от боли. Увидел свежую кровь, проступившую сквозь мазь и окрасившую ее в розовый цвет. Я положил деньги на комод, даже не прикрыв книгой или одной из декоративных тарелок Арлетт. Потом не мог вспомнить, почему так стремился спрятать их. Коробку с красной шляпой я пинком отправил в стенной шкаф и захлопнул дверцу. Она могла там оставаться до скончания веков, больше прикасаться к ней я не собирался.
Любой, кому когда-то принадлежала ферма или кто работал на ней, скажет вам, что несчастные случаи там — не редкость, а потому у фермеров все наготове. Большой моток бинта лежал в шкафчике у колонки на кухне. Арлетт всегда называла этот шкафчик «гиблое место». Я уже доставал бинт, когда заметил пар, поднимавшийся над кастрюлей с водой, которая стояла на плите. Эту кастрюлю я поставил на плиту, собираясь помыться, когда и представить не мог той чудовищной боли, от которой теперь страдал. Мне пришло в голову, что мыльная вода пойдет на пользу моей руке. Боль не стала бы сильнее, а вот погружение в воду могло очистить рану. Я ошибся и по части первого, и по части второго, но откуда я мог это знать? Даже годы спустя эта мысль представляется мне здравой. Полагаю, все обернулось бы к лучшему, если бы меня укусила обыкновенная крыса.
Взяв в правую руку черпак, я наполнил таз горячей водой (о том, чтобы наклонить кастрюлю и перелить воду, не могло быть и речи), потом добавил кусок хозяйственного мыла Арлетт. Как выяснилось, последний кусок. Мужчина, не привыкший вести домашнее хозяйство, многое упускает из виду. Бросил туда и тряпку. Потом пошел в спальню, вновь опустился на колени. Принялся оттирать кровь и кишки крысы. Все время вспоминал (естественно) о том, как отчищал кровь в этой чертовой спальне в прошлый раз. Тогда по крайней мере этот ужас со мной делил Генри. Теперь, работая в одиночку и мучаясь от боли, я страдал куда сильнее. Моя тень металась и прыгала по стене, вызывая мысли о Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
Почти закончив работу, я остановился и склонил голову. Дыхание перехватило, глаза широко раскрылись, сердце, казалось, стучало в укушенной левой руке. Я услышал скребущий звук, который словно шел отовсюду. Со всех сторон ко мне сбегались крысы, коготки которых скребли по дереву. На мгновение у меня не возникло никаких сомнений в том, что так и есть. Ко мне устремились крысы из колодца. Ее верные посланцы. Каким-то образом они нашли путь на поверхность. Та, что сидела на коробке с красной шляпой, оказалась лишь первой и самой храброй. Они проникли в дом, они сидели в стенах и в самом скором времени намеревались покинуть свое убежище и наброситься на меня. Так Арлетт отомстила бы мне. Я услышу ее смех, когда они будут рвать меня на куски.
Ветер, прибавив силы, тряхнул дом и завыл под карнизами. Скребущий звук усилился, потом чуть ослабел вместе с ветром. Безмерное облегчение охватило меня, я даже забыл про боль (пусть всего на несколько секунд). Это не крысы, а ледяной дождь. С наступлением темноты температура заметно упала, и капли замерзали на лету. Я вновь принялся оттирать пол.
Когда закончил, вылил кровавую воду через ограждение крыльца, пошел в сарай, чтобы наложить на руку свежую мазь. Теперь, когда рана полностью очистилась, я видел, что перепонка между большим и указательным пальцами разорвана в трех местах, которые выглядели, будто сержантские нашивки. Большой палец висел как неприкаянный: вероятно, крысиные зубы перегрызли какой-то важный кабель, соединяющий его с рукой. Я замазал рану и поплелся в дом, думая: Болит, конечно, но теперь она хотя бы чистая. Ахелоя поправилась, значит, я тоже поправлюсь. Все хорошо. Я попытался представить, как защитные силы моего организма мобилизуются и прибывают к месту укуса, этакие крохотные пожарные в красных шлемах и длинных брезентовых плащах.
На нижней полке «гиблого места» я нашел пузырек с таблетками, завернутый в кусок шелка, оторванный от женской комбинации. Пузырек попал в наш дом из «Аптечного магазина Хемингфорд-Хоума». На этикетке я прочитал надпись печатными буквами, сделанную перьевой ручкой:
«АРЛЕТТ ДЖЕЙМС. Таблетки по 1 или 2 перед сном при месячных».
Я сунул в рот три, запив большим глотком виски. Не знаю, что было в этих таблетках — может, и морфий, — но они помогли. Боль не исчезла, но теперь составляла неотъемлемую часть Уилфреда Джеймса, обретающегося на каком-то другом уровне реальности. В голове гудело, потолок начал медленно вращаться надо мной, образ миниатюрных пожарных, спешащих потушить пожар инфекции, прежде чем она укоренится, стал более отчетливым. Ветер вновь набрал силу, постоянная барабанная дробь ледяных капель еще больше напоминала звук скребущих коготков крыс, но теперь-то я знал, что это за звук. Думаю, я даже воскликнул: «Я все знаю, Арлетт. Тебе меня не одурачить!»
Сознание уходило, связь с реальностью истончалась, и я понимал, что, возможно, ухожу навсегда: сочетание шока, спиртного и морфия могло оборвать мою жизнь. И меня найдут в холодном фермерском доме, с сине-серой кожей, прокушенной рукой, покоящейся на животе. Картина эта меня не испугала, наоборот — принесла умиротворенность.
Пока я спал, ледяной дождь перешел в снег.
Когда я проснулся на следующее утро, дом выстудило, как могилу, а левая кисть раздулась, увеличившись в размере в два раза. Кожа вокруг укуса стала пепельно-серой, три пальца — тускло-розовыми, а к концу дня — красными. Прикосновение к кисти в любом месте, кроме мизинца, вызывало дикую боль. Тем не менее я как мог туго замотал кисть, и пульсирующая боль чуть утихла. Я разжег кухонную печь. Для однорукого работа оказалась не из легких, но я справился. Потом подсел поближе, пытаясь согреться. Все тело пронзал холод, но только не укушенную кисть. Она горела. И еще пульсировала, как перчатка с залезшей в нее крысой.
Во второй половине дня у меня подскочила температура, а рука так сильно раздулась, что пришлось ослабить повязку. Я кричал от боли, когда это делал. Мне требовался врач, а снег валил все сильнее. Я не смог бы добраться до Коттери, не говоря уж о Хемингфорд-Хоуме. Даже если бы день выдался ясным и сухим, я сомневался, что одной рукой сумел бы завести двигатель грузовика. Я сидел на кухне, подкладывал дрова в печь, пока она не заревела, как дракон. То потея от жары, то дрожа от холода, я прижимал завязанную, раздутую руку к груди и вспоминал, как добрая миссис Макреди оглядывала мой замусоренный, не такой уж уютный двор. У вас есть телефон, мистер Джеймс? Я вижу, что нет.
Нет. Телефона у меня не было. Я остался в полном одиночестве на ферме, ради которой убил, и не мог вызвать помощь. Я видел, как кожа все больше краснела над повязкой: на запястье, полном вен, которые могли разнести отраву по всему телу. Пожарные не справились. Я думал перетянуть запястье жгутом — убить левую кисть, чтобы спастись самому, или даже ампутировать ее топором, которым мы рубили щепки на растопку да иногда обезглавливали кур. И то, и другое представлялось оправданным, но для этого требовалось затратить очень уж много усилий. Так что я лишь дотащился до «гиблого места» за таблетками Арлетт. Вновь принял три, на этот раз запив холодной водой — горло горело, — и вернулся к печи. Меня ждала смерть от крысиного укуса. Я это знал и смирился с этим. Смерть от укусов животных и заражения — обычное дело, таких случаев полно. Если бы боль стала совершенно невыносимой, я бы сразу проглотил все оставшиеся таблетки. Удержало меня от этого только одно — помимо страха смерти, который, как я полагаю, свойственен нам всем, в той или иной степени, — шанс, что кто-то может прийти: Харлан, или шериф Джонс, или добрая миссис Макреди. Мог заявиться даже адвокат Лестер, чтобы вновь донимать меня злополучными ста акрами.
Но больше всего я надеялся на возвращение Генри. Он, правда, не вернулся.
Кто пришел, так это Арлетт.
Вы, возможно, задавались вопросом, как я узнал о пистолете, который Генри купил в ломбарде на Додж-стрит, и ограблении банка на Джефферсон-сквер. Если задавались, то скорее всего ответили на него сами: между 1922 и 1930 годами прошло немало времени; вполне достаточно, чтобы выудить все подробности в библиотеке, из соответствующих номеров издававшейся в Омахе ежедневной газеты «Уорлд гералд».
Разумеется, я просматривал газеты. И писал тем, кто встречал моего сына и его беременную подружку на их коротком и гибельном пути из Небраски в Неваду. В большинстве своем эти люди мне отвечали, с готовностью сообщая разные мелочи. Такой подход к расследованию логичен, и, несомненно, вы сочтете его правильным. Но письма эти я написал гораздо позднее, после того, как покинул ферму, и ответы лишь подтвердили то, что я уже знал.
Уже? — переспросите вы, и на это я отвечу просто: «Да. Уже. И знал не после того, как все произошло, а до того, во всяком случае, часть. Последнюю часть».
Как? Ответ прост. Мне рассказала моя мертвая жена.
Вы, разумеется, не верите. Я понимаю. Любой здравомыслящий человек не поверит. В моих силах только одно — рассказать об этом в моем признании, это мои последние слова, и все, что я тут пишу, — правда, от первого до последнего слова.
Я проснулся у печи следующим вечером (или еще через сутки; после того как поднялась температура, я потерял счет времени) и вновь услышал, как кто-то шуршит и скребется. Поначалу предположил, что это все тот же ледяной дождь, но когда поднялся, чтобы отломить кусок от засыхающего батона, который лежал на столешнице, увидел оранжевую закатную полоску на горизонте и сверкавшую в небе Венеру. Буря закончилась, но странные звуки становились все громче, только доносились не от стен, а с заднего крыльца.
Защелка двери пришла в движение. Сначала она только дрожала, словно руке, которая пыталась ее повернуть, не хватало для этого силы, потом это прекратилось, и я решил, что мне все привиделось, но тут защелка поднялась над скобой и дверь открылась с холодным дуновением ветра. На крыльце стояла моя жена. Все в той же джутовой сетке для волос, но теперь припорошенной снегом. Должно быть, она проделала медленное и мучительное путешествие от того места, где ей следовало упокоиться. Лицо наполовину разложилось, нижняя челюсть сместилась в одну сторону, клоунская ухмылка стала еще шире. Многозначительная ухмылка, почему бы и нет? Мертвые знают все.
Ее окружала придворная свита. Это они каким-то образом вытащили ее из колодца. Это они удерживали ее на ногах. Без них она оставалась бы призраком, злобным, но беспомощным. Но они оживили ее. Арлетт была их королевой и при этом их марионеткой. Она прошла в кухню, и ее жуткая походка никоим образом не напоминала ходьбу. Крысы окружали ее плотным кольцом, одни смотрели на нее с любовью, другие — на меня с ненавистью. Покачиваясь, она обошла кухню, заново знакомясь со своими прежними владениями, при этом с ее платья падали на пол комья земли (стеганое одеяло и покрывало отсутствовали), а голова моталась из стороны в сторону на перерезанной шее. Один раз голова даже откинулась назад до самых лопаток, прежде чем подняться с тихим и чмокающим звуком.
Наконец взгляд ее затуманенных глаз добрался до меня. Я попятился в угол, где стоял ящик для дров, теперь практически пустой.
— Оставь меня в покое, — прошептал я. — Тебя здесь нет. Ты в колодце и не можешь выбраться оттуда, даже если и не умерла.
В горле у нее что-то булькнуло, словно она подавилась густой подливой, и она продолжила движение, реальная до такой степени, что отбрасывала тень. И я ощущал запах разлагающейся плоти женщины, которая в порыве страсти иногда просовывала свой язык мне в рот. Она была здесь. Настоящая. Как и ее королевская свита. Я чувствовал, как крысы бегают по моим ногам, щекочут лодыжки усиками, обнюхивают мои кальсоны.
Упершись пятками в ящик для дров, я попытался отклониться назад, чтобы увеличить расстояние между собой и приближавшимся трупом, потерял равновесие и уселся в ящик. Ударившись воспаленной и раздувшейся рукой, едва ощутил боль. Арлетт наклонилась надо мной, и ее голова… качнулась. Плоть отделилась от костей, и ее лицо свесилось вниз, будто нарисованное на воздушном шарике. Крыса забралась на стенку ящика для дров, спрыгнула мне на живот, перебежала на грудь, понюхала кожу под подбородком. Я чувствовал, как другие шебуршат под моими согнутыми коленями. Но они меня не кусали. Все ограничилось одним укусом.
Арлетт наклонилась надо мной. Ее запах разил наповал, как и перекошенная ухмылка от уха до уха… Я вижу ее и сейчас, когда пишу эти строки. Я приказал себе — умри, но сердце продолжало биться. Ее висящее лицо скользнуло к моему. Я чувствовал, как моя щетина срывает частички кожи с ее лица, слышал, как ее сломанная челюсть скрипит, будто обледеневшая ветка. Потом ее ледяные губы прижались к моему горячему от температуры уху, и она принялась нашептывать мне секреты, которые могла знать только мертвая женщина. Я закричал. Пообещал покончить с собой и занять ее место в аду, если она замолчит. Но она не замолчала. Не желала замолкать. Мертвые не замолкают.
Теперь я это точно знаю.
Убежав из Первого сельскохозяйственного банка с двумя сотнями долларов в кармане (или, скорее, со ста пятьюдесятью — часть купюр рассыпалась по полу, вы помните), Генри на какое-то время исчез. Как говорят преступники — «залег на дно». Я вспоминаю об этом не без гордости. Думал, его поймают сразу после того, как он появится в городе, а он оказался не так прост. Влюбленный, доведенный до отчаяния, мучимый чувством вины и пребывавший в ужасе от преступления, которое мы с ним совершили… и несмотря на все эти факторы, отвлекавшие внимание (несмотря на их разъедавшее влияние), мой сын продемонстрировал храбрость, ум и даже в определенной степени благородство. Мысль об этом гнетет меня больше всего. Я до сих пор скорблю о его потерянной жизни (о трех жизнях, я не могу забыть и о бедной беременной Шеннон Коттери), и меня не отпускает чувство стыда, ведь это я привел его к погибели, совсем как теленка с веревкой на шее на заклание.
Арлетт показала мне лачугу, в которой он затаился, и велосипед, прислоненный к стене: на украденные деньги он прежде всего купил велосипед. Тогда я не смог бы сказать вам, где находилось его убежище, но в последующие годы определил местоположение лачуги и даже побывал в этом придорожном сарае с выцветшей рекламой колы «Королевская корона», нарисованной на стене. Сарай находился в нескольких милях от западной окраины Омахи и неподалеку от «Мальчишеского города»,[20] начавшего работу годом раньше. Одна комната, одно окно, никакой печи. Генри замаскировал велосипед сеном и травой и принялся строить планы. Через неделю или чуть больше после ограбления Первого сельскохозяйственного банка — к тому времени интерес полиции к этому достаточно мелкому правонарушению в значительной степени угас — он начал ездить на велосипеде в Омаху.
Тупой парень сразу направился бы к католическому дому при монастыре Святой Евсевии, где его тут же схватили бы копы Омахи (шериф Джонс не сомневался, что так и будет), но Генри Фриман Джеймс оказался умнее. Он выяснил, где находится католический дом, но не приближался к нему. Вместо этого поискал ближайший магазин, где продавались сладости и газировка. Он предположил, что девушки будут посещать его, если предоставится такая возможность (при условии, что благодаря хорошему поведению им разрешат покидать территорию католического дома, а в сумочках найдутся деньги). И хотя обитательницы католического дома не носили особую форму, вычислить их не составляло труда: просторные платья, взгляд в пол и поведение, то кокетливое, то пугливое. И конечно же, бросались в глаза девицы с большим животом и без обручального кольца.
Тупой парень попытался бы завести разговор с одной из этих блудливых дочерей Евы прямо у прилавка с газировкой, привлекая к себе ненужное внимание. Генри же занял позицию рядом с проулком между магазином сладостей и галантереей, он сидел на ящике, читая газету, а велосипед стоял у бордюрного камня. Он поджидал девушку, более рисковую, чем те, кто приходил в магазин только за газировкой и мороженым, чтобы потом вернуться к сестрам. Он поджидал курящую девушку. И на третий день его дежурства у проулка такая девушка появилась.
Со временем я ее нашел и поговорил с ней. Для этого не пришлось демонстрировать способность супердетектива. Я уверен, Омаха показалась Шеннон и Генри мегаполисом, но в 1922 году это был не такой уж большой город даже по меркам Среднего Запада, он только мечтал о статусе мегаполиса. Виктория Холлет теперь уважаемая дама с тремя детьми, но осенью 1922 года она была Викторией Стивенсон: молодой, любопытной, бунтующей, на седьмом месяце беременности и души не чающей в «Суит кэпорелс».[21] Она с радостью взяла сигарету, когда Генри предложил ей.
— Возьми еще парочку на потом, — добавил он.
Она рассмеялась:
— Надо быть сумасшедшей, чтобы это сделать. Сестры проверяют наши сумочки и выворачивают карманы, когда мы возвращаемся. Мне придется прожевать три пластинки «Черного Джека»,[22] чтобы отбить запах даже одной сигареты. — Она похлопала себя по животу, весело и демонстративно. — У меня проблема, как ты сам видишь. Плохая девочка! Мой кавалер сбежал. Плохой мальчик, но всем на это наплевать! Зато этот франт упек меня в тюрьму, где надзирателями пингвины…
— Я тебя не понимаю.
— Ну что тут непонятного! Франт — это мой отец! А пингвинами мы называем сестер. — Она рассмеялась. — Вижу, ты просто деревенщина. Ничего не соображаешь. А тюрьма, где я отбываю срок, называется…
— Монастырь Святой Евсевии.
— Вот теперь голова у тебя заработала, Джексон. — Она затянулась, прищурилась. — Слушай, а ведь я знаю, кто ты. Бойфренд Шен Коттери.
— Дайте этой девушке куклу Кьюпи![23] — улыбнулся Хэнк.
— Что ж, на твоем месте я бы не подходилак к нашему заведению ближе чем на два квартала. У копов есть твои приметы. — Она снова рассмеялась. — Твои и еще полдюжины других парней, но ни один из них не похож на такого зеленоглазого деревенского парня, как ты. И никто из девушек не сравнится красотой с Шеннон. Она настоящая королева Шебы. Да уж!
— Как ты думаешь, почему я здесь?
— Ума не приложу… Почему ты здесь?
— Мне надо с ней связаться, но я не хочу, чтобы меня поймали. Я дам тебе два бакса, если ты передашь ей записку.
Глаза Виктории широко раскрылись.
— Дружище, за два бакса я пронесу под мышкой горн и передам записку кому угодно.
— И еще два, если ты будешь держать рот на замке. Сейчас и после.
— За это платить не обязательно. — Виктория покачала головой. — Я только порадуюсь, если удастся посадить в лужу этих наисвятейших сук. Знаешь, они шлепают нас по рукам, если за обедом мы пытаемся взять лишний рогалик! Поступают прямо-таки как с Гулливером Твистом.[24]
Он дал Виктории записку, и та отнесла ее Шеннон. Записка лежала в дорожной сумке с вещами, когда полиция наконец-то нашла Шеннон и Генри в Элко, штат Невада, и у меня есть полицейская копия этой записки. Но Арлетт пересказала мне ее содержание гораздо раньше, и текст совпал слово в слово.
«Я буду ждать тебя от полуночи до рассвета за твоим домом в течение двух недель, — писал Генри. — Если ты не покажешься, я буду знать, что между нами все кончено. Я вернусь в Хемингфорд-Хоум и больше никогда тебя не потревожу, хотя любить буду вечно. Мы молоды, но сможем солгать насчет нашего возраста и начать новую жизнь в другом месте (в Калифорнии). У меня есть немного денег, и я знаю, где взять еще. Виктория найдет меня, если ты захочешь передать мне записку, но сделать это можно будет только один раз. Больше — опасно. Генри».
Я предполагаю, что Харлан и Салли Коттери видели эту записку. Если так, они знали, что свое имя мой сын обвел сердечком. Я задаюсь вопросом: может, именно это убедило Шеннон? Я задаюсь и другим вопросом: а требовалось ли ее убеждать? Возможно, она больше всего хотела, чтобы ребенок (которого она уже любила) остался с ней и на законных основаниях. Но этих вопросов Арлетт не коснулась, рассказывая историю своим жутким, тихим голосом. Возможно, на Шеннон ей было наплевать.
После разговора с Викторией Генри приходил к проулку у магазина сладостей каждый день. Я уверен, он понимал, что вместо Виктории могли явиться копы, но чувствовал: выбора у него нет. На третий день Виктория наконец-то пришла. «Шен ответила сразу же, но я не могла сообщить раньше. В дыре, которую кое-кому хватает наглости называть музыкальной комнатой, нашли чью-то сигарету, и пингвины вышли на тропу войны».
Генри протянул руку за запиской, и Виктория отдала ее в обмен на сигарету. Записка состояла из четырех слов: «Завтра. В два часа ночи».
Генри обнял Викторию и поцеловал. Она радостно рассмеялась, ее глаза сверкали.
— Господи! Ну почему некоторым девчонкам так везет?!
Им, несомненно, везет. Но если принять во внимание, что в итоге Виктория вышла замуж, у нее трое детей и красивый дом на Кленовой улице в лучшей части Омахи, а Шеннон Коттери не пережила проклятия того года… так кому из них, по-вашему, улыбнулась удача?
«У меня есть немного денег, и я знаю, где взять еще», — написал Генри, и он знал. Спустя считанные часы после поцелуя с бойкой Викторией (она сообщила Шеннон: «Он там будет со свадебными колоколами») молодой человек в шляпе с широкими полями и бандане, закрывавшей рот и нос, ограбил Первый национальный банк Омахи. На этот раз добыча налетчика составила восемьсот долларов — приличный куш. Но на сей раз охранник оказался более молодым и более ответственно отнесся к своим обязанностям, что создало определенные трудности. Грабителю пришлось выстрелить ему в ногу, чтобы ретироваться с деньгами. Чарльз Грайнер выжил, но рана вызвала заражение (в этом я могу ему посочувствовать), и ногу пришлось ампутировать. Когда осенью 1925 года я встретился с ним в доме его родителей, к случившемуся он относился философски.
— Мне повезло, что я вообще выжил. Когда наложили жгут на мою ногу, я лежал в луже крови глубиной в дюйм. Готов спорить, докторам пришлось использовать целую коробку «Дрефта», чтобы отмыть кровь.
Когда я попытался извиниться за сына, он отмахнулся:
— Зря я вообще подошел к нему. Шляпу он надвинул на лоб, бандана закрывала рот и нос, но глаза я видел хорошо. Мне следовало понять, что он выстрелит не задумываясь, а у меня нет шансов вытащить оружие. Все это читалось в его глазах. Но я тогда был молодым. Теперь я старше. А вашему сыну стать старше не удалось. Я сочувствую вашей утрате.
После этого ограбления Генри располагал достаточной суммой, чтобы купить автомобиль — хороший автомобиль, надежный, для дальних поездок, — но устоял перед искушением. (Написав это, я вновь испытываю чувство гордости — не такое уж сильное, но не вызывающее сомнений.) Мальчишка, который выглядит так, словно начал бриться одной или двумя неделями раньше, может купить почти новый «олдсмобил»? Конечно же, представители закона заинтересуются им.
Поэтому вместо того, чтобы купить автомобиль, Генри его украл. Опять остановил выбор не на хорошей машине, а на неприметной модели «форд»-купе. Именно этот автомобиль он припарковал за католическим домом при монастыре Святой Евсевии. Именно в него села Шеннон, выскользнув из своей комнаты и прокравшись вниз с дорожной сумкой в руке. Она вылезла через окно в ванной, которая примыкала к кухне. У них было время на один-единственный поцелуй, — Арлетт мне этого не рассказала, но мое воображение это нарисовало, — а потом Генри направил «форд» на запад. К рассвету они уже катили по автостраде Омаха — Линкольн. Проехали мимо его старого дома — и ее тоже — около трех пополудни. Возможно, посмотрели в этом направлении, но я сомневаюсь, чтобы Генри сбросил скорость. Он не хотел останавливаться на ночь в тех местах, где их могли узнать.
Так началась их бродячая жизнь.
Арлетт нашептала мне об этой жизни больше, чем я хотел знать, но у меня так щемит сердце, что я могу описать только самые общие моменты. Если вы хотите знать подробности, напишите в Общественную библиотеку Омахи. За скромную плату вам пришлют гектографические копии статей о «влюбленных бандитах», как их стали называть (и как они называли себя сами). Вы, возможно, сможете найти какие-то истории и в подшивке вашей ежедневной газеты, если живете не в Омахе: финал этой истории оказался таким душещипательным, что получил общенациональную известность.