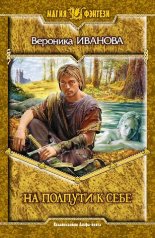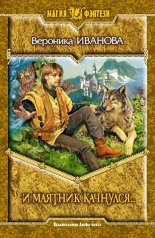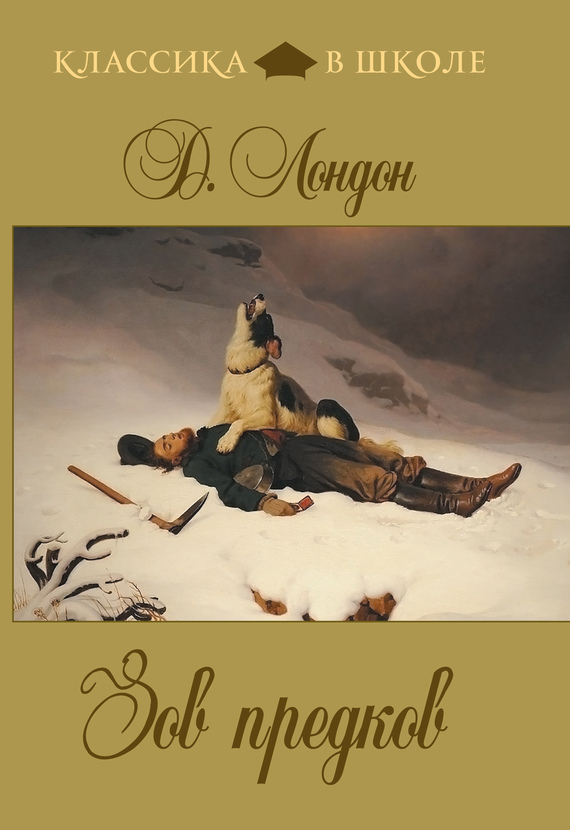Заговор «Аквитания» Ладлэм Роберт
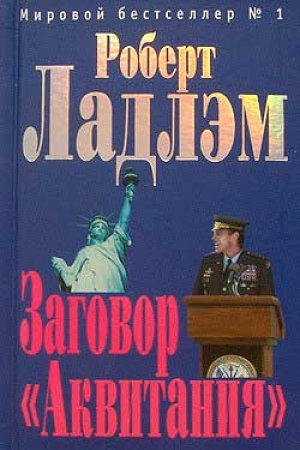
Читать бесплатно другие книги:
«Я привлекаю деньги» – супербестеселлер Наталии Правдиной – создательницы уникальной системы позитив...
Минуты покоя имеют гнусное обыкновение заканчиваться. Снежный ком событий, выросший из крохотной нес...
Вы любите приключения? А вот некто по имени Джерон их ненавидит. Но, как назло, эти самые приключени...
…И снова над миром грянул гром, и снова троица ментов в составе кинолога Сени Рабиновича, омоновца В...
«Зов предков» – одно из самых известных произведений замечательного американского писателя Джека Лон...