Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней Кандель Эрик
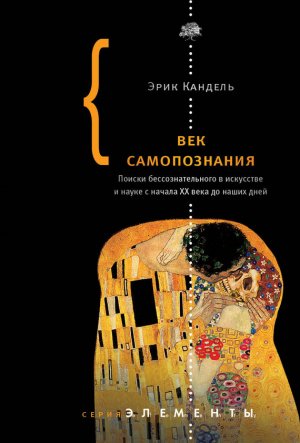
Эти изображения красноречиво передают многое из того, что впоследствии нашло воплощение в искусстве экспрессионизма. В частности, автопортрет в образе обнаженного юноши на последней литографии предвещает появление массы автопортретов в обнаженном виде, созданных вскоре Эгоном Шиле, а также работ таких мастеров, как Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд (внук Зигмунда Фрейда) 50х – 60х годов.
Язык экспрессионистской поэмы Кокошки пропитан эротическими образами и труден для понимания. Юный лирический герой начинает свой рассказ с пролога, а затем описывает одно за другим семь сновидений, вступлением к каждому из которых служит одна и та же фраза: “И я упал и видел сон”. В сновидениях герой превращается в волка, вторгающегося в сад своей возлюбленной:
- милые дамы
- что скачет и шевелится в ваших красных одеяниях
- в ваших телах ожидание
- проглоченных членов со дня
- вчерашнего и всегда?
- чувствуете ли вы возбужденное
- тепло дрожащего
- тихого воздуха – я кружащий
- рядом волк-оборотень –
- когда вечерний колокол смолкает
- я пробираюсь в ваш сад
- на ваши пастбища
- вламываюсь в ваш мирный загон
- мое разнузданное тело
- мое тело возвышенное краской и кровью
- вползает в ваши беседки
- пролазит в ваши деревни
- вползает в ваши души
- гноится в ваших телах
- из самой одинокой тиши
- пока вы не пробудите вновь мой пронзительный вой
- я пожираю вас
- мужчины
- дамы
- сонно слушающие дети
- прожорливый
- любящий волк-оборотень внутри вас
- и я упал и видел сон о неизбежных переменах
- …
- не события
- детства движутся сквозь меня
- и не мужественности
- но мальчишества
- неуверенное желание
- беспричинное чувство стыда перед тем растущим
- и состояние подростка
- переполнение и одиночество
- я ощутил себя и свое тело
- и я упал и видел сон любви[100]
Иллюстрации к поэме были впервые представлены публике весной 1908 года на выставке Кунстшау, организованной Климтом в честь шестидесятилетия правления Франца Иосифа. Климт, чувствуя, что Кокошка движется совсем не в том направлении, в котором двигался он сам, тем не менее поддерживал его и дал ему возможность представить свои работы на суд общественности: “Кокошка – выдающийся талант нового поколения. Даже если мы рискуем физическим разгромом Кунстшау, ничего не поделаешь. Мы выполним свой долг”[101]. Литографии Кокошки (они настолько выделялись, что он получил прозвище “царь зверей”) были предвестьем свершившегося в следующие несколько лет прорыва, который привел его к экспрессионизму.
Адольф Лоз увидел иллюстрации к “Грезящим юношам” на выставке и стал убеждать Кокошку отказаться от декоративного стиля и перестать работать на Венские мастерские. К следующему лету, за год до окончания Школы прикладного искусства, Кокошка избавился и от прежнего стиля, и от влияния Климта. Его поощряли в этом Краус и Лоз, которые считали картины Климта поверхностными. (Ни один из них не видел, увы, замечательных рисунков Климта.) Дружба сорокавосьмилетнего Лоза и двадцатидвухлетнего Кокошки сыграла важную роль в становлении последнего как художника, увлеченного поисками не красоты, а истины (рис. 9–2).
Окончательный стилистический разрыв с Климтом, как отмечает Чернуски, проявился в вылепленном Кокошкой в 1909 году из глины и раскрашенном темперой “Автопортрете в виде воина” (рис. 9–3). Этот бюст, рот которого открыт в “неистовом крике”, как писал в автобиографии Кокошка, создан под влиянием полинезийской маски, увиденной художником в Музее естествознания. Вполне вероятно, что здесь проявилось также влияние “характерных голов” предтечи австрийского экспрессионизма Франца Ксавера Мессершмидта (рис. 9–4).
В “Автопортрете в виде воина” Кокошка попытался сделать свое творчество одновременно более правдивым и менее привлекательным, нарочито демонстрируя технику работы по глине, позволившую изобразить лицо будто со срезанной кожей, в глубине которой угадывается движение крови. Кроме того, художник продавливал глину пальцами и использовал неестественные цвета для выражения не сдерживаемых никакими нормами эмоций. Мы видим первую попытку Кокошки отказаться от реалистичных цветов и текстуры ради передачи эмоций. Довершив начатое Ван Гогом освобождение цвета от представительной функции, Кокошка сместил акцент с достоверности на чистую экспрессию.
Рис. 9–2. Оскар Кокошка (1886–1980).
После того как университет отверг картины Климта, представители венской школы искусствознания отказались от классической ассоциации истины с красотой и пришли к убеждению, что самое правдивое искусство, например работы Мессершмидта и Кокошки, изображает людей без прикрас, даже уродливыми. Макс Дворжак, ученик Алоиза Ригля и Франца Викхоффа, стал активно поддерживать Кокошку и впоследствии сочинил предисловие к собранию его графических работ “Вариации на тему” (1921). Дворжак отмечал, что Кокошка пользуется материальным для изображения духовного.
Рис. 9–3. Оскар Кокошка. Автопортрет в виде воина. 1909 г.
В 1909–1910 годах Кокошка написал несколько необычно ярких портретов, перенеся на полотно приемы, использованные им в скульптуре: резкие линии, отпечатки пальцев, неестественные цвета. Эти портреты решительно расходились со вкусами того времени, сформированными под влиянием орнаментированных портретов Климта. Скульптурный автопортрет Кокошки, его портреты и две экспрессионистские пьесы, написанные им примерно в то же время, взбудоражили общество.
Рис. 9–4. Франц Ксавер Мессершмидт. Неспособный фаготист. 1771–1777 (?) гг.
Портреты работы Кокошки стали квантовым скачком в живописной технике венского модерна. Подобно Климту, порвавшему с вековым иллюзионизмом в живописи и внедрившему в современное искусство византийскую двумерность, Кокошка выбрал новый путь, совместив маньеристское утрирование форм и цветов с примитивимом и элементами карикатурности. Маньеризм возник около 1520 года, одновременно как продукт характерного для итальянского Высокого Возрождения изображения мира гармоничным, рациональным и прекрасным – и как отклик на это искусство. Маньеристы отказались от идеи, что красоту природы лучше всего передавать посредством внимательного наблюдения и точного запечатления, и начали изменять и гиперболизировать детали и изображать людей, предметы и пейзажи нарочито динамичными, чтобы формировать более выразительные и психологически глубокие образы.
Джон Ширман, исследователь искусства этого периода, отмечал: маньеристы воспроизводили природу в соответствии с собственными взглядами и собственным чувством драматизма, гиперболизируя формы и утрируя цвета. По словам Ширмана, Микеланджело, один из первых маньеристов, утверждал, что “человеческая фигура достигает верха изящества и выразительности в движении”[102].
Тициан, которого многие искусствоведы считают крупнейшим новатором в истории европейского портрета, взял на вооружение эти идеи раннего маньеризма и применил их в новой технике живописи – маслом на холсте. До начала XVI века итальянские живописцы писали преимущественно фрески и картины яичной темперой на деревянных панелях. Краски, которые они при этом использовали, имели водную основу, образовывали гладкую поверхность и быстро высыхали. Масляная краска принципиально отличалась тем, что сохла медленно, позволяя художнику дорабатывать и совершенствовать те или иные участки. Кроме того, масло давало возможность наносить слои вязкой полупрозрачной краски один поверх другого, непрерывно переделывать картину, создавать текстуру и эффект глубины. Используя масляные краски, Тициан смог передавать эмоции с помощью полупрозрачных слоев, наложенных один на другой, и крупных мазков. Холланд Коттер отмечает, что Тициан даже перестал подписывать картины, потому что его техника использования сырой краски, включающая нанесение царапин, была столь характерной, что работы не нуждались ни в каких иных указаниях авторства.
Кокошка отмечал в автобиографии[103], что одним из источников вдохновения для него стал прием Тициана, позволяющий с помощью света и цвета порождать иллюзию движения и тем самым дополнять цвет перспективой. Кокошка упоминал о картине “Пьета”, где свет используется для трансформации пространства так, что взгляд зрителя не направляется привычными ориентирами контуров и цветовых пятен и может задерживаться на свете: “Благодаря этой картине у меня отверзлись глаза, как в свое время в детстве, когда мне впервые приоткрылась тайна света”[104].
Не менее глубокое влияние на Кокошку оказал испанский маньерист Эль Греко. Его выставка, состоявшаяся в октябре 1908 года в парижском Осеннем салоне, вообще сильно повлияла на европейских художников. В Вене расходились репродукции Эль Греко, Климт в 1909 году отправился в Испанию, чтобы взглянуть на оригиналы, а Кокошка взялся изображать характерные для испанца вытянутые лица и тела.
Так цепочка влияний привела от маньеризма Тициана и Эль Греко к раннему экспрессионизму Мессершмидта и Ван Гога, а оттуда к экспрессионизму Кокошки. Десять лет спустя представители венской школы искусствознания Эрнст Гомбрих и Эрнст Крис увидели в экспрессионизме синтез традиции маньеристов и элементов примитивизма и карикатуры. В европейском искусстве портрета одними из первых воплощений этого синтеза стали “характерные головы” Мессершмидта, скульптурный автопортрет Кокошки и его портреты 1909–1910 годов.
Берлинский галерист Пауль Кассирер использовал термин “экспрессионизм” для противопоставления творчества Эдварда Мунка импрессионизму. У Мунка ключевую роль играла субъективная экспрессия эмоций в тревожном современном мире, а импрессионистов занимала прежде всего переменчивость облика предметов и людей при естественном освещении. Экспрессионизм в самом широком смысле характеризуется использованием гиперболизированных образов и неестественных, символических цветов, усиливающих субъективные ощущения зрителя.
Принципиальный переход от переменчивых впечатлений к более постоянным, сильным и эмоциональным средствам выражения хорошо описан Ван Гогом. В письме к брату Тео художник объясняет, что при написании портрета близкого друга запечатление его облика было лишь первым этапом работы. На следующем этапе Ван Гог переходит к изменению цветов собственно портрета и фона[105]:
Чтобы завершить его, я становлюсь необузданным колористом. Я преувеличиваю светлые тона его белокурых волос, доходя до оранжевого, хрома, бледно-лимонного. Позади его головы я пишу… бесконечность – создаю простой, но максимально интенсивный и богатый синий фон, на какой я способен, и эта нехитрая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего фона дает тот же эффект таинственности, что звезда на темной лазури неба[106].
Кокошка использовал короткие мазки, подобно Ван Гогу, и гиперболизацию эмоций, подобно Мунку, но зашел дальше обоих на пути развития приемов маньеристов. Кокошка внедрил в экспрессионизм гиперболизацию черт лица, рук и тела, которая прежде была прерогативой карикатуристов. В то время как Ван Гог прибегал к гиперболизации преимущественно для усиления внешних черт, а Мунк – для передачи ужаса, Кокошка использовал ее для раскрытия внутреннего мира – изображения психических конфликтов портретируемого и мучительного самокопания самого художника. Так он вышел за рамки стиля Климта и положил начало австрийскому экспрессионизму. Вот что пишет Гомбрих об искусстве экспрессионистов и об этом периоде творчества Кокошки[107]:
По-видимому, экспрессионистическое искусство отталкивает публику не столько самим фактом искажения натуры, сколько его следствием – отсутствием красоты. Когда карикатурист показывает человеческое уродство, это в порядке вещей – такова его профессия. Но когда художник вторгается в сферу серьезного искусства со своими искажениями, да еще такими, которые не идеализируют природу, а обезображивают ее, это вызывает возмущение[108].
Портретная живопись издавна преобладает в западном искусстве. Исключительная роль портретирования обусловлена тем, сколь о многом может поведать человеческое лицо. До эпохи фотографии люди из богатых и влиятельных семей заказывали свои портреты – для потомства. Портреты пользовались успехом и потому, что позволяли зрителям сравнивать их с собственными воспоминаниями об облике выдающихся личностей. Кокошка, понимая это, задался целью изменить некоторые из допущений искусства портрета. Он отверг давнюю традицию изображать портретируемых, будь то монархи, аристократы или простолюдины, как характерных представителей своего класса. В отличие от Климта, изображавшего идеализированных женщин, Кокошка в предельно индивидуализированных “картинах души” стремился раскрыть внутренний мир каждой модели. В ранних портретах Кокошки искусствовед Хилтон Крамер усматривает искреннее сопереживание и уверенное стремление не поддаваться обману маскарада, принятого в обществе. Все это вместе производит впечатление проникновения в самые сокровенные глубины психики[109].
В отличие от Климта, который изображал женщин на фоне пышных орнаментов, Кокошка использовал простой темный фон, подчеркивающий черты лица, а также руки. Хилтон Крамер пишет:
Кокошка помещает каждого из портретируемых в живописное пространство, не имеющее отношения ни к природе, ни к какому-либо узнаваемому домашнему интерьеру. Это некая инфернальная среда, и жуткая, и неземная, населенная бесами и угрожающая безумием. Свет в этом пространстве, образуя причудливую игру теней и отбрасывая пугающие отсветы, создает неуловимую и беззастенчиво интимную атмосферу[110].
Кокошка отказался от декоративных элементов, которые Климт использовал, чтобы отвлечь зрителя от сложных технических приемов. Портреты Кокошки выглядят так, будто они написаны ножом, что, в сущности, правда. Как и в своем скульптурном автопортрете, в живописи Кокошка откровенно подчеркивал методы изображения внутреннего мира моделей. Местами художник клал краску настолько тонким слоем, что она была едва заметна. А на другие участки он мог наносить ее густо, мастихином. Затем он стирал лишнюю краску тряпкой, пальцами или плоским металлическим инструментом, а иногда делал вмятины. Это сочетание тонких слоев с густо нанесенной краской, часто содержащей много непрозрачных белил, составляет одну из характерных черт тонкой оркестровки текстуры на картинах Кокошки.
Кокошка не воспроизводил облик своих моделей буквально. Он изображал черты характера, чувства и настроения. При этом он бессознательно передавал и собственные инстинктивные импульсы. Иногда манера его откровенно агрессивна. Способ нанесения краски позволял художнику рассказывать о собственном бессознательном, причем рассказывать вещи, порой не имеющие никакого отношения к личности портретируемых.
Кокошка опирался на четыре идеи. Во-первых, работа над портретом позволяет многое узнать о душевных качествах изображаемого. Во-вторых, изображая другого, художник познает и свою собственную природу. Кокошка понял, что самый верный путь к запечатлению психики других лежит через понимание собственной психики, а значит, и через работу над автопортретами. В-третьих, эмоции можно передавать с помощью жестов, причем особенно красноречивы кисти рук. В-четвертых, противоположные эмоциональные полюса (стремление и избегание) всегда сопряжены с сексуальностью или агрессией, причем эти инстинктивные импульсы проявляются не только у взрослых, но и у детей.
Первым из написанных Кокошкой портретов был портрет его друга Эрнста Рейнхольда (настоящее имя – Рейнхольд Хирш). Работая над этим (рис. I–28) и следующими портретами, художник стремился “воссоздать, выразив на языке живописи, самую суть изображаемого живого существа”[111]. Кокошка взял кричащие, неестественные цвета и наносил краску неравномерно, размазывал ее пальцами и ручкой кисти. Местами он соскабливал краску. Фигура рыжеволосого актера выделяется, а пронзительный взгляд голубых глаз устремлен на зрителя. Фон на этом и других портретах Кокошки размыт – не только в противоположность орнаментированному фону Климта, но и чтобы сконцентрироваться на внутренней жизни моделей. Искусствовед Роза Берланд отмечает, что этот фон, а также грубая текстура и призрачное освещение привлекают внимание к технике и служат визуальной метафорой процесса художественного творчества. Кокошка отзывался об этой картине:
Портрет Рейнхольда, особенно важная для меня картина, содержит одну деталь, на которую до сих пор никто не обращал внимания. Работая в спешке, я изобразил на левой руке, прижатой к груди, всего четыре пальца. Может быть, я просто забыл дописать пятый? Так или иначе, мне не кажется, что его не хватает. Мне важнее было пролить свет на душу портретируемого, чем перечислить все детали, такие как пять пальцев, два уха или один нос[112].
Кокошка дал портрету Рейнхольда новое название – “Актер транса”, потому что “думал о нем так много, что не мог выразить это словами”[113]. Одна из мыслей, которые он явно не выразил в словах, состоит в том, как художник забыл изобразить один из пальцев на руке. Если проследить за работой Кокошки над портретами, первым из которых стал “Актер транса”, становится ясно, что это прямой аналог оговорки по Фрейду – говорящее о многом умолчание.
Портрет Рейнхольда стал первой попыткой Кокошки передать мысли и чувства при помощи искажения тел портретируемых. Впоследствии это стало его излюбленным приемом. Иллюстрации к поэме “Грезящие юноши” Кокошка выполнил в манере Климта. В “Актере транса” мы видим принципиальный переход от смыслов, передаваемых традиционными аллегориями, к смыслам, заключенным в самом теле портретируемого. Климт использовал руки для символической передачи смыслов в таких картинах, как “Поцелуй” или “Портрет Адели Блох-Бауэр I”, но Кокошка пошел дальше: четыре пальца на руке Рейнхольда, возможно, символизируют неполноту характера изображенного. Иконографию частей тела полнее разработал Эгон Шиле.
В 1910 году Кокошка выставил 27 полотен, 24 из которых были портретами, и все они были написаны без эскизов, всего за один год! В 1909–1911 годах он написал более 50 портретов, преимущественно мужских. Иногда, как в портрете Рудольфа Блюмнера 1910 года, он использовал глаза, лица и кисти рук для передачи глубокой тревоги – или ужаса (рис. I–29). Кокошка уважал Блюмнера как художественного критика и писал, что тот был “неутомимым борцом за дело современного искусства… новым Дон Кихотом в безнадежной битве с глубоко укоренившимися предрассудками своего времени, и это нашло отражение в моем портрете”[114].
Большинство этих ранних портретов поясные: нижняя граница проходит под кистями рук. Кокошка был убежден, что “говорящие руки” позволяют передать эмоции, и намеренно подчеркивал их. Иногда, как на портрете Блюмнера, кисти рук на картинах Кокошки обведены или запятнаны красным. Правая рука Блюмнера приподнята, и все тело выглядит так, будто он сейчас излагает важный аргумент. Энергия этого движения передается через складки правого рукава пиджака. Пятна красного покрывают лицо, образуя зловещий узор на коже, нарочито бледной. Красный подчеркивает черты лица, вены и артерии. Наше внимание привлекают глаза: один крупнее другого. Погруженный в себя человек на портрете не смотрит на зрителя, его рассеянный взгляд направлен в сторону.
Слой краски на портрете тонкий, местами она соскоблена, что указывает на готовность Кокошки пожертвовать деталями ради изображения собственного возбужденного состояния. Здесь, как и на многих его портретах, мазки и соскобы настолько заметны, что внимание зрителя притягивает не только изображенный человек, но и поверхность картины. Текстура выражает не столько бессознательные чувства портретируемого, сколько реакцию художника, а также его тревогу за передачу собственных чувств. Тонкость, полупрозрачность краски вызывают жутковатое ощущение призрачности. Как утверждал Кокошка, он стремился к созданию живописного аналога рентгеновского снимка черепа.
И сам Кокошка, и Адольф Лоз неоднократно подчеркивали, даже рекламировали умение художника проникать в глубины психики портретируемых. В автобиографии Кокошка с традиционной для него нескромностью писал: “Я мог предсказать дальнейшую жизнь любого из тех, чьи портреты писал, наблюдая, подобно социологу, как условия среды влияют на характер человека – точно так же, как почва и микроклимат влияют на рост растения в цветочном горшке”[115]. Но при всей нескромности Кокошка обладал поразительной способностью видеть не только настоящее своих моделей. Этот дар ярко проявился в двух портретах: Огюста Фореля и Людвига фон Яниковского.
Форель, как и Фрейд, был всемирно известным психиатром. Он интересовался также сравнительной анатомией и наукой о поведении, независимо от Фрейда и Рамон-и-Кахаля сформулировал основы нейронной доктрины. Весной 1910 года Кокошка написал портрет Фореля (рис. I–30), заказанный Лозом, который в то время руководил всей деятельностью Кокошки как портретиста. Работая над портретом Фореля, как и над другими портретами того периода, Кокошка соскабливал краску ручкой кисти и рукой. Одна из особенностей этой картины состоит в том, что модель изображена необычно: кисть правой руки согнута и цепляется большим пальцем за обшлаг левого рукава, а взгляд правого глаза, в отличие от левого, неподвижен. Можно подумать, будто изображенный перенес инсульт левого полушария, парализовавший правую сторону тела, и именно так поняли этот портрет родные Фореля и он сам.
Когда портрет был готов, Форель отказался от картины. В частных разговорах Кокошка признавал, что тот на портрете выглядит перенесшим инсульт. Через два года Форель действительно перенес инсульт, парализовавший правую руку и правую половину лица. Трудно сказать, предсказал ли Кокошка инсульт случайно – или же наблюдательность позволила ему заметить временную ишемию, предвещавшую инсульт.
Еще один пример дара предвидения Кокошки – его портрет литературоведа Людвига фон Яниковского (рис. I–33), друга Карла Крауса, написанный в 1909 году. Глядя на этот портрет, можно подумать, что изображенный страдает психозом. Вскоре после завершения портрета у Яниковского действительно развился психоз. Кокошка отразил этот недуг, выделив голову Яниковского так, будто она движется навстречу зрителю. Яркие цветовые пятна на лице и фоне передают ощущение ужаса, характерное для начала психотического срыва. Яниковский на портрете смотрит зрителю в глаза. Мы чувствуем его страх и испытываем сострадание при виде испуганных асимметричных глаз, разных ушей, головы без шеи и теряющейся на темном фоне одежды. О близости Яниковского к безумию говорят также глубокие борозды и морщины, процарапанные ручкой кисти на лице, глазах, губах, ярко-красных ушах, на фоне картины.
Хилтон Крамер писал об этих ранних портретах Кокошки:
Стиль, отточенный Кокошкой в ранних портретах, иногда метко называют “живописью нервов” или “живописью души”, тем самым сразу предупреждая, что от этих картин не следует ждать соответствия нормам реалистического изображения, тем более приукрашивания… Мы видим, наоборот, глубокое сопереживание и стремление не быть обманутым масками общепринятых манер – все это порождает эффект глубокого проникновения в самую сущность психики… И в 1913 году, когда художник написал “Автопортрет с рукой на груди”, он и для себя не сделал исключения из этого принципа предельной откровенности[116].
Рис. 9–5. Оскар Кокошка. Плакат для обложки журнала “Штурм”. 1911 г.
Хотя Кокошка не был чужд тщеславия и склонности к саморекламе, в автопортретах он этих качеств не проявлял. Он подвергал свою личность анализу более глубокому и беспощадному, чем его предшественники-художники в его возрасте. Более того, он был откровеннее и самокритичнее Фрейда и Шницлера.
Своим знаменитым автопортретом 1911 года для рекламного плаката журнала “Штурм” Кокошка ответил на суровость венских критиков, окрестивших его “вождем дикарей”. Он изобразил себя в виде изгоя, напоминающего одновременно преступника (обритая голова, выступающая нижняя челюсть) и Христа, гримасничающего и указывающего пальцем на кровоточащий стигмат на груди, будто укоряя венцев (рис. 9–5).
Другая разновидность самокритики видна на автопортретах периода бурного романа Кокошки с Альмой Малер – одной из красивейших женщин Вены, вдовой композитора Густава Малера. Кокошка сделал предложение Альме в страстном письме, написанном в апреле 1912 года, через три дня после знакомства и примерно через одиннадцать месяцев после смерти ее мужа. Это было начало весьма непростых отношений, в прочности которых Кокошка никогда не был уверен. Альма, которой в ту пору было тридцать три, была человеком гораздо более зрелым и опытным, чем двадцатишестилетний Кокошка. Хотя их роман продолжался всего два года, он не давал покоя Кокошке всю его молодость. Завершилась связь тем, что Альма сделала аборт, Кокошка разбил посмертную маску Малера, а Альма ушла к архитектору Вальтеру Гропиусу. Свое горе Кокошка выразил в серии автопортретов и аллегорических картин, которые отражают его отношения с Альмой, разыгрываемые с заказанной художником куклой – подобием Альмы в натуральную величину.
Рис. 9–6. Оскар Кокошка. Автопортрет с возлюбленной (Альмой Малер). 1913 г.
На многих автопортретах этого периода Кокошка предстает в халате Альмы, в котором он часто работал. На одной картине художник изображен обернувшимся к зрителю и касающимся лица с вопросительным взглядом (рис. II–285). Кокошка выглядит встревоженным, почти испуганным. Это впечатление усиливается темно-зелеными полосами фона. На нескольких автопортретах, где Кокошка запечатлен с Альмой (рис. 9–6), она обычно кажется спокойной, а он выглядит одновременно покорным и взволнованным, будто на грани нервного истощения. На самом сильном из этих автопортретов, получившем название “Невеста ветра”, они изображены в тонущей в океане лодке, разбиваемой волнами их бурных отношений. Альма при этом спокойно спит, а он как обычно показан встревоженным, напряженно застывшим рядом с ней (рис. II–30). С помощью темных цветов и густых слоев краски Кокошка придал картине объем и красноречиво выразил свое смятение в то время. В цвета его кожи вплетаются тревожные красноватые оттенки, а тело Альмы светится зеленоватыми землистыми цветами.
На автопортрете 1917 года (рис. I–31) Кокошка указывает себе правой рукой на левую сторону груди. Его лицо и взгляд выражают страдания, вызванные не только еще не преодоленной утратой Альмы, бросившей его тремя годами ранее, но и физической травмой, полученной на войне: колотой раной, задевшей левое легкое. Роза Берланд отмечает, что боль этой двойной травмы отражается в том числе в неравномерных мазках, а также в затягиваемом тучами небе за спиной художника.
Автопортреты говорят не только о немалом влиянии Ван Гога на Кокошку, но и об отличиях их манеры. Решительные мазки и смелые цвета Ван Гога были взяты на вооружение Кокошкой[117]. Но когда Ван Гог переживал эмоциональные потрясения, он гораздо сдержаннее демонстрировал их зрителю. Самым ярким примером может служить необычный автопортрет, написанный Ван Гогом в 1889 году (рис. I–32). В конце 1888 года страдавший маниакально-депрессивным психозом художник после ссоры со своим другом Гогеном отрезал себе бритвой кусок левого уха и вскоре написал автопортрет с перевязанным ухом. Считается, что здесь Ван Гог запечатлен в самый мрачный период своей жизни, и все же он смотрит с полотна довольно спокойно.
Идея передачи черт личности с помощью жестов еще ярче проявилась в групповых портретах Кокошки. Художнику удалось превратить в средства экспрессии не только лица портретируемых, но и вообще их тела, особенно “говорящие руки”. Психическое напряжение становится зримым. Свои приемы Кокошка выработал отчасти под влиянием Родена.
Внимание к рукам и лицам традиционно для портретной живописи, но Кокошка сделал с руками то, что Климт с женской сексуальностью: дал им современную интерпретацию. Так, если молитвенно сложенные или благословляющие руки в христианском искусстве Византии говорят о духовности, то на картинах Кокошки руки выражают психологическое состояние портретируемых, их бессознательные эротические или агрессивные импульсы. Кроме того, Кокошка использовал руки для рассказа о социальных взаимодействиях.
Исследователь жизни и творчества Кокошки Патрик Веркнер утверждает, что источником вдохновения для художника послужил еще и танец, принявший в Вене на рубеже XIX–XX веков новые, более свободные, экспрессивные формы. Возможно, что на Кокошку повлияли изображения страдающих истерией пациентов Жан-Мартена Шарко. Труды Шарко заставили Брейера, Фрейда и некоторых других врачей заинтересоваться позами их собственных пациентов-истериков. Описывая эти позы в своих работах, врачи создали эстетическую типологию положений тел истериков – новую иконографию, которая вполне могла повлиять и на Кокошку, и на Шиле.
Кокошка умел выражать с помощью рук эмоциональные отношения. Взгляните, например, на его картину “Ребенок на руках родителей” (1909) – портрет младенца Фреда Гольдмана (рис. I–34). Правая рука матери и левая рука отца дают ребенку защиту и убежище. У родителей показаны только эти руки, которые как будто говорят друг с другом о любви. Они явственно различаются, но выглядят сотрудничающими. Рука отца, написанная с использованием ярких красных тонов, напряжена. Она защищает и в то же время ограничивает. Рука матери бледнее, мягче, расслабленнее. Дополнив портрет ребенка руками родителей, Кокошка превратил картину в семейный портрет. В этой исполненной любви картине Кокошка продемонстрировал поразительную способность открывать не всегда очевидные черты. На руке отца он изобразил сломанный палец – результат полученной в раннем детстве травмы, о которой не помнил и сам портретируемый.
Возможно, еще более выразительный диалог рук разыгрывается на портрете Ганса Титце и его жены Эрики Титце-Конрат (рис. I–35). Оба они были искусствоведами, нередко публиковали совместные работы и много лет трудились за одним столом. В 1909 году, когда был написан этот портрет, Гансу было 29 лет, Эрике – 26, и они были женаты четыре года. Кокошка писал, что на этом портрете он стремился изобразить их совместную жизнь. Ганс Титце был учеником Ригля, представителем венской школы искусствознания, апологетом современного искусства, впоследствии одним из учителей Эрнста Гомбриха. Эрика специализировалась на искусстве барокко. Для портрета супруги позировали отдельно.
Кокошка представил их не связанными друг с другом. Он сосредоточился на различиях между полами, выразив их через характерные позы и жесты. Руки изображенной пары (у мужа они непропорционально крупные) создают мост, но супруги смотрят не друг на друга, а в разные стороны, и кажется, ведут посредством рук красноречивый, полный эротизма диалог, в котором принимает участие и зритель. Ганс и Эрика представлены как два независимых человека, каждому из которых свойственны свои устремления и сексуальные потребности. Карл Шорске писал, что свет за спиной Ганса передает ощущение мужской сексуальной энергии. Эрика, подобно Альме Малер на картине “Невеста ветра”, будто отстраняется от тянущегося с ней мужа.
Техника Кокошки здесь столь же примечательна, как и его подход к изображению рук. Сила его творческого метода проявилась в быстрых мазках, нервных царапинах и неравномерных линиях, нанесенных на странную поверхность, цвета которой колеблются от золотых до коричневых. Руки женщины и на этой картине бледны, а руки мужчины красны.
Через изображения рук Кокошка умел передавать инстинктивные влечения не только взрослых, но и детей. Его интерес к внутреннему миру ребенка впервые проявился в картине “Играющие дети” (1909). Изображены здесь пятилетняя Лотта и восьмилетний Вальтер, дети книготорговца Рихарда Штайна. Кокошка не стал писать детей в позах, выражающих невинность, как было принято. На его картине язык тел, цвета указывают на то, что отношения между детьми не такие уж спокойные и невинные (рис. I–36).
Дети показаны борющимися с влечением друг к другу, с внутренним и внешним конфликтами, которые это влечение вызывает. Мальчик изображен в профиль, пристально смотрящим на девочку, которая лежит на животе, глядя на зрителя. Как и на портрете четы Титце, через руки Кокошка передает связь между ними. Левая рука брата тянется к правому кулачку сестры.
Эта ранняя работа Кокошки шокировала публику. Намек на то, что у детей, тем более у брата и сестры, могут быть романтические, даже эротические мысли, казался возмутительным. Нацисты впоследствии сочли картину ярким примером “дегенеративного искусства” и убрали ее из Дрезденской галереи. Гомбрих описывал картину так[118]:
В живописи прошлого ребенок всегда представал миловидным и беззаботным. Взрослые, ничего не желавшие знать о детских горестях и тревогах, возмущались при малейшем намеке на них. Кокошка отказался от участия в этой игре. Его взгляд, преисполненный глубокого сочувствия к детям, уловил их тоску и мечтательность, заметил дисгармоничную неловкость растущих тел. Чтобы отразить эти особенности, он расстался с набором готовых приемов и как раз благодаря отступлениям от формального правдоподобия приблизился к правде жизни[119].
Кокошка буквально ворвался в искусство. Подобно Фрейду, он понимал важность Эроса. Некоторое время Кокошка жил в Берлине и Дрездене, в 1934 году переехал в Прагу, в 1938 – в Лондон, в 1939 – в деревню Полперро в Корнуолле, а в 1953 – в Швейцарию, где жил до самой смерти (1980). Гомбрих, который был знаком с Кокошкой еще в Вене и вновь повстречался с ним в Англии, считал его величайшим портретистом XX века.
Работы Кокошки много выставлялись в Великобритании, и, вероятно, он оказал влияние на английских экспрессионистов. Эгон Шиле также повлиял на них, а еще, опосредованно, и на Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда. Мне представляется, что есть некая высшая справедливость в долгой и плодотворной жизни в искусстве Люсьена Фрейда, увлеченного, как и Рокитанский, Зигмунд Фрейд и Кокошка, поиском истин, не лежащих на поверхности. Более того, в начале XXI века Люсьен Фрейд писал о своем творчестве почти так же, как Кокошка отзывался о своем:
По мне, путешествовать лучше всего вглубь… больше узнавая о себе и подробнее разбирая знакомые чувства. Я считаю, что стремление знать что-либо “наизусть” всегда дает нам больше, чем стремление знакомиться с новыми достопримечательностями, какими бы они ни были интересными[120].
Глава 10
Эротика, агрессия и страх в искусстве
Для современной живописи Эгон Шиле (рис. 10–1) с его экзистенциальной тревогой стал тем же, чем Франц Кафка стал для современной литературы. В то время как Густав Климт и Оскар Кокошка, поощряемые и направляемые друзьями-интеллектуалами, интересовались состоянием чужой психики, Шиле сильнее, чем кто-либо из художников той эпохи, занимали собственные страхи и тревоги.
Хотя Шиле прожил всего 28 лет, он оставил около 300 законченных картин и несколько тысяч графических работ и акварелей. Подобно Климту и Кокошке, его влекли темы агрессии и смерти. Но, в отличие от Климта, Шиле передавал более широкий круг женских эмоций, связанных с сексом: мучения, вину, страх, страдания отвергнутых, любопытство, даже удивление. У Шиле, особенно в ранних работах, женщины скорее тяготятся своей чувственностью.
В этом Шиле брал пример с Кокошки, также стремившегося исследовать глубины психики – собственной и тех, чьи портреты он создавал. Но, углубляясь во внутренний мир моделей, чтобы постичь их характер, Шиле не концентрировался, как Кокошка, только на их лицах и руках. К тому же Шиле оставил множество автопортретов. Он запечатлел себя грустным, встревоженным, испуганным, мастурбирующим, совокупляющимся.
Рис. 10–1. Эгон Шиле (1890–1918).
Страх и тревога у Шиле проявляются не только в сюжетах, но и в стиле. В отличие от творчества Климта и ранних работ Кокошки, зрелые произведения Шиле мрачны, здесь нередко отсутствуют яркие цвета. Тела на многих рисунках и картинах изломаны, а руки и ноги болезненно искривлены, как у пациентов-истериков Жан-Мартена Шарко. Но пациенты Шарко принимали эти позы невольно, а Шиле сознательно работал над передачей эмоций через язык тела, нередко отрабатывая позы перед зеркалом.
Шиле продолжает традицию маньеристов. Фрейд и его последователи обозначали выражение запретных импульсов в поведении термином “отреагирование”. Шиле был первым художником, применившим отреагирование для передачи собственных страхов, смятения и отчаяния. Подобно Максу Дворжаку, прославлявшему Кокошку, творчество Шиле на протяжении всей его жизни в искусстве прославлял другой представитель венской школы искусствознания, Отто Бенеш, директор галереи Альбертина – ценнейшей в мире коллекции рисунков и гравюр. Кроме того, семья Бенеша покровительствовала Шиле. Его отец Генрих Бенеш помогал художнику деньгами. В 1913 году Шиле написал двойной портрет Отто Бенеша и его отца (рис. 10–2).
Эгон Шиле родился в 1890 году в Тульне-на-Дунае – австрийском городке неподалеку от Вены. Предки его отца жили в Германии, а сам Адольф Шиле занимал в Тульне должность начальника железнодорожной станции. Семья жила на втором этаже вокзала. У Шиле родилось семеро детей, трое из которых появились на свет мертворожденными. Кроме Эгона, выжили три девочки: Эльвира, Мелани и Гертруда (Герти). Герти была самой младшей и любимой сестрой Эгона. Брата и сестру связывали особые отношения: в частности, именно ее он предпочитал приглашать в качестве натурщицы для своих ранних картин.
В новогоднюю ночь 1904 года (Эгону было 14 лет) Адольф Шиле умер от запущенного сифилиса. Вполне возможно, что ранняя смерть отца, лишившегося от венерического заболевания рассудка, случившаяся в то самое время, когда Эгон переживал становление сексуальности, была одной из причин страхов, сыгравших ключевую роль в жизни и творчестве художника. Кроме того, смерть отца могла стать причиной того, что секс прочно ассоциировался у Шиле со смертью и чувством вины. На его картинах и он сам, и натурщицы нередко изображены так, будто находятся на грани нервного истощения.
Рис. 10–2. Эгон Шиле. Двойной портрет Генриха Бенеша и его сына Отто. 1913 г.
Шиле с ранних лет проявлял великолепный талант рисовальщика. В шестнадцать он поступил в Императорскую академию художеств в Вене, где оказался самым юным учеником в классе. Он начал совершенствовать свое и без того исключительное мастерство, вначале подражая, а затем развивая технику рисования вслепую, изобретенную Роденом[121] и взятую на вооружение Климтом. Шиле наблюдал за натурщиками и, не сводя с них глаз и не отрывая карандаша от бумаги, с удивительной быстротой их зарисовывал. При этом художник никогда не исправлял свои рисунки.
В результате получались характерные линии, одновременно нервные и точные и совсем не похожие ни на чувственные линии ар-нуво, стиля, в котором работал Климт, ни на выверенные линии академической традиции. Этот новый стиль позволил Шиле улавливать жесты и движения портретируемых и передавать их не с помощью света и тени, а контуров. Всю оставшуюся жизнь он пользовался этой техникой.
В 1908 году Шиле посетил выставку Кунстшау, организованную Климтом. Там он впервые познакомился с картинами Климта и ранними работами Кокошки – иллюстрациями к поэме “Грезящие юноши”. Шиле был потрясен и вскоре посетил мастерскую Климта. На того, в свою очередь, произвели впечатление способности Шиле, и поддержка мастера ободрила молодого художника. После 1908 года влияние Климта, сказавшееся на раннем творчестве Кокошки, начало проявляться и в работах Шиле.
Шиле не только подражал стилю Климта, но и самому мастеру, работавшему в длинном одеянии, напоминавшем рясу. Некоторое время Шиле называл себя “серебряным Климтом” – не только потому, что использовал в работе металлическое серебро, но и потому, что воспринимал себя как подобие старшего художника[122]. В следующем году Шиле написал под влиянием Климта несколько картин, изображающих уплощенные фигуры на двумерном фоне (рис. II–2, II–3). Как и у Климта, двумерность привлекает внимание зрителя к внутреннему миру моделей.
На Кунстшау 1909 года Шиле выставил свои работы, в том числе ряд портретов сестры Герти (рис. II–2), портрет Антона Пешки (рис. II–3), впоследствии женившегося на ней, и портрет Ханса Массманна, учившегося вместе с Шиле в Академии. Воспроизведенный здесь портрет Герти особенно хорош. Она показана сидящей в кресле, покрытом ее накидкой и разноцветным пледом, украшенным близким к стилю Климта орнаментом. Очертания тел Герти и Антона Пешки на портретах сливаются с контурами кресел, подобно очертаниям Адели Блох-Бауэр на знаменитом портрете. Здесь у Шиле еще присутствуют декоративные элементы, хотя и сдержанные. К тому времени Кокошка уже отказался от пышного орнаментального фона, характерного для Климта. После 1909 года Шиле также начал упрощать фон своих полотен и в итоге полностью отказался от орнаментальных украшений. Фигуры у Шиле как будто выступают из холста, что подчеркивает ощущение их одиночества.
В 1910 году Шиле решительно отдалился от Климта, перейдя к экспрессионистскому стилю, сначала демонстрировавшему влияние Кокошки, но затем сделавшемуся отчетливо индивидуальным. Отход от Климта проявился не только в отказе от орнаментов, но и в выборе художником самого себя в качестве главного объекта психологических изысканий. Климт за всю жизнь не написал ни одного автопортрета, а Шиле только в 1910–1911 годах создал около сотни работ в этом жанре. Тут он превзошел даже Рембрандта и Макса Бекмана, на разных этапах жизненного пути исследовавших на собственном примере человеческую природу и ее проявления.
Шиле оказался достоин своих современников Фрейда и Шницлера: он не только изучал психику, но и исходил из того, что для понимания внутреннего мира других нужно сначала разобраться в собственном бессознательном. Шиле с навязчивым упорством раскрывался в графических и живописных автопортретах, изображая себя то в одиночестве, то с партнершами, иногда с усеченными конечностями, иногда без половых органов, в судорогах, с проступающим скелетом или с омертвевшей плотью прокаженного. Он демонстрировал свое тело неловким и страдающим. Позы, жесты служили ему для передачи широкого спектра эмоций: страха, тревоги, чувства вины, любопытства и удивления в сочетании со страстью, восторгом и трагизмом (рис. 10–3).
На всех автопортретах Шиле изображал себя перед зеркалом, иногда мастурбирующим (рис. II–4 – II–6). Такие изображения были смелы по ряду причин, в том числе потому, что в Вене в то время бытовало мнение, будто от мастурбации мужчины сходят с ума. Но автопортреты представляют собой не только демонстрацию наготы, но и попытку саморазоблачения и самоанализа – художественный аналог фрейдовского “Толкования сновидений”. Философ и искусствовед Артур Данто писал в очерке “Живая плоть”:
Эротика присутствовала в изобразительном искусстве со времени его появления… Но Шиле был уникален тем, что сделал эротику определяющим мотивом своего впечатляющего… творчества. Его картины выглядят иллюстрациями тезиса Зигмунда Фрейда… о сексуальной природе нашего внутреннего мира… Искусство Шиле не поддается чисто искусствоведческому объяснению[123].
Автопортреты Шиле в обнаженном виде почти не имеют аналогов. Он вывел изображение обнаженной натуры на новый уровень, создав небывалое аутоэротическое искусство, раскрывающее бессознательные импульсы самого художника, его эротические и агрессивные устремления. Лишь несколько десятков лет спустя британцы Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Дженни Савиль и американка Элис Нил предприняли попытки использовать, подобно Шиле, собственное обнаженное тело для передачи исторических и художественных смыслов средствами живописи.
Кроме того, Шиле ввел новую разновидность метафорической иконографии, распространив на все тело подход, который Кокошка применял преимущественно к рукам. В самых больших автопортретах Шиле в обнаженном виде (рис. II–5, II–6) не остается уже никаких отголосков изящного стиля Климта. В автопортретах 1910 года Шиле, возможно, под влиянием Ван Гога или Кокошки, нередко использовал короткие уверенные мазки, придавая агрессии зримую форму и преобразуя грезы арнуво в ужас повседневности.
Рис. 10–3. Эгон Шиле. Автопортрет с лицом, искаженным криком. 1910 г.
Кроме того, Шиле нередко прибегал к анатомическим искажениям, изображая в том числе шрамы и больную мертвенно-бледную кожу, и так передавал отчаяние, сексуальную извращенность и ощущение внутреннего разложения. Этот взгляд на человеческую природу роднит его с Фрейдом, пришедшим к пониманию психики как продукта навязчивых влечений и затаенных воспоминаний. Вообще говоря, Шиле был едва ли не первым художником, запечатлевшим страх, неотступно преследующий современного человека: боязнь не выдержать напора сенсорных стимулов, давящих на нас снаружи и изнутри.
Отыскав собственный стиль, художник ввел в творчество то, что искусствовед Алессандра Комини называет художественной формулой Шиле: обособление фигуры или фигур, изображение их анфас и выравнивание оси тела по центральной оси холста и подчеркивание глаз, рук, всего тела. Все эти утрированные черты создают у зрителя ощущение неотвязной тревоги. Другой искусствовед, Джейн Каллир, отмечает: “И в рисунках, и в картинах Шиле роль объединяющей силы играла линия… Так завершилась метаморфоза: эмоциональный эффект пришел на смену декоративному… Шиле сорвал маску с мрачного мира потаенных чувств”[124].
На “Автопортрете с полосатыми нарукавниками” (1915) Шиле изобразил себя в образе шута, чуждого общепринятым нормам (рис. II–7). Нарукавники напоминают деталь шутовского наряда. Свои волосы художник изобразил ярко-рыжими, а широко открытые глаза – полубезумными. Голова на тонкой шее склонена к плечу. На другом автопортрете (рис. II–1) выражение тревоги усиливается широкой полосой белил, окружающей контуры головы, отделяющей ее от фона и вместе с тем увеличивающей ее в размерах и утверждающей ее важность. Кроме того, над глазами выделяется гигантский лоб, пересеченный глубокими морщинами. Можно предположить, что здесь Шиле хотел повторить образ отрубленной головы Олоферна у Климта, изобразив самого себя в качестве жертвы: голова располагается в верхней части листа, и этим подчеркивается отсутствие тела.
“Говорящие руки” Шиле (рис. II–5, II–6, II–7) сильно отличаются от “говорящих рук” Кокошки: они более утрированы, театральны, порывисты. Вытянутые пальцы напоминают подрезанные ветви дерева, а жесты – жестикуляцию истериков. Алессандра Комини описывает эксперименты Шиле с жестами, например следующий: художник прижимал выпрямленный палец правой руки к правому нижнему веку и оттягивал его вниз. Свою голову Шиле изображал множеством способов. Исследовательница задается вопросами: “Почему произведения Шиле того времени исполнены такой экспрессии, как он выработал новый художественный лексикон, потребовавший столь концентрированного представления о себе?” И отвечает так:
Можно назвать несколько внешних и внутренних причин. Одна из них – обостренный интерес к собственному “я”, распространенный в Вене на рубеже веков… Живя в том же городе, вращаясь в той же среде… что и… Зигмунд Фрейд, Шиле разделял общее увлечение исследованием глубин психики. Автопортреты Шиле, как и… Кокошки, интуитивно выражают те же аспекты сексуальности и индивидуальности, которые с научных позиций… анализировал Фрейд[125].
На стилистику автопортретов, по-видимому, повлияла биология. Шарко публиковал изображения заламывающих руки истериков. Изображения эти были весьма популярны. Больница Сальпетриер в 1888–1918 годах раз в два месяца даже издавала журнал, посвященный не только истерии, но и, например, макродактилии (разрастанию отдельных пальцев), младенческому гигантизму и заболеваниям мышц, деформирующим тело. Кроме того, Шиле наверняка видел выставленные в Нижнем Бельведере “характерные головы” (рис. 11–4, 11–5), созданные в 80х годах XVIII века Францем Ксавером Мессершмидтом (гл. 11). На Шиле также могло повлиять творчество его друга Эрвина Озена, наблюдавшего за пациентами психиатрической больницы Штайнхоф. Эрвин фон Графф, врач, учившийся патологической анатомии у представителей школы Рокитанского и делившийся знаниями с Шиле, разрешил зарисовывать пациентов. Их образы могли запечатлеться в памяти художника. Можно также предположить, что влияние на Шиле оказала неустойчивость собственной психики. Развивавшаяся у него на глазах психическая болезнь отца могла стать страшным призраком, напоминавшим, что он и сам может сойти с ума.
В 1911 году, в возрасте 21 года, Шиле познакомился с Валери Нойциль – рыжеволосой семнадцатилетней девушкой, называвшей себя Валли. Она была одной из натурщиц и, возможно, любовниц Климта и стала натурщицей и любовницей Шиле. С ее помощью художник стал гораздо лучше представлять себе спектр женского эротического опыта и решил сосредоточиться на подростковой сексуальности. Эта тема вызывала у него особый интерес, и он нередко изображал юных натурщиц в откровенно эротических позах. Это направление творчества было новым для экспрессионизма. Хотя тема подростковой сексуальности, исследование которой в западном изобразительном искусстве началось с Гогена, Мунка и Кокошки, впоследствии стала обычной для немецких экспрессионистов, ни они, ни Кокошка не разрабатывали ее так дотошно и неприкрыто, как Шиле.
В некоторых работах Шиле нарочито изображены гениталии и половые акты. Поза девушки на рисунке 1918 года “Скорчившаяся обнаженная с опущенной головой” (рис. 10–4) выражает потребность в защите. В таких рисунках, как “Половой акт” 1915 года (рис. II–31), эротика, усталость от жизни и испуг совмещаются, постулируя неотделимость любви от страха. Выражая, вероятно, собственные чувства, Шиле часто изображал обнаженных настолько мрачными, что они кажутся чуть ли не карикатурами на элегантных, расслабленных, снисходительных к себе женщин на рисунках Климта.
Рис. 10–4. Эгон Шиле. Скорчившаяся обнаженная с опущенной головой. 1918 г.
Первой натурщицей Шиле была его сестра Герти, которая сначала стеснялась позировать обнаженной. Шиле много рисовал детей и подростков отчасти потому, что нанимать взрослых натурщиц было ему не по карману, а отчасти потому, что он сам был молод и ему, вероятно, проще было находить общий язык с теми, кто был не старше. Некоторые натурщицы были всего на несколько лет младше художника. Их дремлющая чувственность, вероятно, перекликалась с его собственными ощущениями, и изображая их, он пытался найти ответы на вопросы, вечно волнующие подростков.
В 1912 году полиция провела обыск в мастерской Шиле в Нойленгбахе (примерно в 30 км от Вены) по подозрению в похищении и совращении малолетней. Шиле, скорее всего, не занимался сексом ни с одной из юных натурщиц, которых рисовал в присутствии Валли, но не вызывает сомнения, что он не раз просил этих девочек из обычных семей среднего класса позировать обнаженными и не спрашивал разрешения их родителей. Одна из девочек, влюбившись, ночью пришла в мастерскую художника и наотрез отказалась уходить. Валли помогла вернуть ее домой, но Шиле обвинили в похищении и изнасиловании. Художник был осужден за аморальное поведение (несмотря на отсутствие доказательств) и посажен в тюрьму на 24 дня на основании рисунков, которые судья счел порнографическими. Кроме того, судья приговорил Шиле к штрафу и сжег один из конфискованных рисунков.
Через два года после встречи с Валли, вернувшись в Вену, Шиле познакомился с Аделью и Эдит Хармс, примерно его возраста, принадлежавшими к тому же, что и художник, социальному слою. Сестры поселились напротив дома Шиле, и он попросил Валли помочь ему познакомиться с ними. Некоторое время он проявлял интерес к обеим, но к 1915 году влюбился в младшую, Эдит, и она согласилась выйти за него замуж – при условии, что Шиле расстанется с Валли.
Расставанию с Валли посвящена картина “Смерть и девушка” (рис. II–8). Художник здесь хорошо узнаваем. Он облачен в монашеское одеяние и утешает обхватившую его Валли. На ней кружевная ночная рубашка, в которой он изображал ее раньше. Смятая и сползшая на пол простыня указывает на то, что они только что занимались сексом. Хотя они еще сжимают друг друга в объятиях, их взгляды обращены не друг на друга, а в пространство, и кажется, что художник думает уже о другом. Изображенный в виде посланца смерти, он выглядит опустошенным предстоящей потерей женщины, которая помогла ему преодолеть трудный период и с которой его связывали близкие, глубокие отношения. Разрыв был, по-видимому, обусловлен не только требованием Эдит: Валли принадлежала к более низкому социальному слою и отличалась распущенностью, а Шиле тяготел к традиционным ценностям и надеялся, женившись, оставить прежнюю жизнь.
“Смерть и девушку”часто сравнивают с “Невестой ветра” Кокошки, но на самом деле эти работы принципиально различаются. Мужчины на обеих картинах испытывают тревогу, но Альма у Кокошки спокойно спит, а Валли страдает не меньше самого художника. Она чувствует себя брошенной, он – неудовлетворенным. В мире Шиле никто не знает покоя.
Шиле непросто было научиться воспринимать себя как мужчину, и этот внутренний конфликт нашел отражение в ряде автопортретов, на которых он изобразил себя рядом с двойником. Двойник (популярный персонаж немецкой романтической литературы) – призрачное подобие героя. Хотя двойник иногда играл роль защитника или воображаемого друга, нередко он служил вестником смерти. Фольклорные двойники не отбрасывают тень и не отражаются в зеркале. Шиле изображал двойников в обеих ипостасях. На картине “Смерть и мужчина” (или “Видящий собственного духа II”), написанной в 1911 году (рис. II–9), Шиле запечатлел человека, похожего на него самого или на отца, и стоящую за спиной, сливающуюся с ним скелетообразную фигуру смерти. Как и многие произведения Шиле, это полотно одновременно пугает и интригует.
К теме отца Шиле вернулся год спустя в двойном портрете “Отшельники” (рис. II–10). Здесь он изобразил себя с Климтом – возможно, под влиянием иллюстрации Кокошки к “Грезящим юношам”, где тот запечатлел с Климтом себя (у Шиле был экземпляр книги). Однако на литографии Кокошки младший художник показан опирающимся на старшего, наставника и проводника, а у Шиле, напротив, Климт (сыгравший роль отца в творческой жизни Шиле) опирается на него, ища поддержки. В 1912 году, когда была написана картина, Климт был бодр и славен, но Шиле изобразил его едва стоящим на ногах, полуживым. Его широко открытые, пустые глаза создают впечатление слепоты. Возможно, здесь мы видим отражение бессознательного желания Шиле избавиться от мнимого соперника в лице Климта и самому занять место первого художника Вены.
Шиле был не лишен чувства юмора. Одна из самых известных его сатирических работ – это картина “Кардинал и монашка”, или “Любовная ласка” (рис. II–11), пародирующая знаменитый “Поцелуй” Климта (I–18). Ирония усугубляется тем, что Шиле позировала Валли. Тем не менее он искренне восхищался Климтом. Джейн Каллир утверждает, что Шиле испытал наибольшее влияние Климта. Оно проявилось не только в ранних (рис. II–2, II–3), но и в поздних работах (рис. 8–2), на которых он в манере Климта изображал женщин, наслаждающихся своей сексуальностью.
Климт умер 6 февраля 1918 года. Когда Шиле узнал о его смерти, он пришел в морг и зарисовал лицо мертвого художника, отдав последнюю дань. В течение следующих девяти месяцев тень Климта уже не тревожила Шиле. Кокошка в то время жил в Берлине, и среди художников Вены не осталось никого, кто мог бы соперничать с Шиле. Его произведения оказались востребованы как никогда, а заработки резко увеличились.
Шиле скоропостижно скончался от пневмонии 31 октября 1918 года, всего через три дня после смерти (от той же болезни) его жены. Пневмония у обоих развилась как осложнение после испанского гриппа, эпидемия которого тогда прокатилась по Европе.
Смертью Шиле завершилась эпоха венского экспрессионизма, ознаменовавшая собой первый шаг к диалогу науки и искусства. Достижения пятерых гигантов той эпохи в области психоанализа, литературы и изобразительного искусства были прямо или косвенно связаны с влиянием идеи Рокитанского, что истину следует искать, не ограничиваясь тем, что лежит на поверхности. Однако ни один из этих пятерых гигантов не сделал следующего шага. Хотя искусство сильно повлияло на Фрейда, убежденного в воздействии художественных произведений на бессознательное, он не обращал внимания на этот аспект искусства, которое рождалось у него на глазах, а его динамическая психология на рубеже веков не получила осмысленной связи с биологией. Когнитивно-психологическую теорию реакции зрителя на художественное произведение и биологическое понимание бессознательных эмоций и восприятия эмоциональных аспектов искусства еще предстояло выработать. Психологические и биологические открытия в этих областях не заставили себя ждать. Первые были сделаны в Вене уже в 30х годах.
Часть II
Когнитивная психология зрительного восприятия и эмоциональной реакции на произведения изобразительного искусства
Глава 11
Открытие «вклада зрителя»
Параллели между психологическими и художественными изысканиями Зигмунда Фрейда, Артура Шницлера, Густава Климта, Оскара Кокошки и Эгона Шиле в области бессознательного поднимают несколько вопросов. Понимали ли эти новаторы, что движутся в одном направлении? Если да, то пытались ли, например, Фрейд и Шницлер вести обсуждение своих работ? А Климт, Кокошка и Шиле? Предпринимались ли хоть какие-либо попытки связать психологический и художественный аспекты понимания бессознательных влечений?
Климт, Кокошка и Шиле действительно взаимодействовали, как и Фрейд со Шницлером. Климт, отец австрийского модерна, поддерживал Кокошку и Шиле. Те, в свою очередь, восхищались Климтом, хотя впоследствии избавились от его влияния и каждый выработал собственный стиль. Шиле признавал Климта основателем модернистской школы, сформировавшей его как художника, а кроме того, испытал влияние (хотя и не признавал этого) раннего творчества Кокошки – первого подлинного венского экспрессиониста.
Фрейд и Шницлер – оба врачи и ученые, сформировавшиеся в атмосфере венской медицинской школы – воспринимали друг друга как доппельгангеров, интеллектуальных двойников. Каждый по-своему работал над одними и теми же проблемами: Фрейд как психолог, а Шницлер как писатель. Оба знали и ценили сочинения друг друга.
А вот связь Климта, Кокошки и Шиле с Фрейдом и Шницлером была в лучшем случае односторонней. Ни Фрейд, ни Шницлер не ценили работы этих художников и не признавали, что те также исследовали бессознательное. С другой стороны, невозможно представить, чтобы Климт, Кокошка и Шиле не испытали влияния Фрейда и Шницлера. Наряду с Гуго фон Гофмансталем, Шницлер был крупнейшим австрийским писателем своего времени, а Фрейда публикация “Толкования сновидений” сделала настоящей знаменитостью. Идеи Кокошки были явно близки к идеям Фрейда, хотя художник настаивал, что пришел к ним самостоятельно. Кокошка был начитан и широко образован, а поддерживавшие художника интеллектуалы Карл Краус и Адольф Лоз были хорошо знакомы с сочинениями Шницлера и Фрейда. Климт, в свою очередь, всерьез интересовался биологией и медициной.
Из всех пятерых лишь Фрейд предпринимал попытки связать искусство и науку. Среди его важнейших работ есть посвященные творческим методам Леонардо и Микеланджело, хотя ни в одной из них он не обращался к проблемам психологии восприятия и “вклада зрителя”. Фрейд в обоих случаях был сосредоточен на психологии художника. В “Леонардо да Винчи: воспоминание детства” (1910), самом знаменитом из очерков, Фрейд анализировал жизнь Леонардо и его творческий путь, отталкиваясь во многом от записных книжек художника и особенно от одного его воспоминания о детстве. Леонардо был незаконнорожденным ребенком и в раннем детстве жил со своей незамужней матерью. Фрейд утверждал, что мать Леонардо была типичной неудовлетворенной женщиной, живущей без мужа: она души не чаяла в сыне, страстно целовала его и требовала чрезмерных проявлений любви. Это поведение выработало у Леонардо прочную связь с матерью и привело к преждевременному развитию его сексуальности, а кроме того, как утверждал Фрейд, способствовало формированию у него гомосексуальных наклонностей. Фрейд находил проявления этих наклонностей и в детских воспоминаниях Леонардо, и в его отношениях с учениками в дальнейшем.
Анализируя творческий путь Леонардо, Фрейд сосредоточился на раннем увлечении художника живописью и последующем развитии у него увлечения наукой. Фрейд трактовал это переключение с искусства на науку как бегство от интереса к эмоциям, присущего живописцам, к беспристрастности, присущей ученым, и связывал его развитие с бессознательным психологическим конфликтом, оусловленным вытеснением гомосексуальности.
Фрейд анализирует раннее творчество Леонардо и его последующие научные изыскания как клинические симптомы. Опираясь на скудные биографические сведения, Фрейд попытался разобраться в психике художника. Но, не имея возможности непосредственно взаимодействовать с Леонардо в ходе сеансов психоанализа по методу свободных ассоциаций, Фрейд не мог проверить ни свое толкование сновидений художника, ни любые другие выводы. Кроме того, как отмечал искусствовед Мейер Шапиро, Фрейд не был хорошо знаком ни с историей искусства в целом, ни с работами о жизни и творчества Леонардо, так что не смог избежать ошибочных трактовок и провести полноценное искусствоведческое исследование. Наконец, Фрейд в своем очерке не затронул проблему природы реакции зрителя на художественные образы. В результате работы Фрейда об искусстве получились интересными и информативными, но далеко не лучшими из его сочинений. И все же, несмотря на недостатки, эти очерки имеют немалое историческое значение: это первая попытка положить начало диалогу психологии и искусствоведения.
Концептуальные предпосылки для первого шага заложили три представителя венской школы искусствознания, на которых повлиял Фрейд: Алоиз Ригль (гл. 8) и его ученики Эрнст Крис и Эрнст Гомбрих. Работая совместно и отдельно, эти трое исследователей сосредоточились на изучении реакции зрителя, тем самым заложив фундамент для единой когнитивно-психологической теории искусств (гораздо более глубокой и строгой, чем изыскания Фрейда в данной области). На этом же фундаменте впоследствии началось развитие такой дисциплины, как биология эстетики.
Ригль первым из искусствоведов применил в художественной критике научный метод (рис. 11–1). В конце XIX века он и другие представители венской школы искусствознания, например Франц Викхофф, снискали себе мировую славу попытками сделать искусствознание научной дисциплиной, опирающейся на данные психологии и социологии.
Строгий аналитический подход Ригля также позволил сравнивать произведения искусства разных исторических периодов и формулировать общие для них художественные принципы. Ригль и Викхофф вернули признание переходным периодам, которыми искусствознание долго пренебрегало. Это относится, в частности, к позднеримскому и раннехристианскому искусству, которые считались упадочными по сравнению с искусством Древней Греции. Викхофф, напротив, считал искусство этих периодов исключительно самобытным. Признавая долг древнеримского искусства перед древнегреческим, он отмечал, что в ответ на становление новых культурных ценностей римские художники II–III веков выработали собственный стиль, впоследствии возродившийся в XVII веке. Кроме того, Викхофф восстановил авторитет раннехристианского искусства.
Ригль, Викхофф и другие представители венской школы утверждали, что в истории искусства, как и в политической истории, важно помнить, по словам Карла Шорске, о “равенстве всех эпох в глазах Бога”[126]. Ригль доказывал: чтобы оценить уникальность любого периода, необходимо разобраться в целях его искусства. Не ограничивая себя априорными упрощениями эстетических стандартов, можно усмотреть в развитии культуры не прогресс либо регресс, а бесконечную череду преобразований. Такой подход позволил Викхоффу, Риглю и их единомышленникам постепенно изменить основное направление искусствознания, перейдя от обсуждения содержания и смысла отдельных произведений к изучению их структуры и исторических и эстетических закономерностей, лежащих в основе развития художественных стилей.
В 1936 году американский искусствовед Мейер Шапиро привлек внимание коллег к усилиям искусствоведов венской школы, указав на “постоянные поиски ими новых формальных аспектов искусства и готовность внедрять в искусствознание достижения современной философии, науки и психологии. Печально известно, как мало на труды американских искусствоведов повлияло развитие отечественной психологии, философии и этнологии”[127]. Становится ясно, почему Ригль и его последователи, в том числе Макс Дворжак и Отто Бенеш, ратовали за новое венское искусство.
Изучая голландские групповые портреты XVII века, например “Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия” Франса Халса и “Портрет членов стрелковой гильдии” Дирка Якобса (рис. I–15, 11–2), Ригль открыл новый психологический аспект искусства. Он отметил, что для завершенности произведения искусства необходимо участие восприятия и эмоций зрителя. Зритель не только сотрудничает с художником, преобразуя двумерные подобия, нанесенные на полотно, в трехмерные образы, но и по-своему интерпретирует то, что он видит на картине, дополняя ее смысл. Ригль называл это явление “участием зрителя” (а Гомбрих позднее – “вкладом зрителя”).
Концепция, согласно которой искусство без непосредственного участия зрителя не было бы искусством, получила развитие в работах венских искусствоведов следующего поколения – Эрнста Криса и Эрнста Гомбриха. На основе идей Ригля и представлений психологических школ своего времени они выработали новый подход к изучению зрительного восприятия и эмоциональных реакций и применили его в художественной критике. Гештальтпсихолог Рудольф Арнхейм впоследствии так охарактеризовал эти радикальные нововведения:
Обратившись к психологии, теория искусства начала признавать разницу между материальным миром и его обликом, а впоследствии и разницу между тем, что мы видим в природе, и тем, что запечатлено в художественных произведениях… Видимое зависит от того, кто смотрит и кто научил его смотреть[128].
Эрнст Крис (рис. 11–3) предложил совершенно новый подход. В 1922 году он защитил диссертацию по истории искусства в Венском университете, где он работал с Максом Дворжаком и Юлиусом фон Шлоссером, учившимися в свое время у Викхоффа. Под влиянием своей будущей жены Марианны Рие (дочери Оскара Рие, с которым дружил Фрейд) Крис увлекся психоанализом. Он получил соответствующее образование в 1925 году, а три года спустя стал практикующим психоаналитиком. С Фрейдом Крис познакомился в 1924 году, и тот попросил его, как специалиста по истории искусства, провести частичную ревизию коллекции древностей, которую Фрейд начал собирать в 1896 году. Начав общаться с Крисом, Фрейд понял, что тот как нельзя лучше подходит для изучения междисциплинарных вопросов на стыке искусствоведения и психоанализа. Фрейд посоветовал Крису заниматься психоанализом, не оставляя музейную работу, что тот и делал до сентября 1938 года, когда ему пришлось бежать из Вены.
В 1932 году Фрейд предложил Крису сотрудничать в своем журнале “Имаго”, задача которого заключалась в наведении мостов между искусством и психологией. Крис сместил акцент психоаналитической критики с психобиографии художника на эмпирические исследования процессов восприятия художника и зрителя. Изучение неоднозначности зрительного восприятия позволило ему развить идею Ригля о завершении зрителем произведения искусства.
Крис утверждал, что когда художник создает сильный образ в свете своего жизненного опыта и внутренних конфликтов, тот всегда неоднозначен, и неоднозначность образа запускает у зрителя процесс сознательного и бессознательного узнавания, эмоциональную и эмпатическую реакции в свете собственного опыта и внутренних конфликтов. Произведение искусства оказывается плодом сотворчества, причем степень “вклада зрителя” зависит от степени внутренней неоднозначности произведения.
Говоря о неоднозначности, Крис имел в виду понятие, сформулированное в 1930 году литературным критиком Уильямом Эмпсоном. Тот понимал под неоднозначностью возможность “непротиворечивого альтернативного прочтения” художественного произведения[129]. Эмпсон подразумевал, что такая неоднозначность позволяет зрителю воспринимать эстетический выбор или конфликт, существовавший в психике художника. Крис, в свою очередь, утверждал, что неоднозначность позволяет художнику транслировать собственные ощущения конфликта и сложности в мозг зрителя.
Крис также был знаком с очерком швейцарско-германского искусствоведа Вильгельма Воррингера “Абстракция и вчувствование: исследование психологии стиля”. Воррингер, испытавший сильное влияние Ригля, утверждал, что от зрителя требуется вчувствование (эмпатия), позволяющее затеряться в картине, и абстракция, позволяющая бежать от повседневности, последовав за символическим языком форм и цвета.
Рис. 11–1. Алоиз Ригль (1858–1905).
Еще обучаясь у Дворжака (считавшего маньеристов, изображавших вытянутые лица и искажавших перспективу, предшественниками австрийского экспрессионизма), Крис увлекся проблемой использования художниками искажений для передачи психики портретируемых и реакции зрителей на подобные искажения. Под влиянием Карла Бюлера, гештальтпсихолога, возглавлявшего Институт психологии при Венском университете, Крис заинтересовался научным анализом мимики. Эти интересы легли в основу его первой попытки использовать одновременно свои познания в искусстве и психоанализе. В двух работах, опубликованных в 1932 и 1933 годах, Крис рассмотрел серию скульптурных голов, созданных в 80х годах XVIII века Францем Ксавером Мессершмидтом. (Работы Мессершмидта выставлялись в то время в Нижнем Бельведере и, скорее всего, оказали влияние на Кокошку и Шиле.)
В 1760 году, в возрасте 24 лет, придворный художник Мессершмидт пользовался немалым успехом (ему даже заказали бронзовый бюст императрицы Марии Терезии). В ранних барочных работах Мессершмидт подчеркивал аристократизм и высокое происхождение портретируемых. В 1765 году он отправился в Рим, где стал склоняться к классицизму. Вернувшись в Вену, он принялся работать в более строгой манере, отбросив украшательство, уже не идеализируя людей. Некоторое время Мессершмидт жил в доме Франца Антона Месмера, разработавшего методику лечения психических заболеваний гипнозом. Под влиянием Месмера скульптор заинтересовался тонкостями психики.
Преподавая скульптуру в Императорской академии художеств, Мессершмидт пользовался авторитетом и после смерти заведующего кафедрой, как и многие, ожидал, что должность достанется ему. Однако его не только обошли по службе, но и лишили работы: люди, от которых зависело назначение, опасались, что Мессершмидт еще не излечился от психического заболевания (предполагается, что это была параноидная форма шизофрении), поразившего его тремя годами раньше. Глубоко оскорбленный, Мессершмидт в 1775 году оставил Вену, поселился в 1777 году в Пресбурге (нынешняя Братислава) и посвятил себя созданию “характерных голов” (рис. 11–4, 11–5), изображающих различные психические состояния (собственные и, вероятно, чужие). Таких голов он изготовил более шестидесяти.
Рис. 11–2. Дирк Якобс. Портрет членов стрелковой гильдии. 1529 г.
Скульптуры Мессершмидта вызвали у Криса огромный интерес. Они свидетельствовали о том, что человек, судя по всему, демонстрировавший параноидные симптомы, смог создать изумительные произведения искусства. Внутренние конфликты Мессершмидта явно не сдерживали его воображения. Более того, головы, изготовленные им во время болезни, даже самобытнее скульптур, созданных ранее. Кроме того, они выполнены очень качественно: болезнь Мессершмидта не сказалась на мастерстве.
Крис считал, что эмоции, выраженные в этих скульптурах, одновременно устанавливают контакт со зрителем и передают сознательные и бессознательные сообщения о психическом расстройстве скульптора – его подверженности навязчивым идеям и галлюцинациям. Крис заметил, что самые фантастические из голов также и самые стилистически необычные, а не столь утрированные выполнены в более традиционном стиле. Это наблюдение укрепило исследователя в уверенности в огромном потенциале карикатуры в области передачи эмоций и воздействия на процессы восприятия и эмпатии, происходящие в мозге зрителя.
В 2010 году Дональд Каспит, профессор истории искусств и философии в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, опубликовал в сетевом журнале “Артнет” рецензию на выставку Мессершмидта – “Немного безумия и долгий творческий путь”. Каспит анализирует работы Мессершмидта в свете представлений XXI века:
Безумие принесло ему удивительную свободу. Уехав из столицы империи в родной город, он занялся творчеством, в котором был верен самому себе, творчеством столь же безумным, как и он сам… Вселившиеся в него бесы стали музами, и он служил им с полной отдачей… Он просто не мог иначе, ведь он постоянно видел их в зеркале… Мессершмидт получал наслаждение от своего безумия – наслаждение, которого он лишил себя во время трудного восхождения к вершинам академического искусства[130].
Рис. 11–3. Эрнст Крис (1900–1957).
Подчеркивая творческий аспект “вклада зрителя”, Крис не только указывал стороны творчества, общие для художников и зрителей, но и подразумевал существование тех его сторон, которые следует признать общими для художников и ученых. Как и Кокошка, Крис видел в живописи модель реальности (а в портрете – модель человека), основанную на исследованиях и открытиях, во многом сходных с научными – когнитивно-психологическими и биологическими. Гомбрих впоследствии говорил о “визуальных открытиях посредством искусства”[131].
В 1931 году, уже занявшись творчеством Мессершмидта, Крис познакомился с Эрнстом Гомбрихом (рис. 11–6), только что защитившим диссертацию по истории искусства, впоследствии одним из влиятельнейших искусствоведов XX века. Крис поделился с Гомбрихом мыслью, восходящей к Риглю: искусствоведы слишком мало знают о внутренней структуре искусства, чтобы делать о нем достоверные выводы. Крис посоветовал Гомбриху использовать достижения психологии. Гомбрих впоследствии подчеркивал, что Крис более, чем кто-либо, направил его к изучению психологии восприятия – области, которой Гомбрих посвятил всю дальнейшую научную деятельность, исключительно плодотворную.
Крис предложил Гомбриху написать вместе книгу о психологии и истории карикатуры, в которой увидел “ряд экспериментов по восприятию мимических выражений”[132]. Кроме того, в 1936 году он попросил Гомбриха помочь в подготовке большой выставки, в основном посвященной карикатурам Оноре Домье.
Крис и Гомбрих пришли к пониманию живописи экспрессионистов как реакции на традиционные средства изображения лиц и тел. Новый стиль возник из слияния двух традиций: восходящего к маньеризму высокого искусства и карикатуры, у истоков которой стоял художник XVI века Агостино Карраччи (рис. 11–7). Впоследствии римский архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини вывел искусство карикатуры на новый уровень. В неопубликованной рукописи, из которой позднее выросла книга “Карикатура”, Гомбрих и Крис отмечали:
В центре внимания Бернини были не все индивидуальные особенности тела, а только лицо и единство его выражений… Бернини начинает с целого, а не с отдельных частей. Он создает образ, подобный возникающим в нашем сознании, когда мы пытаемся вспомнить кого-либо, то есть отличающийся единством выражения лица, и именно такие выражения он искажает и преувеличивает[133].
Цельное представление составляет один из принципов гештальтпсихологии, угаданный Бернини.
Размышляя о карикатуре, Гомбрих и Крис указали, что она возникла поздно: ее появление совпало с принципиальной переменой положения художника в обществе и его роли. К концу XVI века живописец уже не заботился о том, чтобы в совершенстве овладеть приемами, необходимыми для воспроизведения реальности. Он сделался творцом и перестал быть работником физического труда. Новая социальная роль художника была сравнима с ролью поэта, способного порождать собственную реальность. Эта перемена нашла одно из первых отраений в выступающих из мраморных глыб неоконченных скульптурах Микеланджело рубежа XV–XVI веков. Еще полнее она проявилась в опытах Леонардо и Тициана, исследовавших возможности живописи маслом по холсту. Наконец, о ключевой роли художника заявил Веласкес своей картиной “Менины” (рис. II–37), написанной в 1656 году. Эта перемена, утверждал Гомбрих, достигла апогея в попытке экспрессионистов сделать искусство зеркалом психики художника.
Рис. 11–4. Франц Ксавер Мессершмидт. Зевающий. После 1770 г.
Рис. 11–5. Франц Ксавер Мессершмидт. Архизлодей. После 1770 г.
Поощряемый Крисом, Гомбрих взялся за разработку подхода, который объединил бы достижения психоанализа, гештальтпсихологии и научного метода. В области психоанализа Гомбрих развивал идеи Криса, гештальтпсихологии – Бюлера, а идея восприятия как проверки гипотез восходила к Герману фон Гельмгольцу и Карлу Попперу.
Гештальтпсихологи успешно применили к зрительному восприятию две принципиально новые идеи: что целое больше, чем сумма его частей, и что наша способность улавливать это соотношение (оценивать сенсорную информацию целостно и приписывать ей смысл) во многом врожденная.
Немецкое слово “гештальт” (Gestalt) означает образ или форму. Гештальтпсихологи используют его, чтобы подчеркнуть: мы воспринимаем предмет, сцену, человека или его лицо, реагируя на объект в целом, а не на элементы. Смысл, придаваемый нашим восприятием взаимодействию всех частей в совокупности, гораздо больше суммарного смысла отдельных частей. В начале XX века Макс Вертгеймер обратил внимание на то, что когда мы смотрим на стаю гусей в небе, мы воспринимаем ее как единую сущность. По этому поводу он высказал мысль, ставшую впоследствии программным заявлением гештальтпсихологии:
Есть сущности, для которых их поведение как целого нельзя вывести ни из отдельных элементов, ни из способа их соединения. Для них верно скорее обратное: свойства любой из их частей определяются структурными особенностями, свойственными целому[134].
Гештальтпсихология возникла около 1910 года в Берлине. Лидерами этого направления стали Макс Вертгеймер, Вольфганг Келер и Курт Коффка. Все трое учились у философа, физиолога и математика Карла Штумпфа, который, в свою очередь, учился у Франца Брентано в Венском университете. Идеи Брентано о восприятии, как и идеи его ученика Христиана фон Эренфельса, во многом восходили к выдающейся работе Эрнста Маха “Анализ ощущений”, заложившей основы гештальтпсихологии. Историю гештальтпсихологии принято вести от опубликованной в 1890 году работы Эренфельса “О гештальт-качествах”, где он, в частности, отметил: мелодия состоит из элементов (нот), но представляет собой нечто большее, чем сумма звуков. Из тех же самых нот можно построить совершенно другую мелодию. Мы воспринимаем мелодию как целое, а не как сумму частей, потому, что обладаем врожденной способностью к такому восприятию. Более того, даже если пропустить одну из нот, мы все равно сможем узнать известную нам мелодию.
Рис. 11–6. Эрнст Гомбрих (1909–2001).
Гештальтпсихология, в свою очередь, оказала существенное влияние на изучение механизмов восприятия. Рудольф Арнхейм, учившийся у Вертгеймера и Келера, разработал психологическую теорию искусства, основанную на гештальтпсихологии. Он утверждал, что произведениям искусства свойственна такая же упорядоченность и структурированность, как и восприятию.
До гештальтпсихологов ученые полагали, что сенсорная информация, определяющая восприятие нами образа, представляет собой сумму поступающих извне сенсорных элементов. Гештальтпсихология отвергла это положение: то, что мы видим (наша интерпретация любого элемента образа), зависит не только от свойств этого элемента, но и от его взаимодействия с другими элементами образа и нашим опытом восприятия подобных образов. Поскольку образ, проецирующийся на сетчатку, можно интерпретировать множеством способов, он должен быть конструктом нашей психики. В этом смысле любой образ субъективен. И все же, несмотря на множественность интерпретаций образов, дети уже 2–3 лет интерпретируют их примерно так же, как более взрослые. Более того, маленькие дети делают это несмотря на то, что родители не учат их видеть (и сами часто не сознают, как творчески работает их собственное зрение).
Дело в том, что в зрительной системе мозга имеется набор врожденных когнитивных правил, позволяющих извлекать сенсорную информацию. Они похожи на правила, позволяющие детям усваивать грамматику языка. Исследователь механизмов восприятия Дональд Хоффман пишет: “Без врожденных универсальных правил работы зрения ребенок не смог бы заново изобрести зрение и никогда не научился бы видеть. Эти правила позволяют нам конструировать детализированные, прекрасные и полезные миры зрительного восприятия”[135].
Гештальтпсихологи произвели революцию. До XIX века основным методом познания психики был самоанализ, и изучение психической деятельности причисляли к философским упражнениям. Ближе к концу XIX века самоанализ постепенно уступил место экспериментам, что привело к возникновению экспериментальной психологии. Основным предметом этой дисциплины сначала стала связь сенсорных стимулов с их субъективным восприятием. К началу XX века внимание психологов-экспериментаторов сосредоточилось на наблюдении поведенческих реакций, возникающих в ответ на стимулы, особенно на изменении этих реакций в ходе научения.
Рис. 11–7. Агостино Карраччи (1557–1602). Карикатура на Раббатина де Гриффи и его жену Спиллу Помину.
Открытие простых экспериментальных методов исследования научения и памяти, вначале Германом Эббингаузом применительно к людям, а затем Иваном Павловым и Эдвардом Торндайком применительно к животным, привело к возникновению бихевиоризма – строго эмпирической школы психологии. Бихевиористы, особенно американцы Джон Бродес Уотсон и Беррес Фредерик Скиннер, утверждали: поведение можно изучать с той же точностью, что и предметы естественных наук, но для этого необходимо отказаться от рассуждений о том, что происходит в мозге, и сконцентрироваться исключительно на поведении, доступном для наблюдения. Бихевиористы полагали, что недоступные для наблюдения психические процессы, особенно абстрактные (восприятие, эмоции, сознание), недоступны и для научного исследования, и выступали за объективную оценку связей материальных стимулов и наблюдаемых реакций на такие стимулы у интактных животных.
Успехи первых строгих исследований простых форм поведения и научения убедили бихевиористов в том, что все процессы между стимулом (входящей сенсорной информацией) и вызываемым им поведением (исходящей моторной реакцией) не имеют отношения к научному познанию. В 30х годах, когда бихевиоризм был особенно влиятелен, многие психологи придерживались радикальных бихевиористских взглядов, отождествляя психическую жизнь с наблюдаемым поведением. Это свело предмет экспериментальной психологии к ограниченному кругу проблем и перекрыло дорогу изучению многих интереснейших аспектов психики. Психоанализ с одной стороны и гештальтпсихология – с другой начали исследовать бессознательные процессы, посредством которых мозг создает свои модели действительности. Причем гештальтпсихология, в отличие от психоанализа, с самого начала была эмпирической наукой, выдвигающей гипотезы, доступные для экспериментальной проверки.
Идеи гештальтпсихологов, сами по себе замечательные, были еще замечательнее в контексте своего времени. Гештальтпсихология возникла в ту пору, когда немецкие и американские психологи начали понимать, что “железная хватка” бихевиоризма явилась причиной кризиса[136]. Психологи были всерьез обеспокоены неспособностью науки ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся принципов работы человеческой психики, то есть механизмов, позволяющих мозгу осуествлять различные процессы (восприятие, осознанные действия, мышление), которые обычно и называют психикой. Гештальтпсихологи настаивали на революционной для того времени идее: ограничивающим фактором здесь служит не научный метод как таковой, а представления о нем психологов. Предназначение плодотворных идей гештальтпсихологии состояло в том, чтобы восстановить связь различных областей психологии с естественными науками.
Гомбрих понимал, что предполагаемые гештальтпсихологией закономерности, во многом врожденные, относятся преимущественно к низшим уровням зрительного восприятия – к “восходящей” обработке зрительной информации. Восприятие более высокого уровня (“нисходящее”) включает также цели, приобретенные знания и проверку гипотез, которые могут и не определяться программой развития мозга. Поскольку значительную часть получаемой посредством глаз сенсорной информации можно интерпретировать по-разному, ее неоднозначность должна устраняться с помощью умозаключений. Мы должны в каждой ситуации угадывать, исходя из опыта, наиболее вероятный образ того, что перед глазами. Важность нисходящей обработки зрительной информации в свое время отметил Фрейд, описавший агнозии (нарушения способности к распознаванию) пациентов, способных точно распознавать такие аспекты, как очертания и форма, но не способных совмещать их для распознавания объекта целиком.
Гомбрих объединил свои идеи о психологии и искусстве в книге “Искусство и иллюзия: опыт психологического изучения изображения”. Он описал процесс реструктуризации воспринимаемых образов, разделив его на две составляющих: проекцию, отражающую бессознательные правила, “встроенные” в мозг и автоматически управляющие нашим зрением, и сознательную или бессознательную инференцию (умозаключение), или знание, частично основанное на инференции. Гомбрих, как и Крис, был увлечен идеей параллелей между творческой деятельностью ученого и творческой инференцией художника и зрителя, позволяющей им строить модели изображаемых и воспринимаемых образов. На Гомбриха в связи с этим сильное влияние оказали Герман фон Гельмгольц и Карл Поппер.
Гельмгольц, один из крупнейших физиков XIX века, внес немалый вклад и в физиологию органов чувств. Он первым взялся за изучение зрительного восприятия эмпирическими методами современной науки. Проводя одно из исследований, посвященное осязанию, он успешно измерил скорость распространения электрического сигнала по отростку нервной клетки и открыл, что тот распространяется на удивление медленно (30 м/с), а наши реакции совершаются еще медленнее. Это заставило Гельмгольца предположить, что обработка в мозге сенсорной информации осуществляется во многом бессознательно. Кроме того, он утверждал, что при восприятии и выполнении произвольных движений информация должна поступать на обработку в разные участки мозга.
Когда Гельмгольц обратился к изучению зрения, он понял, что статичный двумерный образ содержит неполную, низкокачественную информацию. Чтобы реконструировать динамичный трехмерный мир, к которому восходит каждый такой образ, мозгу требуется дополнительная информация. Более того, наше зрение не работало бы, если бы мозг полагался исключительно на информацию, поступающую от глаз. Гельмгольц сделал вывод, что одной из основ восприятия должен быть процесс выдвижения и проверки гипотез, основанных на имеющемся опыте. Такие обоснованные догадки позволяют нам, исходя из опыта, делать заключения о том, что именно представлено в наблюдаемых образах. Поскольку обычно мы не осознаем процессы выдвижения и проверки подобных гипотез, Гельмгольц назвал этот нисходящий процесс бессознательными умозаключениями. Прежде чем мы воспримем какой-либо объект, мозг на основе информации от органов чувств должен сделать заключение о том, что это может быть за объект.
Открытие Гельмгольца применимо отнюдь не только к восприятию: выявленный им принцип относится также к эмоциям и эмпатии. Специалист по когнитивной психологии Крис Фрит резюмировал выводы Гельмгольца следующим образом: “Мы думаем, что у нас есть прямая связь с материальным миром, но это иллюзия, порождаемая нашим мозгом”[137].
Значение научного образа мышления для восприятия впоследствии подтвердил Карл Поппер, в молодости учившийся у Бюлера. Гомбрих познакомился с Поппером в 1935 году. Незадолго до этого Поппер опубликовал книгу “Логика научного исследования”, оказавшую огромное влияние на научную и философскую мысль. Он доказывал, что наука движется вперед не за счет накопления данных, а за счет решения проблем путем проверки выдвигаемых гипотез. Поппер подчеркивал, что простой учет эмпирических данных не позволяет объяснять сложные и часто неоднозначные явления, наблюдаемые в природе и в лаборатории. Чтобы наблюдения давали осмысленный результат, ученым нужно действовать методом проб и ошибок, конструируя (посредством сознательных умозаключений) гипотетические модели изучаемого явления. Затем их сравнивают с новыми наблюдениями, которые могли бы опровергнуть предложенную модель.
Гомбрих усмотрел сходство между идеями бессознательных и сознательных умозаключений: проверки мозгом гипотез, выдвигаемых на основе зрительной информации, и проверки учеными гипотез, выдвигаемых на основе эмпирических данных. Гомбрих понял, что зритель во многом так же создает образы и сверяет их с собственным опытом, как и ученый: действуя методом проб и ошибок, он выдвигает и проверяет гипотезы. В случае зрительного восприятия такие гипотезы основаны на врожденных знаниях, полученных человеком в результате естественного отбора и записанных в нейронных сетях зрительной системы мозга. Выдвижение подобной гипотезы – пример описанной гештальтпсихологами восходящей обработки информации. Затем мозг проверяет каждую такую гипотезу, сверяя ее с хранящимися в памяти образами. Это открытый Гельмгольцем пример нисходящей обработки информации. Другим примером может служить научный метод, описанный Поппером. Объединив их, Гомбрих совершил важные открытия, касающиеся творческой деятельности мозга зрителя и ее роли в структуре “вклада зрителя”.
Открытие участия восходящих процессов в восприятии зрителя убедило Гомбриха в том, что “непредвзятый взгляд” в принципе невозможен, то есть зрительное восприятие основано на интерпретации зрительной информации. Гомбрих утверждал, что мы не воспринимаем то, что не в состоянии классифицировать. Открытиям Гомбриха в области психологии восприятия предстояло стать надежной опорой для моста, соединившего науку о зрительном восприятии искусства с биологией.
Глава 12
Мозг как творческий аппарат
Эрнст Крис и Эрнст Гомбрих видели в мозге творческий аппарат, реконструирующий мир. Это представление стало огромным шагом вперед по сравнению с преобладавшим в XVII веке взглядом Джона Локка на психику. Локк полагал, что мозг, получая всю информацию, которую могут собрать органы чувств, просто отражает реалии окружающего мира. Крис и Гомбрих придерживались современной разновидности теории Канта о том, что сенсорная информация используется психикой лишь как материал для изобретения собственной реальности.
Образы произведений искусства, как и любые образы, отражают не столько реальность, сколько присущие зрителю восприятие, воображение, ожидания и знание других образов, извлекаемых из памяти. Гомбрих отмечал: чтобы увидеть то, что действительно изображено на картине, зритель должен заранее знать, что он может на ней увидеть. Творческая по своей природе работа мозга любого человека во многом аналогична творческому процессу, происходящему в мозге художника, и также представляет собой моделирование физического и психического мира.
Крис и Гомбрих, объединив искусствознание с интуитивными открытиями психоаналитиков, более строгими рассуждениями гештальтпсихологов и идеей проверки гипотез путем бессознательных и сознательных умозаключений, заложили фундамент когнитивной психологии искусства. Кроме того, они понимали, что поскольку произведения искусства – во многом творения психики, а психика – это набор функций головного мозга, то в изучении искусства необходимо задействовать и нейробиологию.
Первый шаг в этом направлении сделал Ригль, успешно применивший в анализе искусства психологический подход и признавший значение “вклада зрителя”. Крис сделал следующий шаг: он увидел в искусстве одну из форм бессознательного общения художника со зрителем и отметил, что зритель реагирует на неоднозначность произведения искусства, бессознательно воссоздавая в голове этот образ. Наконец, еще шаг вперед сделал Гомбрих. Он сосредоточился на творческой природе зрительного восприятия и изучал механизм использования зрителем принципов, найденных гештальтпсихологами, и принципа проверки гипотез. Кроме того, Крис и Гомбрих продемонстрировали, что искусство нацелено на стимуляцию в мозге зрителя связанных как с восприятием, так и с эмоциями процессов воссоздания образов. В некотором смысле Крис и Гомбрих пошли по стопам Фрейда, пытавшегося построить когнитивно-психологическую теорию, связывающую психологию с нейробиологией. Крис и Гомбрих предположили, что когнитивно-психологическая теория позволяет разобраться в связи индивидуального вклада с обеспечивающими его нейронными механизмами и что такая теория с эмпирической базой может в будущем послужить основой для диалога между искусством и биологией восприятия, эмоций и эмпатии.
Философ Джон Серль высказал сходную мысль: для понимания биологических механизмов восприятия и эмоций, лежащих в основе “вклада зрителя”, требуется трехступенчатый анализ (рис. 12–1). Во-первых, нужно анализировать поведенческую составляющую реакции зрителя на произведение искусства. Во-вторых, нужно анализировать психологию таких составляющих этой реакции, как восприятие, эмоции и эмпатия. В-третьих, нужно анализировать нейронные механизмы, обеспечивающие перечисленные составляющие. Новая наука о психике, возникшая в последнее десятилетие XX века, реализует именно эту программу, представляя собой слияние когнитивной психологии (науки о психике) с нейробиологией (науки о мозге).
Рис. 12–1. Изучение поведения зрителя по методу Криса – Гомбриха – Серля. Для биологического анализа нейронных механизмов, задействованных в восприятии произведения искусства и эмоциональной реакции на него, необходим промежуточный этап когнитивно-психологического анализа мысленного представления восприятия и эмоций.
Интересуясь зрительным восприятием, Гомбрих обратил внимание на идеи Криса о неоднозначности в искусстве и начал изучать двойственные изображения и зрительные иллюзии, получившие широкую известность благодаря гештальтпсихологам. Двойственные изображения допускают два принципиально разных понимания изображенного. Они могут служить простейшим примером неоднозначности, в которой Крис видел ключ ко всем великим произведениям искусства и к реакции зрителей на эти произведения. Зрительные иллюзии также обманывают мозг. Гештальтпсихологи использовали ошибки зрительного восприятия для изучения его когнитивных аспектов. Им удалось выявить несколько принципов устройства системы восприятия, еще не открытых в то время нейробиологами.
Рис. 12–2. “Утка-кролик”.
Гомбриха интересовали двойственные изображения, заставляющие восприятие перескакивать с одной интерпретации на другую. Одно из таких изображений – “утка-кролик” (рис. 12–2) Джозефа Ястрова – приведено Гомбрихом в качестве иллюстрации в начале книги “Искусство и иллюзия”. Поскольку количество информации, доступной для сознательной обработки, сильно ограничено, зритель не в состоянии одновременно видеть двух животных. Можно произвольно переключаться с кролика на утку и обратно, направляя взгляд на разные части рисунка, но переключение может происходить и без движения глаз. Этот рисунок впечатлял Гомбриха тем, что зрительная информация не изменяется: “На этой картинке можно видеть либо кролика, либо утку. Оба прочтения легко обнаружить. Не так легко описать, что происходит, когда мы переключаемся с одной интерпретации на другую”[138]. А происходит следующее: мы видим двусмысленный образ, а затем, на основании ожиданий и опыта, бессознательно приходим к заключению, что это кролик – или утка. Мы имеем здесь дело с нисходящим процессом, описанным Гельмгольцем. Стоит увидеть на рисунке утку, как мы начинаем придерживаться гипотезы утки, а гипотеза кролика на время исключается из рассмотрения. Эти два продукта восприятия взаимоисключающи оттого, что когда один образ начинает преобладать, неоднозначность исчезает. Изображенное животное кажется то уткой, то кроликом, но никогда уткой и кроликом одновременно.
Гомбрих решил, что этот принцип лежит в основе нашего восприятия мира. Он утверждал, что сам механизм работы зрения основан на интерпретации. Вместо того чтобы увидеть образ, а затем сознательно интерпретировать его как утку или кролика, мы видим и одновременно бессознательно интерпретируем его. Интерпретация составляет неотъемлемую часть зрительного восприятия.
Еще одним примером служит ваза Рубина (рис. 12–3), которую придумал в 1920 году датский психолог Эдгар Рубин. В отличие от “утки-кролика”, ваза Рубина требует от мозга конструировать образ, отделяя объект от фона. Кроме того, она требует приписывать тому или иному образу принадлежность контура, составляющего границу между объектом и фоном. Когда мозг приписывает контур вазе, мы видим вазу, а когда лицам – лица. Двусмысленность возникает оттого, что контуры вазы совпадают с контурами лиц и зрителю приходится выбирать один из образов, воспринимая второй как фон.
Рис. 12–3. Ваза Рубина.
Более сложный выбор между альтернативными интерпретациями мозг совершает, когда мы смотрим на куб Неккера (рис. 12–4) – иллюзию, открытую в 1832 году швейцарским кристаллографом Луи Альбером Неккером. Куб Неккера представляет собой двумерный рисунок, который кажется трехмерным кубом. Примечательно, что передней нам представляется то одна, то другая грань. Если внимательно смотреть на рисунок, наше восприятие самопроизвольно переключается. Хотя мы видим то один, то другой куб, на самом деле куба нет. Гомбрих пришел к выводу, что “между восприятием и иллюзией нет строгих различий”[139]. При этом набор интерпретаций рисунка не ограничивается видимыми попеременно кубами. С представленным на рисунке образом совместимо и множество других, более сложных геометрических фигур. Но, как бы мы ни старались, нам не удается их увидеть. Следовательно, хотя нисходящие умозаключения позволяют нам выбирать интерпретацию, бессознательный отбор ограничивает выбор наиболее правдоподобными.
Рис. 12–4. Куб Неккера.
Из трех двойственных изображений способность мозга выводить трехмерные образы из двумерных объектов особенно наглядно демонстрирует куб Неккера. Эта замечательная способность, которой научились пользоваться художники, связана с тем, что мозг сопоставляет компоненты двумерного рисунка на бумаге с имеющимися знаниями и нашим ожиданием трехмерности видимого мира.
Треугольник Канижа (рис. 12–5) – еще один пример конструирования нашей зрительной системой того, чего на самом деле нет. Эта иллюзия, придуманная в 1950 году итальянским художником и психологом Гаэтано Канижа, заставляет мозг конструировать образ двух перекрывающихся треугольников. Однако контуры, якобы очерчивающие треугольники, иллюзорны. Здесь нет треугольников, а есть три угла и три круга с вырезанными секторами. Но мозг дорисовывает один черный треугольник, наложенный на другой, обведенный белой линией. Этот образ возникает в результате бессознательных умозаключений, о которых писал Гельмгольц. В мозг встроена функция интерпретации подобных узоров как указывающих на наличие треугольников. В голове возникает образ треугольника, он кажется темнее фона рисунка, хотя мы знаем, что это не так.
Рис. 12–5. Треугольник Канижа.
Развивая идеи гештальтпсихологов, Гомбрих пришел к выводу, что мозг реагирует на произведение искусства, опираясь не только на восходящие (визуально-контекстные), но и на нисходящие эмоциональные и когнитивные признаки, а также на воспоминания. Более того, именно использованием когнитивных признаков и воспоминаний определяется уникальный вклад в произведение искусства каждого зрителя. Гомбрих понимал, что эксперименты художников, творивших на протяжении столетий, составляют настоящий клад подсказок к загадкам механизмов психики. Он отдавал должное роли когнитивных схем, или внутренних представлений видимого мира, и утверждал, что долг любой картины перед другими картинами, которые видел зритель, больше, чем ее долг перед ее собственным содержанием.
Этот взгляд позволял взять на вооружение также теорию немецкого искусствоведа Эрвина Панофского, эмигрировавшего в 1934 году в США. Современник Криса и Гомбриха, Панофский придавал особенное значение влиянию памяти на эстетическую реакцию. Панофский выделил три уровня иконографической интерпретации произведения искусства. Первый уровень – предиконографическая интерпретация, определение первичных элементов: цветов, чистых форм, эмоций. Здесь интерпретация картины зрителем основана на практическом, интуитивном знакомстве с ее элементами без обращения к знанию фактов или культурного контекста. Второй уровень – собственно иконографический анализ, определение сюжета изображения на основе знания традиций и правил изображения тех или иных тем, образов, аллегорий, символов. Третий уровень – иконологическая интерпретация, позволяющая связать конкретное произведение искусства с более широким кругом значений, имеющим отношение к “нации, периоду, классу, религиозным и философским представлениям эпохи”. Так, большинство жителей Запада в изображении двенадцати человек, сидящих за длинным столом вокруг одного, увидят тайную вечерю. Этот образ для них иконологичен (вписан в частный культурный контекст), а для зрителей, не принадлежащих к западной культуре, – иконографичен (вписан в общий культурный контекст). Идеи Панофского с упором на символы, культурный контекст и воспоминания зрителя дали возможность анализировать искусство глубже, чем позволяли методы гештальтпсихологии. Иконографическая интерпретация открыла историческую роль искусства в передаче универсальных идей через символы и мифы, добавив еще одно измерение к творческому союзу художника и зрителя.
Современная когнитивная психология (ее расцвет начался вскоре после периода сотрудничества Криса и Гомбриха) занимается анализом процесса преобразования сенсорной информации в мозге зрителя в восприятие, эмоции, эмпатию и действия, то есть связи между стимулом и его восприятием, а также эмоциональными и поведенческими реакциями в их историческом контексте. Мы можем надеяться разобраться в связях действий человека с тем, что он видит, помнит и полагает, только если разберемся в механизме этого преобразования.
Глава 13
Начало новой живописи
Австрийские экспрессионисты анализировали примитивное половое влечение, глубинные страхи и агрессивные позывы и стремились преобразовать эти эмоции в простой графический язык. В результате художники пытались выявить базовые элементы эмоций, благодаря которым мы испытываем чувства от произведений искусства, можем сопереживать другим людям и даже можем замечать их подсознательное и сознательное психическое состояние.
Передача эмоций всегда была одной из главных целей художника. Леонардо, Рембрандт, Эль Греко, Караваджо, поздний Мессершмидт привлекают зрителей из разных регионов планеты тем, что в реалистичных изображениях людей выражают общие для всех эмоции. Многие художники XX века подошли к передаче эмоций иначе.
Вначале Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк, затем Анри Матисс и фовисты, а позднее их младшие современники – австрийские и немецкие экспрессионисты начали целенаправленно исследовать роль цвета и формы в возникновении у зрителя неосознанных и осознанных эмоций. Импрессионисты и постимпрессионисты, такие как Жорж Сера и Винсент Ван Гог, использовали открытия науки, касающиеся смешения цветов, чтобы удачнее передать ощущение естественного света, а экспрессионисты, в свою очередь, использовали совершавшиеся на их глазах открытия медицины и психологии, чтобы лучше передать проявления бессознательного.
Эрнст Гомбрих в “Истории искусства” выделил три этапа развития западного искусства. На первом художники не владели законами перспективы и смешения цветов и изображали то, что они знали. На втором этапе художники освоили законы перспективы и цвета и стали изображать то, что они видели. На этих двух этапах, охватывающих 30 тыс. лет (от наскальной живописи в пещере Шове до натуралистических английских пейзажей XIX века), основным направлением развития искусства (несмотря на все отступления и побочные увлечения) было стремление изображать окружающий трехмерный мир все более реалистично. Но изобретенная в середине XIX века фотография с ее исключительной способностью запечатлевать реальность остановила движение в этом направлении. Живопись, писал Гомбрих, лишилась своей уникальной ниши в изобразительном искусстве, и “начались поиски альтернативных ниш”[140].
Первыми на поиски пустились импрессионисты, стремившиеся передавать трудноуловимое для фотографии дыхание природы и естественное освещение. Импрессионисты стремились увести зрителя прочь от реальности в мир воображения. Постимпрессионисты были недовольны чрезмерным вниманием импрессионистов к мимолетности. Постимпрессионисты, понимая, что бессмысленно состязаться с фотографией в запечатлении действительности, стремились передавать нечто за рамками натурализма.






