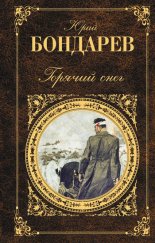Реки Гришковец Евгений

Необходимо сказать несколько слов об авторе. Автор не сообщил своего имени, фамилии и не указал, откуда именно он родом и где живет теперь. Неизвестно, чем он занимается, кто он по своему образованию и какова его профессия. О том, сколько ему лет, тоже можно только догадываться. Известно только, что автор был намерен написать весьма объемное произведение, а представил совсем небольшую повесть. Он попросил сообщить, что сам удивился тому, что объем произведения оказался таким небольшим. В связи с этим он сказал: «Так, наверное, даже и лучше». Никак не могу прокомментировать эти слова.
Повесть
Я только однажды видел медведя не в зоопарке. Только один раз в жизни. Хотя я родился и первые свои тридцать с небольшим лет прожил в Сибири. В Сибири, где когда-то родился и умер мой прадед, где родился и умер мой дед, где родился мой отец. А я уехал из Сибири. Уехал далеко и, наверное, без сожаления.
Я родился и вырос в городе, который не могу ощущать ни как большой, ни как маленький. Я не могу понять его размеров. Когда-то он казался мне непостижимо большим, а когда я бежал из него, он был удушливо тесен. А теперь, когда я приезжаю, ре..е..дко – редко, приезжаю в мой родной город, я уже не понимаю, какой он. Он большой или маленький для тех, кто живет в нем. А я-то уехал. Уехал и теперь уже не пойму. Никогда.
Не пойму потому, что не знаю какого-то понятийного механизма, а самое главное – не знаю, что, собственно, мне нужно понять. Что?!
Отчего, когда я где-то далеко-далеко от города, где я родился и вырос, и даже далеко от Родины, захожу в какую-нибудь, я не знаю… Представляете, жара, самый конец июля. Юг. И даже не наш юг, а вообще Юг. В сухой траве стрекочут кузнечики, и все звенит от неподвижной жары. В небе ни облачка, горизонт совсем белый и знойный, а вы при этом осматриваете какую-то достопримечательность, какую-то важную для всех руину. Гид подробно описывает историческую значимость того места, где вы находитесь, а кто-то из группы таких же, как вы, любознательных людей, одетых в светлые шорты, задает какие-то уточняющие вопросы, чтобы показать свою осведомленность. У вас уже белеет в глазах, но вдруг гид увлекает вас и всех остальных дальше, и вы входите в какой-то грот или гробницу, и на вас падает темная прохлада, кажущаяся даже какой-то влажной, но влажной не в плохом, а в спасительно-нежном смысле…
Почему в этот момент вспоминается то, как я, запыхавшийся и разгоряченный игрой, забегал с летнего, знойного и пыльного двора в подъезд моего дома?.. Моего дома… там, в том городе, откуда я уехал. И мне уже не важно, что говорит гид, и не важно, что я где-то в таком месте, про которое читали все еще в школьных учебниках истории. Прохлада, и все…
Прохлада такая же, как в старой, еще сталинской постройки библиотеке или кассовом зале кинотеатра, куда я забегал с друзьями, выскочив из раскаленного автобуса. Мы бежали через жаркую площадь перед кинотеатром и врывались в прохладный кассовый зал…
Почему вспоминается кинотеатр? Типовой кинотеатр, которых так много, которые есть в каждом областном или даже в районном центре. Я даже не понимаю, красивый этот кинотеатр или нет, то есть для меня непостижимы архитектурные достоинства этого кинотеатра. Но радость, которую доставлял мне когда-то сам вид этого здания… Мне нравилось даже просто проезжать мимо него на автобусе, рассматривать афиши, слушать, как водитель объявляет остановку: «Следующая остановка – кинотеатр (такой-то)».
Мой город – не старый город. Он и не может быть старым. Он же сибирский город. К тому же мой город моложе других сибирских городов. Но странно, он всегда был наполнен для меня достаточной, а на самом деле гораздо более чем достаточной, исторической глубиной. В нем была история. История, не состоящая из фактов и следов, оставленных этими фактами, а живая, по-настоящему интересная мне лично история.
Мой дед рассказывал мне… До сих пор не пойму и не пойму никогда, зачем он это делал… Зачем он рассказывал мне одиннадцати, двенадцати, ну максимум тринадцатилетнему человеку… Вообще что-то рассказывал. Когда я смотрю на двенадцати-тринадцатилетних людей, у меня не возникает желания рассказать что-то, подобное тому, что мне рассказывал мой дед. А он рассказывал…
Мой дед родился в нашем городе. Он всегда был городским человеком. И это не важно, каким был город тогда, когда родился мой дед. Большим был или маленьким, этот город, для моего деда, я не знаю. Но он в нем родился и умер. Он был образованным человеком, он закончил университет. Мой дед воевал, и вообще он не сидел всю жизнь на одном месте. Но он родился и умер в нашем городе. И, кажется, он был доволен. Хотя что я могу про это знать? Я просто помню, что мой дед никогда мне ничего плохого про город не говорил.
Он говорил, что, когда ему было столько же лет, сколько мне, то есть двенадцать—тринадцать, у него было две пары ботинок. Хорошие ботинки и плохие. Но все лето, с мая по середину сентября, то есть до самых холодов, он бегал босиком. Дед любил подчеркнуть, что при этом никогда не болел, а любую царапину замазывал глиной и бежал дальше. Он рассказывал, что там, где сейчас новый вокзал, была роща и там они (мой дед и все остальные) находили все, что им было нужно. Ели пучку, копали саранку, собирали ягоду, зорили птичьи гнезда и пекли потом яйца на костре. И еще дед говорил, что по берегам нашей реки росла масса дикого чеснока…
В любом городе, который стоит на реке, есть правый и левый берег. Я родился и вырос… не на том берегу, на котором родился и вырос мой дед. Старая часть города была всегда от меня отделена рекой, туда, где все происходило с моим дедом когда-то… давно, туда вел мост. Мост высокий и длинный, мост над темной широкой и быстрой рекой. В моем городе темная и быстрая река. Большая сибирская река.
Когда мы с дедом были в рыболовном магазине, он, которого я никогда не видел с удочкой и даже не мог себе представить в какой-нибудь рыбацкой ситуации, рассматривая лески и прочие снасти, со вздохом говорил, что, если бы у него тогда были такие же, он бы точно мог бы прокормить рыбой всю семью, и не только.
Он рассказывал мне тогда, а я запомнил, что они мальчишками бегали на рынок и дергали у коней из хвостов конский волос для удочек. Он говорил, что если кто-то приводил белую лошадь, то хозяину такой редкой лошади нужно было от нее не отходить, а то животное могло вернуться в деревню вовсе без хвоста. Белый конский волос очень ценился. Белый волос вязали в самом конце снасти, к нему, собственно, и привязывали крючок. Дед даже показывал, как они делали леску из конского волоса. Он объяснял, что не просто привязывали один волос за другим, а как-то еще крутили эти узлы, а потом катали эту леску ладонью по ноге. Дед при этом делал движения, похожие на те, что делают на Кубе, показывая туристам, как скручивали сигары в незапамятные времена кубинские женщины.
Дед говорил, что хозяева лошадей больно и метко хлестали мальчишек кнутами, если успевали. Это происходило когда-то в моем городе. Но в этом же городе когда-то стояли желтые бочки на колесах с надписью «Молоко», и я маленький бегал с битоном купить молока (в нашем городе все говорили «битон» вместо «бидон»). Где-то теперь эти бочки…
А много рыбы в нашей реке при мне уже не было. И рыбалка была еще та. Но дед говорил, что, если бы у него была леска! Потому что конский волос крупную рыбу не выдерживал и легко рвался. Тогда рыба уходила вместе с крючком. А крючки были очень ценны. Их можно было купить только в Торгсине.
А Торгсин был такой магазин, где можно было купить что угодно. В нем было все, что надо! В те скудные и трудные времена в нем можно было купить даже теннисный мячик… Дед говорил о теннисном мяче с каким-то особенным чувством. Видимо, ему сильно хотелось иметь маленький, упругий и очень приятный на ощупь мяч, хотя я не припомню, чтобы он говорил о теннисных ракетках и о том, что он играл или хотя бы видел, как играют в теннис. Какой к черту теннис в моем городе в те времена, да и сейчас тоже… Но купить что-либо в Торгсине можно было только на серебро или золото. В Торгсин несли золотые или серебряные монеты еще царской чеканки. Дед говорил, что на серебряный рубль можно было купить…… ну массу необходимых вещей. Пацаны где-то раздобывали эти монеты и покупали блестящие рыболовные крючки, немецкую свинцовую охотничью дробь и картечь для грузил, итальянские медные иглы для патефона в красивых коробочках. Патефонов ни у кого из дедовых друзей не было, но иглы покупали потому, что они стоили копейки, а вещь красивая. Покупали американские стальные перья, чтобы писать. Иногда брали на небольшую компанию дорогие папиросы. Дед говорил, что самыми лучшими были папиросы «Сафо» и «Пушка». На пачке «Пушки» была изображена пушка, а как выглядела пачка «Сафо», я не знаю, и правильно ли я расслышал и запомнил название этих папирос, сейчас уже выяснить невозможно. Может быть, название их было «Сапфо». Но мне с трудом верится, чтобы в моем родном городе были отголоски еще и античной истории.
Но главное-т о ч то? Гла вное, что в моем городе когд а-т о, во-первых, можно было купить что угодно, а во-вторых, можно было заплатить златом-серебром… как платили пираты… Вот факт, который связывал меня с историей. Мой дед делал это, и, значит, это была не отдельная от меня, не чужая история. У меня до сих пор где-то лежит серебряный царский рубль. Откуда он взялся, я не помню, но в детстве я любил рассматривать его. И по сей день я хотел бы оказаться с этой монетой в том самом дедовом Торгсине на другом берегу реки.
Я не знаю никакой сибирской экзотики, я не пережил ее. Книги «Угрюм-река» или «Последний из Удэге» для меня так же полны тайны и так же далеки от меня, как «Кавказский пленник» или «Фрегат «Паллада». Я вырос в городе. Я не знаю тайги, мне она неведома. Я пролетал над тайгой на самолете, когда летел в Москву. Или из Москвы домой. Я ничего не видел, я просто знал, что там, подо мной, тайга. А что это – Тайга?! Я только однажды, совсем неглубоко и совсем ненадолго вошел в таежный массив, был искусан комарами, что-то унюхал, что-то увидел, ничего не понял и… вернулся в город. А что я мог там понять? И что я там должен был понять? Это все равно, что попытаться полюбить море, зайдя в него по щиколотку, да к тому же когда вода холодная. Но море все-таки полюбить легче, чем тайгу… А тайга?..
Когда я побывал в тайге, погода была… скорее плохая. Конец августа, прохладный или даже сырой день был серым и ветреным, но не беспросветным. Иногда солнышко задевало нас, но не мощно, не всем диском, скорее краешком, подмигивало из-за толстых объемных облаков. Дождя не было, дождь шел ночью и весь предыдущий день. Мы вошли в тайгу утром и оглушили сами себя хрустом и шелестом травы, кустарника и папоротника, сквозь который стали продираться. Тайга приглушила утренний свет, и загудели комары…
Отец договорился с какими-то своими знакомыми, и меня взяли на охоту. Мне было года двадцать три – двадцать четыре, точно не помню. Отчего-то мне хватило ума не изображать, что я опытный и умелый. Нет, я не скрывал, что ничего не смыслю в лесных делах. Мужики были мне рады. Их было трое. Все вдвое старше меня. Один был местный охотовед Серега, а остальные, не помню их имен, тоже местные, но давно уже живущие в городе. Кто-то из них как раз и был знакомым отца. Все были мне рады, потому что мне можно было рассказывать таежные байки, можно было меня удивлять, разыгрывать, пугать и еще можно было обо мне заботиться, то есть тридцать три удовольствия. Мужики запрещали мне называть их на «вы», но я чувствовал, что им приятно, что я их так называю, и еще им было приятно мне запрещать обращаться к ним на «вы». Так что я продолжал это делать.
Сейчас я думаю, что та охота не была настоящей охотой. Просто три мужика захотели повстречаться, потому что давно не виделись, поговорить, выпить, побродить по тайге, пострелять из ружей.
Мы приехали из города в деревню на машине. Приехали в деревню совсем поздно вечером, переночевали в доме охотоведа Сергея. Я спал плохо. Я не люблю деревню и деревенские условия. В доме сильно пахло, не знаю как сказать, деревенским домом, в котором живут и совсем старые, и совсем юные люди вместе и еще много кошек. В таком доме постоянно готовят еду и пахнет этой и еще вчерашней едой.
Я не понимаю и не знаю, как жить в деревне. Мне кажется жизнь в деревне невыносимо трудной, а главное, неоправданно трудной. Те закаты и восходы, тот туман, белый-белый, который лежит на реке, обещая знойный день, жужжание моторной лодки из этого тумана, удочка в руке, а за спиной мычит, позвякивает чем-то, кукарекает деревня… Все это радость только для заехавшего на выходные горожанина, который любит запах деревенского дома, парное молоко, ковыряние на грядках, разговоры о скотине и саму эту скотину, а также кур и прочую живую мелочь. Любит тесную баньку и умывание из рукомойника и т. д. и т. д. Я всего этого не люблю и никогда не любил.
Когда мы ехали из города, я, сидя на заднем сиденье старого отечественного внедорожника, вдоволь наклацался зубами и натрясся по кочкам. А еще я наслушался таежных разговоров про то, как в прошлом году было уж очень много барсуков и пришлось нескольких подстрелить, барсучьего жира зато им хватило на всю зиму.
– А для чего нужен барсучий жир? – поинтересовался я.
– Ты что, не сибиряк, что ли? – спросил тот, что был за рулем.
– Да нет! Просто молодой еще, – ответил за меня другой, – прихватит – узнает, зачем барсуку жир.
Они оба посмеялись и продолжили разговоры про медведей, косуль, таежные, дальние озера с сомами и другими неведомыми большими рыбами. Слух и сердце мне приятно обжигали слова: «заимка», «пасека», «зимовье», «старый прииск».
– Если силы будут, дойдем завтра до прииска, – сказал водитель.
– Какого прииска?! Золотого, что ли? – совершенно изумился я.
– А какого еще? Конечно, золотого.
– И сейчас добывают?
– Не-е. При Екатерине добывали золото. Потом какое-то время кто-то сам пытался ковыряться, а теперь там тишина.
– Интересно! – выдохнул я.
– Да-а-а, ничё интересного. Так, жутковато маленько, и все…
Мы приехали в деревню, поужинали, выпили немного самогонки, от которой все волосы на моем теле встали дыбом, мужики, правда, ее хвалили, легли спать (я почти не спал из-за запахов, храпа и вообще…), а утром взяли ружья, еду, сели вчетвером в машину, выехали за деревню, проехали мимо каких-то свинарников, ржавого трактора, пересекли поле и остановились у леса. Это и была тайга.
Меня сильно удивило то, что комары все-таки боялись той белой жидкой мази, которой мы намазались, прежде чем шагнуть в лес. Они кружились и звенели перед лицом, садились на одежду, но не кусали.
Мы шли и шли, долго, быстро и молча. Мне никто ничего не объяснял. Я довольно скоро приноровился к ходьбе по этому лесу, реже утыкался лицом в паутину и даже перестал наступать на особо звонкие сучья. Глаза устали от мелькания веток, от просветов и затемнений. Я просто шел. Когда впереди прозвучал выстрел, я даже не испугался. И выстрел был не громкий, и стреляли не очень близко. Мы побежали вперед. Оказалось, Сергей подстрелил тетерева. Он держал среднего размера птицу в поднятой руке, а та была истерзана вдрызг.
– Вот ведь!.. Картечью жахнул! – смеялся Сергей. – Еще когда заряжал, сам себе повторял: «Серега, запомни, картечь в левом, дробь в правом». Ну вот как раз наоборот и жахнул. Но ничё, сжуем.
Он подмигнул мне, и мы зашагали дальше.
Ничего больше тогда не произошло. Мы не видели ни одного животного, ни одного таежного озера, никаких брошенных приисков. Лес, бурелом, тропинка, которая то была, то ее не было, и все… При Сергее мужики не трепались, а сам Сергей в основном молчал.
Когда к полудню мы пришли к маленькому бревенчатому домику, я уже понимал, что никаких медведей и барсуков вовсе не бывает. А если и есть в тайге озера, то там водятся известные мне пескари, ерши и в лучшем случае карасики, да и то не кишмя кишат.
Возле бревенчатого домика был чистый родник. Мы напились, встав на колени, прямо из земляной воронки, которая полнилась холодной водой, а на дне ее танцевали песчинки и маленький белый камешек. На двери дома не было замка, мы вошли, в доме было темно: он был без окон. В нем стояла сырость, пахло плесенью и погребом.
– Серега, а чё ты дверь-то не оставишь открытой? – спросил один из мужиков. – Пусть просохнет.
– Ага, – сказал Сергей, зажигая керосиновую лампу, – медведь придет и так тебе тут все просушит! – Он перехватил мой ироничный взгляд. – Да-да, медведь! И вот это не поможет.
Он показал пальцем на какие-то темные (не знаю, как сказать) мешочки (что ли) размером с куриное яйцо, только совершенно неправильной формы, которые висели над входной дверью.
– А что это? – спросил я.
– Желчные пузыри, – ответил тот мужик, что водил машину, – медвежьи.
– А зачем?
– Полезно, – сказал другой.
– Да так, вешаем, чтобы медведи боялись, – сказал Сергей, – а они не боятся. Вот смотри.
И он показал мне на следы огромных когтей. Домик был весь исцарапан, некоторые следы были очень глубокие и находились высоко, я с трудом дотянулся до них рукой.
– Они и сейчас за нами смотрят, – подмигнул мне Сергей.
Мужики затопили маленькую печку, чего-то копошились в домике, готовили еду. Они сварили несчастного тетерева, получился невкусный бульон и невкусная птица вся с перебитыми костями. Мне попала на зуб свинцовая картечина. Было больно, аппетит пропал окончательно. Потом мы выпили водки, потом стреляли по консервным банкам из карабина. Я попал пару раз. Меня хвалили, мне было приятно. Что-то еще делали, потом спали. К утру замерзли, проснулись, дождались рассвета и вернулись в деревню. Это все, что я видел. На обратном пути комары жрали нещадно.
Я потерял мазь, мною были недовольны.
Но я помню, как перед самым уходом из лесного домика, когда мужики готовились к обратному пути, я отошел за дом пописать. Я прошел мимо родника и прошагал метров восемь вдоль ручейка, который истекал из земляной воронки. Он струился, образуя небольшие заводи, а точнее, лужи. Я шел, и вдруг в одной из луж я увидел отчетливый след. Я наклонился к воде и разглядел большой след, оставленный крупным животным. Это был след, какой в кино оставляли медведи. От этого следа вверх, колыхаясь, поднималась илистая мутная взвесь. Эта взвесь замутняла чистую воду. А потом я видел, как муть стала опускаться. Писать расхотелось совершенно. На обратном пути мною были недовольны, комары кусали, я помалкивал. Ничего больше я не увидел.
Медведя не в зоопарке я повстречал позже… Потом.
Не помню, чтобы дед рассказывал мне что-нибудь про тайгу. Он рассказывал про город. Рассказывал про американцев, которые когда-то приехали в наш город и привезли первый колесный трактор. Дед это помнил, хотя тогда ему было лет семь. Он рассказывал, что американцы построили котельную и общественную баню. И еще дед сказал, что американцы были смешные, наивные и носили красивые клетчатые рубахи и светлые брюки. Не знаю, может быть, дед их никогда не видел, этих американцев. Именно так выглядели и именно в такие рубашки были одеты американцы в наших старых фильмах.
Но вот центральную, самую лучшую и удобную часть нашего города, точно, построили военнопленные немцы. Об этом знают в городе все.
– Немцы строили, – с благоговением, почтением и даже любовью говорила какая-нибудь тетка про свой дом, – живу не нарадуюсь.
– Конечно! Немцы хорошо строили, – не без пафоса говорил какой-нибудь толстый мужик. И по нему было видно, что сам он ничего не построил, а если бы построил, то получилось бы у него точно хуже, чем у немцев. Обязательно хуже! Сколько же они построили, эти немцы. В каждом сибирском городе вам обязательно с удовольствием покажут трех-четырехэтажные дома с необычно большими окнами и скажут про пленных немцев. Вот так прошли они по Сибири… Немцы были в моем городе! Вот так его коснулась война.
Я не однажды слышал, что мост через нашу реку построили пленные японцы. Но как-то не верится. Во-первых, мост ничем не примечателен, единственно, довольно большой. А во-вторых… японцы, в моем городе… строят мост?.. Это как-то слишком. Не верится.
А вот фонтан построили точно наши. Поэтому, наверное, он так редко работал. Но даже неработающий фонтан доставлял мне много радости. Когда город был для меня бесконечно велик, фонтан сильно впечатлял меня даже без бьющих струй. Наш фонтан украшает театральную площадь. Он просто круглый, гранитный, в виде чаши. Ничего особенного! Но фонтан-то находится в центре города, а я никогда не жил в центре моего города. Так что поездки в центр были связаны всегда с ожиданием наслаждений. Ну, во-первых, такая поездка могла произойти и имела смысл только летом, в хорошую погоду, что само по себе прекрасно и редко…
Поездка в центр – это веселые и нарядные родители, покупка мне… чего-нибудь… Возможно, кафе-мороженое, если оно, конечно, открыто, в нем есть места, у меня не болит горло или ряд других постоянных обстоятельств. Еще в центре был горсад с каруселями, сладкой ватой и возможностью «взять напрокат» маленький, стальной, весь избитый педальный автомобильчик, на котором я катался по аллеям, смеялся от радости и, мне казалось, фантастически технично рулил. (Мне долго было непонятно, как можно было взять напрокат холодильник или телевизор. Если напрокат, значит – кататься. А как кататься?) Еще можно было бегать по набережной, смотреть вниз на реку, мост, трубы заводов и на другой берег… Но начинался и заканчивался центр всегда фонтаном. Мы выходили из автобуса в центре у фонтана, а потом ждали автобус, чтобы уехать из центра… у фонтана.
Мы долго ехали, ехали, ехали. Я считал остановки. И вот автобус поворачивал, и фонтан становился виден… Но, как обычно, без струй…
Когда в фонтане совсем не было воды и на сухом дне валялись листья, газета и какая-нибудь сломанная детская игрушка, по дну можно было бегать с разрешения папы. Бегать и все время бояться, что мощные струи вырвутся из всех стальных кранов… и что тогда? Я бегал и визжал. Когда фонтан забивался, засорялся и в нем стояла мутная вода, возле него можно было стоять и просто вглядываться в мутную воду, пытаясь разглядеть там жука-плавунца. Или можно было накручивать круги вокруг фонтана, пытаясь поймать водомерку, которую так хотелось хоть раз поймать.
А когда фонтан работал!.. От него невозможно было уйти. Папа помогал мне подставлять ладошку под струю и удерживать руку… Струя приятно резала ладонь, брызги летели на волосы и одежду. Мы смеялись с папой. А еще в струях фонтана иногда застревал кусочек радуги…
Никакой фонтан или водопад уже не обрадует меня сильнее. Никаким струям я не смогу быть столь благодарен. Фонтан в городе был один. Тогда я не знал, что в городах может быть по нескольку фонтанов.
Петергоф и фонтаны Петергофа, конечно, поразили меня. Когда я увидел их, мне было девять лет. У меня даже осталась фотография на фоне фонтана «Самсон, разрывающий льву пасть». Но те фонтаны меня не обрадовали. Их было очень много, необходимо было все их осмотреть, родители тащили меня от одного к другому. Конечно, я быстро устал и стал ныть, кукситься, потом получил пару горячих шлепков и какое-то время таскался за родителями молча.
Какая же это была мука, ходить с родителями по музеям! Мне не интересны были картины или скульптуры. Что-то любопытное присутствовало в античных сюжетах, но люди, в смысле античные герои, высеченные из мрамора или изображенные на полотнах, всегда были какие-то вялые. И даже если они были с мечами и в доспехах, все равно, что-то сонное и скучное было в их позах. А обнаженные женщины были какие-то… даже не могу точно сказать… неинтересные, и все.
А у нас в городе музей был только один: краеведческий. Он был маленький и не обязательный. Перед входом в музей стоят две старинные пушки. С какой стати возле нашего музея поставили пушки, непонятно. Наш город совсем молодой. Те пушки сделали точно лет за сто до того, как появился наш город. Но они стоят перед музеем, периодически заполняются мусором, потом их чистят, и так много лет.
В музее можно увидеть чучела животных, которые водятся в наших краях, то есть в тайге. Чучела медведя, барсука, лося, волка и т. д. В отдельном зале лежат кости мамонта и каких-то других чуд, которые когда-то водились в наших краях. Там же есть каменные и костяные наконечники копий и стрел. Их сделали те люди, которые когда-то жили по берегам нашей реки. Эти люди охотились на мамонтов и ловили рыбу в реке. Судя по тому, какие гарпуны есть в нашем музее, рыбы в реке водились большие. Мне же в лучшие дни удавалось поймать два десятка пескарей. Зато когда пескарика выдергиваешь из воды и он бьется на леске, растопырив все свои плавники, плавники, которые подсвечены утренним чистым солнышком, в этот момент пескарь кажется таким большим и красивым! Какой же он потом маленький и скучный, когда зажарен на сковородке вместе с другой речной мелочью.
В музее на стене висели изображения рыб, которые водятся в местных водоемах. Каких только там нет рыб! И налимы, и таймень, и хариус… Конечно!
Как же ловко древние люди делали свои наконечники. Я пытался сделать такие же. Причем использовал молоток и зубило. Ничего не получилось, совершенно. Как они это делали? А вот рисовали они не очень. Даже совсем плохо они рисовали.
Если спуститься ниже нашего города по реке километров на пятьдесят, то можно увидеть довольно грозные скалы. Левый берег реки там пасторально холмистый, с березками, а правый – скалистый и жуткий, с соснами на вершинах скал. На этих скалах есть древние рисунки. Их там много, ученые подробно их изучили, эти скалы стали теперь заповедником, и десятка два людей, кто безбедно живет, а кто просто кормится за счет древних художников, которые зачем-то давно нарисовали корявых лосей с большими рогами и так же коряво изобразили себя с копьями в руках. А рисунки-то некрасивые, ну хоть убейте меня, некрасивые.
Когда я смотрел на эти рисунки, я пытался представить, как могли эти люди жить здесь. Как они не замерзли. То, что раньше в наших краях был другой климат, было тепло, а потом пришел ледник и стало так, как есть, меня совершенно не убеждало. А как же наша зима? Зима-то как? Такая зима, как наша, не может то быть, то не быть…
Вот, в пятидесяти километрах от нашего города, значит, когда-то рисовали на скалах какие-то люди. Я знаю про это, но я не знаю, как и когда умер мой прадед, где он похоронен. Дед не говорил мне об этом, я не интересовался. Мне было это неинтересно. Тогда. А теперь спросить не у кого. Знаю только, что прадед был инженером, умер он, когда моему деду было совсем мало лет. Знаю еще несколько не очень важных и не вполне достоверных подробностей. А когда и где похоронен и сохранилась ли могила, не знаю. Ужас, правда?!
Зато я участвовал в раскопках древних могильников. Недалеко от нашего города есть и такие. Студенты-историки, мои друзья, ездили в археологические экспедиции, много об этом говорили, всю зиму ждали лета, чтобы снова ехать копать. В их рассказах было столько романтики, и я был студентом, мне тоже хотелось приключений, к тому же я уже посмотрел пару фильмов про Индиану Джонса.
Ребята взяли меня с собой в экспедицию, я тогда закончил второй курс… Продержался я три дня и сбежал. Просто выяснилось, что я не очень люблю умываться из озера и тут же мазаться мазью от комаров (это утром), днем копать, с удовольствием обедать, а потом снова копать. Вечером сидеть у костра и спать в палатке было приятно, но, видимо, археологи все играют на гитарах и поют, к тому же у них много своих археологических юмористических песен. Я понял, что мне не нравятся поющие у костра археологи. Но больше всего мне не понравились деревенские ребята на плохих мотоциклах, которые приезжали из ближайших деревень на свет костров и звуки песен. Их влекли к себе студентки, приехавшие из города. Мне не нравились эти ребята, их мотоциклы, их действия и их разговоры. А особенно мне не нравились последствия их действий и разговоров. В общем, я сбежал из экспедиции. Сел в автобус, и через два часа я был в городе.
Я вышел тогда на автовокзале и подумал: «Боже мой! Два часа, сначала немного по грунтовой дороге, потом по асфальтовой – и я в центре города. Вот город! А можно снова сесть в автобус, и через два часа будет археология!»
Но археология действительно наука и настоящее, не шуточное дело. Ребята показывали мне холмы, даже не холмы, а кочки. Ничем не особенные, с коровьими лепешками, травой, кузнечиками в этой траве. Рядом была деревня, в деревне магазин, в магазине кока-кола. А тут могильники. Но ребята показывали мне какую-то травку, которая росла на тех кочках, и объясняли мне, что она растет только на этих курганах (так они называли эти кочки). Травка была как травка. Но они объяснили, что даже через тысячу лет на могилах будет расти эта травка.
Прежде чем копать, молодые и уже вполне зрелые археологи долго и убедительно-научно что-то обсуждали, вычисляли, вбивали в землю колышки и натягивали веревочки… А потом все равно копали. Просто лопатами. В первый день я копал и копал, копал и копал. Я боялся найти кости или череп. Как-то было неприятно вскрывать чью-то могилу.
– Ребята, а не страшно в могилах-то ковыряться? – спрашивал я. – Чревато же, а?
– Слушай, вот не надо этого! – говорил кто-нибудь и делал при этом такое снисходительно-разоблачающее лицо.
В первый день я ничего не нашел. А на второй день, уже ближе к вечеру, я нашел очень хороший бронзовый наконечник охотничьего копья. Он был сломан пополам, но был очень красивый.
В первый день я копал с азартом и внимательно осматривал каждый комок земли, даже когда мы снимали дерн и ничего, кроме червяков, найти было просто невозможно. А к концу второго дня я уже очень сомневался в археологии как таковой. Просто копал. И вдруг из комка сухой коричневатой земли выпал, сломанный пополам, бронзовый наконечник. Я не сломал его лопатой. Я в этом уверен. Мой наконечник не сверкнул на солнце, и его не пришлось очищать от пыли веков специальной щеточкой. Такие щеточки я много раз видел в научно-популярных фильмах про археологов. Так вот, из-под моей лопаты выпали две половинки настоящего бронзового наконечника. Как я удивился, как я обрадовался, как я закричал! Я закричал, как вахтенный матрос, увидев долгожданную землю! И что тут началось… Все забегали, засуетились, у меня отобрали мою находку, оттеснили меня долой. Это потом уже мне объяснили, что в могилу мужчинам клали их оружие и прочее. Я это знал и так из школьной программы и научно-популярных фильмов. Наконечник, что я нашел, был охотничий, а не боевой. Это установили по ушку, которое было сделано на креплении наконечника. К этому ушку привязывали кожаный шнур, когда метали копье. Археологи объяснили, что такие предметы очень высоко ценились в том древнем сообществе. Мне напоследок дали подержать мою находку и унесли ее в штабную палатку. Наконечник был очень красивый. И НАСТОЯЩИЙ.
Я тогда был героем дня, вечером у костра за меня выпили, сказали, что я приношу удачу. Потом в мою честь спели археологическую песню. А вскоре приехали деревенские мотоциклисты. Так что на следующий день я уехал в город.
Но песни и драка с деревенскими не были основной причиной моего бегства. Я почувствовал азарт поиска, но отчетливо понял, что археология – не моя наука. Я со всей ясностью ощутил, что мне жаль, что у меня забрали мой наконечник, а еще я понял, что если найду что-нибудь еще, то ни за что не отдам. Такие мысли и чувства никак не вязались с археологией.
В двух часах езды от нашего города можно было найти наконечник, а в пятидесяти километрах вниз по реке от моего города были древние наскальные рисунки. Я родился на той земле, мой отец, мой дед и прадед родились там, но я чувствую, что все эти рисунки и могильники от меня так же далеки, как египетские пирамиды, и так же мало для меня значат. Я не ощущаю никакой связи между мной и теми, кто много сотен лет лежал и лежит в моей родной земле. Я ничего не понимаю в связи с этим. Зато в рассказах деда было достаточно исторической глубины и временных пластов. Достаточно, чтобы чувствовать себя не просто так оказавшимся в этом мире. Но это я чувствовал тогда, когда дед говорил, а я слушал.
Я люблю старые дедовы фотографии, которые он привозил когда-то с курортов. Особенно мне нравится фото, на котором дед идеально причесан, стоит, расправив плечи, как шкаф. На нем широкий двубортный пиджак, широкие брюки. На пиджаке университетский значок «поплавок» и орден Отечественной войны. Дед стоит на мраморной белой лестнице, сбоку пальма, за спиной море… И подпись под всем этим: «Сочи 52». Почти такая же есть с подписью «Гагры 54» и просто «Белокуриха».
Я бывал в Сочи, но так и не увидел такого места, чтобы можно было так же сфотографироваться. Белые лестницы есть, пальмы тоже… Но где же гармония и строгость? Где эпоха, в конце концов. Мне не понравилось в Сочи… Просто не понравилось.
Но странно… В каких бы городах я ни бывал… Родители брали меня с собой почти всюду, и я много видел городов, тем не менее я нигде не хотел остаться. Я не хотел жить нигде, кроме своего родного города. Хотя, если быть совсем точным, я и в своем городе жить не хотел. Я просто жил в нем и не сомневался. Я даже не рассматривал возможность, что можно остаться и жить в каком-то другом городе, где может быть теплее, всего больше и удобнее. Нет. Я просто приезжал в другой город, мне он нравился или нет, и я возвращался. А как иначе? Меня удивляли разговоры родителей о том, что хорошо было бы переехать в тот или иной город. Я не понимал, как это может быть. Жизнь была устроена так, что у меня не было никаких сомнений. Вообще никаких сомнений не было. Мы жили в типовой пятиэтажке, далеко не в центре, но у меня не возникало желания даже переехать жить в центр. Я не представлял, как это возможно. Как можно жить в центре? Не вообще жить, а мне жить в центре.
Летом мы ездили на юг, к морю. Там было очень хорошо. Совсем другие люди жили на юге. Они громко и по-другому говорили, совершенно по-другому ели, одевались. Все было по-другому. Мне нравилось.
Но я понимал, что летом бывает юг и море, а потом обратно. И в том, что мы возвращались домой, не было ничего плохого. Просто кончилось лето. Надо ехать домой, в наш город, к нашей реке.
Мне никогда не нравилось купаться в нашей реке. По камням было больно заходить в реку, у реки всегда кусали комары и слепни, и течение было настолько сильным, что нужно было затрачивать массу усилий, чтобы тебя не снесло далеко вниз. И к тому же, если приходилось купаться в нашей речке, это значило только то, что этим летом нам не удалось поехать к морю и пришлось остаться дома.
К тому же я боялся нашей реки. Дед рассказывал, что много мальчишек утонули в водоворотах или попадали в струи холодных ключей и тонули от судорог. Еще он много раз подчеркивал, что тонули самые лучшие пловцы и храбрецы. Но я не так сильно боялся слов деда, как рассказа одной тетушки, которая жила в нашем доме. Она рассказала, что ее сын утонул много лет назад. Она говорила, что он был сильным, хорошо плавал. Он закончил школу и… утонул летом после окончания школы.
А однажды я видел утопленника. Это так сильно поразило меня. Несколько моих приятелей и я, нам было по двенадцать лет, были на рыбалке. Родители совершенно спокойно нас тогда отпускали на рыбалку без присмотра. Так вот, мы рыбачили у поворота реки, где течение совсем стремительное и пескари ловятся лучше. К полудню нам уже наскучила рыбная ловля, мы выкупались и пошли обратно. Шли по берегу, идти нужно было долго. Мы шли и увидели двух мужиков, которые сидели и курили у самого берега, а третий мужчина лежал у самой кромки воды. Он лежал лицом вниз. На нем была клетчатая рубашка с коротким рукавом и синие спортивные брюки. Обуви на ногах не было. Я увидел совсем белые, распухшие пятки. Помню темные короткие волосы, и еще у него на руке были часы. Я остолбенел. Мы, прежде чем толком понять, что перед нами, успели подойти совсем близко.
– Ну-у, чё уставились?! – крикнул один из курящих. – Давайте, валите отсюда.
Мы убежали. Я выбросил всю рыбу, что наловил за утро. И долго потом не мог подойти к нашей реке. Можно было, правда, купаться не только в реке, но и в озере, которое было недалеко, на песчаных карьерах, в которых вода была совсем теплая. Но пугали пиявки. Я боялся пиявок смертельно.
Однажды папа напугал меня пиявками на всю жизнь. Мы зашли в аптеку, мне было лет семь, и, конечно, мое внимание привлекли пиявки, которые красиво плавали в большой стеклянной банке. Видимо, я к тому моменту сильно допек отца какими-то своими разговорами и вопросами.
– Вот, посмотри – это пиявки, – сказал он, – если будешь много болтать, я куплю тебе пиявку.
Я очень удивился и недоумевал.
– Знай, – продолжил папа, – пиявки пьют кровь. Вот сейчас они такие тоненькие, а если она к тебе присосется, станет толстая-толстая. Вот я куплю тебе такую, если будешь болтать все время, посажу тебе на язык, она высосет кровь из языка, язык станет тоненький-тоненький, и ты не сможешь говорить. То есть говорить-то ты будешь, но тебя не будет слышно.
– А это больно? – прошептал я.
– А как ты думаешь? Это больно, когда из тебя кровь высасывают? Конечно, больно!
Папа потом извинялся, просил прощения, говорил, что это совершенно не больно и что он пошутил. Но дело было сделано. Я рыдал до изнеможения, и ужас перед этими существами навсегда укоренился в моем сердце и сознании.
Город вообще был наполнен страхами и запретами. В нем были относительно безопасные маршруты и вражеские территории, неизвестные пространства и зоны средоточения злых сил. Но совершенно безопасных мест не было вовсе. Даже в наш двор могли прийти парни из соседнего двора, чтобы отобрать у нас что-нибудь ценное, разрушить наши какие-нибудь постройки, обидеть нас… Опасно было ходить одному в кино. Возле кинотеатра могли ограбить пацаны, которые жили рядом с кинотеатром. Они отбирали мелочь и производили тяжелое впечатление. В районе телецентра жили, как гласила молва, особо жестокие и страшные парни. Я туда не ездил никогда, но много слышал про ужасы, которые там творятся. Страшным словом было слово «кирзавод». Туда нельзя было ездить ни в коем случае, почему, никто толком не объяснял, просто там был полюс зла. Как выяснилось позже, «кирзавод» – это просто кирпичный завод. А телецентр оказался тоже вполне обычным районом, просто там торчит в небо телевизионная антенна нашего города. Ночью на ней горят огоньки, чтобы в нее не врезался самолет. А для чего они еще могут на ней гореть?
Ужасно притягательными, но также жуткими были большие, давно остановившиеся стройки, которые, наверное, и по сей день не завершены. Там, в этих темных, пустых окнах, в замерзших, но скрипящих на ветру кранах, в строительных вагончиках и всем остальном строительном лабиринте, было столько тайны и мрака. Ходили страшные мифы об убитых школьниках, которых заманили туда, в эти глубины стройки. Еще ходили рассказы, которые были уж совсем странные, невнятные и связанные с какими-то эротическими страшными приключениями… И к тому же родители именно на стройки ходить запрещали особенно строго.
До нас упорно доходила информация об одном парне из другой школы, у которого отец военный, и у этого парня есть специальная красная фотографическая пленка. Красная пленка – это была такая пленка, на которой все, кого фотографировали, получались голые. В эту информацию мы верили, потому что эту пленку тот парень якобы хотел продать. Цена была большая, но, в общем, реальная. Мои друзья и я хотели купить ее, но как-то тот парень то не приходил на встречу, то болел, то говорили, что его отец узнал про то, что его сын хочет продать военное имущество. В общем, ни того парня, ни пленки никто из нас не увидел. Как я мог в это верить? Я к тому времени уже умел фотографировать, проявлять пленки и прочее. Но верил свято. Потому что весь город верил в это.
Город весь состоял из таких историй, знаков и манящих соблазнов. Он был огромен и еще он рос. Я всегда жил на окраинах города, в новых районах. Мы несколько раз переезжали из одного нового района, который только-только начинал благоустраиваться, в еще более новый район, где никаких признаков благоустройства не было.
Я помню, как мы переехали в новенькую девятиэтажку, которая стояла у самой городской черты.
За этой чертой был березняк, а дальше поля. К нашему дому иногда забредали коровы и еще приезжали деревенские мальчишки на лошадях. Они опасались нас, а мы побаивались их. Но в них чувствовалась какая-то настоящая взрослость, в этих деревенских пацанах. Все они свободно курили, причем курили непоказно и не для самоутверждения, они курили, потому что… курили. Им нравилось курить, они хотели курить, вот и курили. Было отчетливо видно, что они не спрашивали разрешения куда-то пойти или поехать. Они делали, что хотели, они были на лошадях, у них были кнуты, и еще у всех у них были ножи. А приезжали они к нашему дому, чтобы прокатиться на лифте и посмотреть с крыши на свою деревню и на реку, которую было отлично видно.
Город довольно быстро добрался до этой деревни и поглотил ее. Там теперь стоят девятиэтажные дома, в них давно уже живут люди, многие родились в этих домах. Представляете, они успели в этих домах родиться, пойти в школу, закончить школу и… А я помню, как копали котлованы и вбивали сваи, чтобы строить эти дома. Хотя я ведь еще совсем не старый… и даже не пожилой человек. А какой я тогда, если я помню, как строили те дома?
Но я так же отчетливо помню, как размеры и объемы города вдруг стремительно сократились и стали ужасающе, бессмысленно тесны мне. Казалось, мне нечем дышать в этой тесноте. Исчезла глубина, проявилась только поверхность города. Город перестал быть живым и необходимым. Это случилось тогда, когда я подумал о том, что можно было бы уехать из него. И как только пришла мысль, что можно уехать… следующая мысль была, что надо уехать обязательно! И вся живая теплота города, идущая от дедовых рассказов, от родных людей, от важнейших событий, которые я пережил в моем городе, вся эта живая теплота сразу исчезла за объективной и конкретной некрасивостью типовых домов, за пылью, летящей из-под колес городских автобусов, которые везут по маршрутам усталых и невеселых моих земляков. Живую теплоту моментально задушила своими длинными ночами холодная, ветреная, суровая и невыносимо долгая сибирская зима. Без живой теплоты, без любви стало все видно, и видно стало все не то, что помогает жить и спасает…
«Что, – думал я, – должно было заставить неведомых мне людей построить здесь город. Почему они выбрали именно это место для нашего города. Они шли через леса и вышли к реке… Им что, так понравился вид на реку? Зачем тогда они так страшно испортили этот вид, построив такой город? Здесь что, какое-то изобильное место? Земля здесь родит лучше, чем в других местах, климат хороший, много дичи в лесах? Почему они построили город там, где построили. Не понимаю».
Но однажды, стоя в одном не самом большом и не самом красивом итальянском городке, на мосту через чистую маленькую речку с быстрыми рыбками, я подумал: «Вот как так? Вот эти люди родились здесь, среди прекрасных гор, виноградников, до моря рукой подать, они веселые, у них так тепло, вкусно и красиво. Италия!!! Они родились здесь и палец о палец не ударили, чтобы жить среди такой красоты. А я просто родился в сибирском городе, и у меня все не так. Я родился там, а они здесь. Как же так! Как несправедливо…»
А когда я вернулся в свой город, где шли бесконечные холодные дожди, на деревьях уже не было листьев, все машины были одного грязного цвета… я подумал тогда, что все это заговор. Причем заговор лично против меня.
Интересно, дед когда-нибудь ощущал то же самое или нет? Черный гранитный памятник на его могиле стоит на городском кладбище в тесном окружении могил тех, кто тоже не уехал из нашего города. Зимой могилу моего деда засыпает снегом почти совсем. Присмотреть некому, мы все уехали… Печально городское кладбище нашего города, как печальны все сибирские кладбища. «Новые» городские кладбища, которые давно уже не новые, лежат за городской чертой. Начатые когда-то с какого-нибудь более-менее живописного и сухого холма, эти кладбища расползлись в стороны, затекли в низины и березняки, уткнулись в насыпи железнодорожных веток, потекли в поля. На многих и многих железных надгробиях уже нельзя прочесть имен и дат жизни и смерти. Эти железные памятники покосились, заржавели, заросли совсем. К ним, к этим могилам, никто не приходит. И даже не потому, что память короткая, или потому, что те, кто мог прийти, лежат где-то рядом, а просто многие и многие уехали… Уехали, не вернулись и не вернутся уже никогда.
Я слышал, слышал неоднократно от разных людей, моих земляков, которые либо печально шли к выходу с кладбища, похоронив кого-то, либо когда они стояли над могилами, приехав посетить, привести в порядок эти могилы и отдать должное памяти дорогих им людей… Они говорили, окунувшись в кладбищенскую атмосферу и насмотревшись на забытые могилы, на выцветшие пластиковые венки, на ужасных работников кладбища, которые совсем не похожи на шекспировских могильщиков-говорунов… Они вообще ни на кого не похожи, тем и ужасны… Так вот, я слышал: «Сделаю все, чтобы не лежать здесь и чтобы мои дети здесь не лежали».
А куда ехать? Как ехать? А главное, что должно было быть там, чего нет в родном сибирском городе? А еще точнее, чего там быть не должно, что есть в наших местах и из-за чего имеет смысл ехать?
Главное, чего там быть не должно, – это холода, и важнейшее, что там должно быть, – это тепло. Хотя я не помню, чтобы мороз доставлял мне много неприятностей и как-то угнетал меня. До поры до времени мороз только морозил, и все. А это же нормально, особенно в Сибири.
Но только мне было непонятно, как это может быть не холодно зимой? Когда мы ездили летом к морю, южные люди, дети и взрослые, узнав, что я из Сибири, с почтением спрашивали меня: «Ой, у вас там, наверное, очень холодно зимой?» Сначала я честно говорил, что не холодно, а нормально, а потом понял, что от сибиряка нужен обязательный ответ: «Холодно!» И через некоторое время я с удовольствием рассказывал, как у нас из-за морозов отменяют занятия в школах, как у нас много снега и какой толстый лед бывает на нашей реке.
– Если с утра мороз минус тридцать пять, то отменяют уроки только с первого по третий класс, а все остальные учатся, – говорил я.
Мне приятно было видеть, какое впечатление и ужас расширяли глаза моих южных слушателей. –35 °C для них были невероятной температурой. Я чувствовал себя закаленным, сильным, опытным, а главное, приобщенным к какому-то великому братству, некоему благородному Сибирскому ордену, спаянному неведомыми южанам морозами, снегами и льдами. Я видел, с каким уважением они смотрели на меня.
Южные ребята гораздо проворнее меня лазали по фруктовым деревьям, скакали через заборы, плавали на лодках, гоняли на велосипедах и бегали босиком по горячему песку и асфальту. В них было гораздо больше беспечности, какого-то летнего азарта. Они могли на собранную где-то мелочь купить в магазине большой круглый хлеб, а все остальное натаскать из садов и огородов. Они лазали за пыльными, теплыми помидорами и огурцами, за яблоками, сливами, подсолнухами и даже баклажанами. Баклажаны потом выбрасывали, потому что а как их было есть? Но удержаться и не стащить баклажаны они не могли, слишком те были красивые.
Они постоянно предпринимали разные далекие и не очень экспедиции. Например, на узловую железнодорожную станцию, чтобы полазать по вагонам, что-нибудь найти и стащить. В порт или на рыбоконсервный комбинат, с той же целью. Я ходил с ними, но всегда тревожился, опасался, а то и просто боялся, что об этом узнают родители. Это было самое страшное. Сторожа, милиция и вполне реальные технические опасности для жизни были не столь страшны. Но мои южные, ловкие, покрытые толстым многолетним загаром летние товарищи вообще ни о чем таком не думали. Они могли сесть на велосипеды и уехать на какие-то озера за раками с ночевой или так же, с ночевой, на военный полигон, чтобы поискать там гильзы от автоматных и пулеметных патронов. Я не ездил с ними, мне даже в голову не могло прийти попросить разрешения у родителей поехать куда-то с друзьями с ночевой и без взрослых. А уйти без разрешения?.. Я был не сумасшедший…
Надо мной посмеивались, обидно шутили и особенно сладко рассказывали про вылазки на маяк, на самый верх, или про ночную ловлю креветок, которые якобы ночью ловятся необычайно. И как потом вкусно сварить их прямо в морской воде… Во мне не было этой южной беспечности. Но мои морозы в моем родном городе, мои льды и снега оставались при мне неразменной монетой. Меня уважали. Уважали за Сибирь.