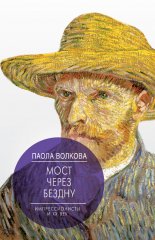Скобелев, или Есть только миг… Васильев Борис
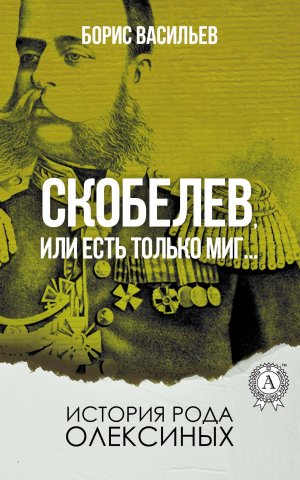
Часть первая
Глава первая
1
Лето 1865 года выдалось небывало дождливым. Как начало моросить с Егорьева дня, так и моросило без перерыва все последующие дни и ночи. И если Санкт-Петербург всегда изнемогал от обилия каналов, рек и речушек, из-за чего, как считали москвичи, платья и рубахи с самого утра становились волглыми как бы сами собой, а сахар и соль вечно отсыревали, то теперь с этими напастями познакомились и жители Первопрестольной. Все ругали погоду, все были мрачны и недовольны, и только лавочники изо всех сил сдерживали радость, поскольку в их умелых руках даже сукна стали короче, будто усыхали, вопреки природе, под непрекращающимся дождем, не говоря уже о законно прибавивших в весе продуктах.
Об этом толковал московский обыватель, трясясь по Тверской в запряженном парой кляч городском дилижансе. Кто называл его «линейкой», кто – «гитарой», удобства экипажа от этого не улучшались. А поскольку «гитара» считалась крытой и в принципе была таковой, но – от солнца, а не от бесконечного дождичка, который и дождичком-то язык называть не поворачивался, настолько он был мелок, жалок, неопределенен, пронзителен и бесконечен, эти его необычные качества особенно сказывались на пассажирах московских «линеек», потому что пассажиры сидели на них по обе стороны, спиной друг к другу, бочком к лошадям и лицом к тротуарам и вода простегивала их не только сверху, но и со всех прочих сторон, в том числе и из-под колес.
– Это ж чего делается-то? Это ж поля вымокнут, на избах опята вырастут, и вся нечисть болотная возрадуется радостно.
– Потоп. Истинный потоп библейский…
От потопа спасались все, как могли, но чаще всего – в собственных ковчегах. Только известная всей Москве таганская дурочка Мокрица приплясывала под дождем и очень радовалась:
– Мрыть Москве мокру! Мрыть Москве мокру!
Вздыхали москвичи:
– Знать, прогневали мы Господа своего…
Видать, и вправду прогневали, потому как в ресторане «Эрмитаж» сам собою круглосуточно начал плакать фонтан, а в Английском клубе, основанном английскими же купцами еще при Екатерине Великой, родилось и само объяснение всемосковского мокрого бедствия. В комнате первого этажа, именуемой ажидацией, где лакеи, грумы и прочие сопровождающие лица коротали время за чашкой чаю с разговорами в ожидании господ, кто-то изрек в эти самые мокрые дни:
– Всякое непобеждение в войне меняет климат пространства и населения.
И в этом мудром выводе была немалая доля истины, так как не только москвичи, но и вся Россия глубоко и огорчительно переживала неудачу Крымской войны[1], и никакие частные победы на Кавказе не могли принести никакого облегчения промокшим душам и телам. Бесспорно, героическая оборона Севастополя роняла капли бальзама на израненные патриотические организмы, но истинную радость жизни и великое торжество духа способны приносить только звонкие победы, но никак не громкие обороны. Россия жаждала героев-победителей, и никакая отвага и стойкость героев-защитников не могли утолить этой непереносимой жажды. Потому-то и затрубили вдруг все газеты дружно, бодро и весело, когда пришли первые оглушительные телеграммы с далекого-предалекого юга. Из Туркестана, о существовании которого вряд ли слыхивал российский обыватель тех времен. 15 июня 1865 года генерал-майор Михаил Григорьевич Черняев[2], командуя отрядом численностью в тысяча девятьсот пятьдесят человек и всего-то при двенадцати орудиях, внезапным штурмом взял какой-то там Ташкент, в котором проживало сто тысяч населения, обороняемый тридцатитысячным («отборным», как подчеркивали газеты) войском, имеющим аж шестьдесят три орудия. Правда, совершил он сей героический подвиг, позабыв поставить о своем к нему стремлении начальство в известность, за что и был немедленно уволен со службы, получив, однако, чин генерал-лейтенанта за дерзостную свою отвагу. И все газеты прямо-таки до удушья зашлись в остром приступе патриотического восторга, ни разу не упомянув о досадной принципиальности Государя-Императора Александра II[3].
Долгожданные подвиги эти, что вполне естественно, с особой горячностью обсуждались в офицерских собраниях в звоне хрустальных бокалов. Обер-офицерство предчувствовало как будущие победы, так и будущие ордена с профессиональным трепетом и заранее развернутыми плечами.
– Две тысячи против тридцати! За возрождение, господа!
– Это доказывает теорему высшего воинского мастерства русских генералов!
– Либо безудержное бахвальство нашей прессы.
– Бросьте, Скобелев! Черняев – герой и талант!
– С первым – соглашусь, со вторым – погожу, – усмехнулся молодой офицер в мундире лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. – Полководец доказывает свой талант только второй победой. В противном случае его подвиг – лишь случайная удача авантюриста.
– Завидуете, Скобелев?
– Завидую, – искренне признался гусар. – Но совсем не удаче Черняева, а лишь отваге его. И удача, и успех, и проявление таланта человеческого зависят не столько от него самого, сколько от стечения обстоятельств. А отвага есть всегда проявление воли личности, господа. И потому – за отвагу!
Гусар Мишка Скобелев в юные времена воспринимался окружающими в качествах, так сказать, отдельных. Отдельно – как истый гусар, картежник и выпивоха, добрый приятель без видимых друзей, неутомимый юбочник и лихой дуэлянт. Отдельно – как Скобелев. Как внук рядового солдата, свершившего в Бородинском сражении столь легендарный подвиг, что Государь Александр I[4] в удивлении пожаловал ему и потомственное дворянство, и вечную свою благосклонность, и даже высокий пост коменданта Петропавловской крепости, а его преемник император Николай I[5] даровал вчерашнему солдату Ивану Никитичу Скобелеву[6] на этом посту и чин генерала от инфантерии[7]. Иван Никитич не просто содержал крепость и царскую усыпальницу в образцовом порядке, но и писал весьма популярные рассказы из солдатской жизни под псевдонимом «Русский инвалид», коим и являлся на самом деле, потеряв руку в Бородинском сражении. Его единственный сын Дмитрий Иванович[8] очень быстро вырос в кавалерийского генерала, известного не только легендарным отцом, но и удивительной даже для Кавказа личной храбростью, заслужившей уважение всех немирных горцев.
А вот внука коменданта-писателя, знакомство с которым Пушкин особо отметил в своем дневнике, названного Михаилом, по сути никто тогда не знал. Мишка получил блестящее образование, свободно болтал на четырех языках, учителя не могли нахвалиться его способностями, но сам он не спешил претворять эти способности в жизнь. К двадцати двум годам он умудрился закончить в Париже пансион Жирардэ, поучиться на математическом факультете Петербургского университета, послужить в лейб-гвардии Кавалергардском полку и даже побывать в двух заграничных командировках, откуда всякий раз возвращался с иностранными орденами. Так в Дании, выехав на рекогносцировку с полувзводом улан, бросил в атаку этот полувзвод на пешую колонну немцев, воевавших тогда с Датским Королевством, во главе его врубился в растерявшегося противника, захватил штандарт и ушел с несколькими уцелевшими солдатами. В Сардинии повел на картечь горстку отчаянных головорезов, ворвался на позиции вражеской артиллерии, переколол прислугу и захватил пушку. Дома он, правда, ограничивался дуэлями, почему однажды и вынужден был переметнуться из кавалергардов в гусары. И никто не задумывался, зачем лихому гусарскому офицеру безукоризненное знание иностранных языков, любовь к Бальзаку, Шеридану[9] и Лермонтову вперемешку с необъяснимой тягой к дамам полусвета, беспробудным попойкам и азартной карточной игре. Все воспринимали его таким, каким он казался, не догадываясь, что Скобелев и сам не подозревает, каков же он на самом-то деле.
2
Если в тот год в Великороссии шли слякотные дожди, то в Средней Азии, которая тогда именовалась Туркестаном, а ее жители – киргизами, бухарцами, хивинцами, туркменами и текинцами, стояла жара, как в русской печи. Рубахи русских солдат уже через полчаса насквозь пропитывались потом, который сразу же высыхал, и одежда гремела, как жесть. В России об этом не ведали, но дотошные иностранные журналисты, основываясь на богатом опыте собственных завоеваний, неустанно напоминали, что русский медведь прется не туда, где ему следует быть. За всем этим конечно же стояла Британская империя, впервые в своей колониальной истории беспомощно затоптавшаяся в Афганистане[10]. Это подогревало интерес читающей публики, и американская газета «Нью-Йорк Геральд» первой сообразила послать собственного корреспондента непосредственно на места боевых действий в немыслимо далекий от Америки Туркестан.
Лучше всего для этой цели подходил невозмутимый и весьма добродушный ирландец Макгахан, заработавший опыт и славу на репортажах, статьях и очерках о нравах Дикого Запада. Ныне предложено было ехать на еще более дикий Восток, и Макгахан подготовился к этому заданию весьма серьезно, захватив с собою боевую английскую двуствольную винтовку, двустволку охотничью, восемнадцатизарядный винчестер, три тяжелых кольта, парочку охотничьих ружей, мексиканскую саблю и мачете. И соответствующее количество боеприпасов. Добравшись до Ташкента, он с удивлением узнал, что на пути стоит препятствие, которое не прошибешь и дюжиной добрых винчестеров.
– Увы, господин корреспондент, придется вам завтра же возвращаться в Россию, – со вздохом сказал чиновник, регистрирующий невоенных господ.
– А, бакшиш, – Макгахан был готов к такому началу разговора, поскольку не поленился ознакомиться с некоторыми национальными особенностями администраторов Российской Империи.
– Еще раз – увы, – вторично, но куда более огорчительно вздохнул чиновник. – Существует приказ, категорически запрещающий всем европейцам вступать в Туркестанскую область.
– Весьма разумный приказ, – согласился Макгахан. – Европейцы склонны всех считать варварами. Но я не принадлежу к европейцам. Я – гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов, что и написано в моем паспорте.
– Северо-Американских?..
– Да, я – американец, а посему никак не подпадаю под действие вашего очень правильного приказа.
Чиновнику ничего не оставалось делать, как выдать соответствующее разрешение не подпадающему под приказ иностранцу. Через четыре дня Макгахан вполне легально выехал на поиски генерала Кауфмана[11] в район непосредственных боевых действий. На местных лошадях он с проводником и киргизом-коноводом прошел сквозь иссохшие полынные степи, пересек пустыню Кизыл-Кум, благополучно добрался до русских войск под Хивою, где с огромным облегчением и раздарил весь свой арсенал русским офицерам, оставив себе только привычный кольт.
Из Великороссии в Туркестан тоже вдруг заспешили самые различные искатели приключений, азарта и экзотики. Молодые офицеры в жажде чинов и славы. Певички, хористки, арфистки и дамы полусвета без определенных занятий. Торговцы, газетчики, рисовальщики, картежные шулера, авантюристы всех мастей и калибров, не говоря уже о людях вполне достойных. И среди таковых самым знаменитым был художник с уже мировой славой Василий Васильевич Верещагин[12].
Удачная черняевская дерзость расшевелила дремавшие на границах Туркестана русские отряды. Генерал Романовский с четырьмя из них смело атаковал Иджар, где и разгромил сорокатысячную бухарскую армию, потеряв при этом одного солдата. Не останавливаясь. Романовский продолжал развивать успех, взяв штурмом города Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. Воодушевленные этими легкими и быстрыми победами, солдаты тут же сочинили песню, под которую легче было маршировать на адовой жаре:
- Вспомним, братцы, про былое,
- Как в Чиназе на Дарье
- Собиралися мы живо
- Бить эмира в Иджаре.
- Греми, слава, трубой,
- Мы дралися за Дарьей,
- По степям твоим, Чиназ,
- Разнеслась слава о нас!
Пели громко и весело, однако ни определенного плана военных действий, ни даже единой системы управления еще не существовало, каждый отряд, равно как и каждый генерал, действовали на свой страх и риск, и долго так продолжаться не могло. В конце концов в июле 1867 года император Александр II лично назначил единовластного военачальника и генерал-губернатора всей Туркестанской территории. Царский выбор пал на широко известного как армии, так и всей России генерал-лейтенанта Константина Петровича фон Кауфмана. В истории русских завоеваний Средней Азии открывалась новая страница.
В то время молодой офицер Михаил Скобелев уже учился в Николаевской академии Генерального штаба. Он жадно глотал воинские науки, неизменно получал высокие баллы, но ни дисциплиной, ни усидчивостью, ни даже старательностью не отличался. Теоретические боевые задачи решал весьма своеобразно, частенько ставя в тупик преподавателей, с ответами на экзаменах не задумывался, но отвечал тоже далеко не так, как того требовали законы академические.
– Противник сильно укрепился в труднодоступной горной местности. – Указка преподавателя с профессиональным изяществом скользила по учебному рельефу. – Вам надлежит ворваться на его позиции. Подумайте и покажите избранный вами маршрут на рельефе.
– Тут, – Скобелев ткнул пальцем в раскрашенный рельеф из папье-маше, не задумавшись ни на секунду.
– Позвольте, это же самое сложное направление. Потрудитесь подумать.
– Думать будет противник, когда я окажусь над его укреплениями с тыла.
– Но по указанному вами пути не пройдет артиллерия!
– Именно поэтому противник меня здесь и не ожидает.
– Но это противоречит всем правилам, признанным военными авторитетами.
– По правилам военных авторитетов воюют только совершеннейшие тупицы.
Именно в академии он и начал получать не одну, как все прочие, а две взаимоисключающих характеристики одновременно. По одной он отмечался как офицер, несомненно обладающий недюжинными военными способностями, житейской непритязательностью, чувством товарищества и даже скромностью. Зато вторая характеризовала его же, как самонадеянного шалопая, выпивоху, буяна и весьма дерзкого нахала. Первая принадлежала академической профессуре, вторая – академическим же преподавателям. Какая из них с наибольшей точностью отвечала действительности, определить было невозможно, потому что обе старательно описывали один и тот же характер с двух точек зрения.
Еще не закончив академического курса, Скобелев заскучал и подал рапорт с просьбой отправить его в зону военных действий, то бишь в Туркестан. Однако отец Дмитрий Иванович вовремя спохватился и заставил строптивого сына отозвать рапорт и терпеливо закончить учение. Скрепя сердце Скобелев подчинился, поднажал, закончил академию в первом списке, дающем право выбора места службы, и на законном основании выбрал Туркестанский военный округ.
Перед отъездом его пригласил заведующий кафедрой тактики академии Генерального штаба, генерал-лейтенант, профессор Михаил Иванович Драгомиров[13].
– Я предполагал, что вы ринетесь на театр военных действий при первой же возможности, – сказал он, пригласив Скобелева сесть напротив служебного стола. – Я доволен и недоволен вами одновременно, однако убежден, что вы укрепите мое первое впечатление и перечеркнете второе. Натура вы весьма сложная, оценивают вас, скажу откровенно, с двух взаимоисключающих точек зрения, почему я и позволил себе личное письмо со своей оценкой вашего характера. Письмо это я настоятельно прошу вас вручить от моего имени генералу Кауфману.
– Благодарю, ваше превосходительство, но…
– Никакого «но», ротмистр, – строго сказал Драгомиров. – Пекусь не о вас, а о будущем русской армии. Исходя из этого, позволю несколько советов относительно воспитания ваших завтрашних подчиненных.
Скобелев недовольно нахмурился и вздохнул, а Михаил Иванович улыбнулся.
– И все же прошу выслушать. Задача первая: что должен делать солдат, дабы победа над врагом досталась ему по возможности дешевле. Задача вторая: какое место во всех занятиях солдата должно быть представлено изустным примерам, а какое – личным примером командира. И наконец, задача третья: каким образом различные формы образования солдата слить в мирных упражнениях в одно целое так, чтобы ни одна из них не развивалась за счет другой.
Скобелев смотрел на профессора с искренним удивлением. Он не терпел советов, но то, что говорил генерал Драгомиров, не являлось советами. Ему говорилось о проблемах солдатского воспитания, которые обязан был решать офицер. То есть, лично он, ротмистр Скобелев, равно как и все другие поручики и ротмистры, пехотинцы и кавалеристы.
– Письмо прошу лично вручить Константину Петровичу Кауфману, – сказал Драгомиров, вручая конверт. – Расстаюсь с твердой надеждой вскорости встретить вас генералом.
В начале 1868 года выпускник академии Генерального штаба штаб-ротмистр Михаил Скобелев прибыл в столицу генерал-губернаторства город Ташкент. Генерал Кауфман познакомиться с ним не спешил, и конверт с рекомендацией Михаила Ивановича Драгомирова долго валялся на самом дне скобелевского сака[14]. Штаб-ротмистр быстро обзавелся приятелями, а туркестанские ночи стояли на редкость холодными, и как-то на очередной веселой попойке письмо Драгомирова, адресованное Константину Петровичу, послужило отличной растопкой для спасительного дружеского костра…
3
Человек, которому Российская Империя была обязана присоединением жирного куска территории, генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман отличался отменной уравновешенностью, иногда, впрочем, прерываемой приступами вспыльчивости, в которых он тут же искренне раскаивался, отсутствием юмора, но пониманием, что тот в принципе имеет право на существование, и немецкой любовью к порядку. Он не любил офицерского озорства, шумных попоек, а уж тем паче дуэлей, запрещенных, а потому и строго наказуемых, но, как ни странно, не любил и самих наказаний за это нарушение. Он вообще относился к своим подчиненным по-отечески, стараясь выискивать по возможности наказания мягкие, но при этом стремился избавиться от нарушителей спокойствия как можно скорее. Генерал Драгомиров отлично изучил его нрав, отчего вопреки всем правилам и собственным принципам и снабдил строптивого Скобелева рекомендательным письмом, весело сгоревшим на не менее веселой офицерской пирушке в холодную ночь.
В одну из таких темных ночей и случилось событие, послужившее причиной личного знакомства генерал-лейтенанта фон Кауфмана с штаб-ротмистром Михаилом Скобелевым.
Несмотря на многочисленные поражения, неуловимые то ли бухарские, то ли кокандские шайки продолжали активно действовать в тылу русских войск, поскольку никакого фронта не существовало, да и существовать не могло на огромной территории при весьма ограниченной численности русских. Единственным спасением от дерзких налетов служили усиленные кавалерийские разъезды и дозоры, они бдительно охраняли, особенно по ночам, и сам Ташкент, до которого, случалось, добирались особо отчаянные джигиты не столько во имя отмщения, сколько ради угона скота и грабежа мирного населения. И в одну из темных ночей казачий разъезд неожиданно услышал странные крики.
– Середина, что ли? Черт, ну и темнотища! Собственного пистолета не вижу.
– Считайте шаги, поручик!
– А зачем? Мы все равно друг друга не видим. Скорее пистолетами столкнемся…
– Полагается по дуэльному кодексу. Вы когда-нибудь видели хоть одного сардинца?
– Нет, но сардинки видел. В банках. Хорошая закуска под мадеру, доложу вам…
– А может, ротмистр этот… Скобелев, что ли?.. Выдумал про сардинскую дуэль? Это же глупость несусветная: в кромешной темноте друг в друга палить.
– Зато романтично, господа. Ночь, прохлада, звезды в небе. Командуйте, капитан, командуйте.
– В этакой-то черноте? Может, я к ним, к дуэлянтам, вообще спиной сейчас стою. Или нас с вами, ротмистр, уже и на саму линию огня вынесло. Представляете, если они с двух сторон одновременно из револьверов шарахнут?
– Не тяните время, капитан. Орем на весь Туркестанский край вместо того, чтобы делом заниматься.
– Ну, черт с вами, ротмистр. Слушай команду! Сходитесь! После трех шагов имеете право стрелять. Раз… Два… Три!..
В темноте раз за разом застучали частые револьверные выстрелы. Кто в кого палил, было неясно, но казачий подъесаул приказал своим казакам дать залп в воздух. Наступила тишина, и подъесаул заорал, срывая голос:
– Прекратить стрельбу! Бросить оружие! Вы окружены, в случае неповиновения открываю огонь!..
Вся шумная компания была арестована и препровождена в штаб командующего. Кауфман вообще вставал очень рано, а уж ради такого случая явился незамедлительно и тут же приступил к допросам задержанных, однако штаб-ротмистру Скобелеву пришлось помаяться, поскольку он был вызван последним.
– Штаб-ротмистр Скобелев! Честь имею явиться!
Генерал долго глядел на него прищуренными от недосыпа глазами. Потом спросил с какой-то незаинтересованной ленцой:
– Вы-то хоть бывали в Сардинии?
– Так точно, ваше превосходительство! Награжден орденом, врученным лично Его Величеством королем Сардинии!
– И с какой же мыслью вы придумали эту идиотскую дуэль в кромешной мгле?
– Только ради ее идиотского исполнения, ваше превосходительство.
– Не вполне уразумел. Извольте пояснить.
– Мне хорошо известно, что дуэли категорически воспрещены его императорским величеством, однако сие абсолютно правильное решение натыкается на преувеличенное представление о чести среди господ офицеров. Исходя из этого я предложил дуэль сардинскую: пальба из полного барабана, но в полной темноте. Это наиболее гуманная из всех дуэлей, известных мне.
– Но ведь ее же не существует в природе, ротмистр, – вздохнул Кауфман.
– Безусловно, ваше превосходительство. Однако никто из офицеров местного гарнизона толком не знает даже, где находится эта самая Сардиния, не говоря уже о ее обычаях.
– Следовательно, выдумали?
– Скорее обдумал, ваше превосходительство. При ясном свете дуэлянт вынужден либо стрелять, подвергая жизнь товарища опасности, либо отказаться от выстрела, неминуемо и навсегда теряя свою честь. А тьма весьма благодетельна. Дуэлянт может пальнуть в небо, сберегая жизнь товарища, либо лечь на землю, сберегая жизнь собственную. Таким образом нарушение императорского запрета обретает форму несколько, так сказать, эфемерную. Осуществляется как бы извечная девичья мечта: получить удовольствие, сохранив невинность.
– Идея, бесспорно, блистательная, – сказал, помолчав, Кауфман, усилием воли сдерживая рвущуюся из-под усов улыбку. – Однако дуэль состоялась и, следовательно, состоялось и дерзкое нарушение категорического запрета Государя-Императора. В самой дуэли вы, правда, участия не принимали, но являлись ее вдохновителем и изобретателем. Что печально, потому что я имею честь быть в дружеских отношениях с вашим батюшкой еще по Кавказу и глубоко чту вашего деда. Получите устный выговор за вдохновение и не вздумайте теперь переносить что-либо из обычаев Датского Королевства на русскую почву. Можете идти, ротмистр. И не болтайте об этом попусту.
Константин Петрович никогда не предавал огласке свои как служебные, так и приватные разговоры, но слух о его беседе с ротмистром Скобелевым все же вырвался из стен кабинета. Виною тому был туповатый адъютант самого командующего, красавец-кирасир, сын известного генерала и боевого друга Кауфмана. Потешались над незадачливыми дуэлянтами, попавшимися на скобелевскую удочку, над фарсовостью ситуации, но самого ротмистра, как правило, не задевали. Наоборот, в этом необычном происшествии он выглядел скорее антрепренером, нежели водевильным героем.
Ночные «сардинские» дуэли прекратились, смолкла пальба в темноте, да и сам Скобелев немного угомонился. Во всяком случае, не мелькал без надобности пред начальственными очами. Занимался гусарским полуэскадроном, в котором временно замещал заболевшего командира, и офицерская молодежь поговаривала, что столичный хлыщ поджал хвост после первого же сурового разговора с Константином Петровичем. Однако же тут случилось событие, заслонившее собою все шуточки, сплетни и пересуды.
Дело было и вправду из ряда вон выходящим. Сотня уральских казаков, сопровождавшая перегон купленных для армии верблюдов, попала в окружение, хорошо продуманное и подготовленное командиром кокандского отряда. Окруженная со всех сторон джигитами, сотня вела трехсуточный непрерывный бой с четырьмя тысячами отлично вооруженных кавалеристов, решительно отвергая многочисленные предложения сложить оружие и сдаться на милость победителя. Трое суток без малейшего отдыха, без воды при страшной жаре держались казаки за спинами собственных лошадей, пока не подошла подмога. Командовал сотней немолодой серьезный есаул Серов, мгновенно ставший самым знаменитым человеком во всем Туркестане.
Скобелеву не терпелось лично засвидетельствовать свое восхищение казакам, но он выждал, когда спадет первый ажиотаж. Ему хотелось потолковать с их командиром, а не просто поздравить уральцев с победой да выпить с ними добрую чарку. А выждав время, пришел. Поклонился казакам, долго, прочувствованно, двумя ладонями тискал руку есаула, выпил, как положено, а потом все же отвел Серова в сторонку ради того разговора, который уже обдумал.
– Как в засаду попал? Неужто дозоры проворонили?
– Наши дозоры кокандцы без шума ножами сняли, – есаул невесело усмехнулся. – Любопытствуешь?
– Знать хочу. Мне воевать с ними.
– Другое дело, – есаул спрятал усмешку. – У них текинские кони. По пескам сутки без еды скакать способны. Не уйдешь и не догонишь.
– А вооружены как?
– Эти английские скорострелки имели. И первым делом всех наших коней постреляли.
– На скаку?
– На скаку они стреляют скверно. Но им и не надо было на скаку стрелять. Их винтовки дальнобойнее наших бердан. Так что с седел и палили. Прицельно и не спеша.
– А ты что предпринял?
– Конскими трупами огородился со всех сторон да и залег с казаками.
– Атаковали часто?
– Совсем не атаковали. Измором хотели взять, потому и орали, чтобы мы на милость сдались. А мы, как на грех, без воды оказались, рассчитывали на колодцы впереди.
– Как же вы три дня под солнцем…
– Копыта дохлых лошадей лизали, перед рассветом они мокрыми становятся. Ты учти это, ротмистр, когда всерьез воевать с ними придется.
– Учту непременно. Спасибо за науку, есаул.
– И еще одно, – сказал есаул. – Так, для памяти. Их джигиты у своих убитых коней хвосты отрубают вместе с репицей. Хан за отрезанный хвост нового коня дает. Потому как это – доказательство того, что конь в бою пал. Так что ежели где бесхвостого коня увидишь, знай, что джигиты тут проходили. Воины, а не банды какие.
– Еще раз спасибо тебе большое, есаул. Давай обнимемся на прощанье.
Казаки получили ордена и медали, сами выбрали казенных лошадей взамен убитых, с удовольствием надели новую форму, подогнали выданное им новенькое снаряжение и ускакали на свои неспокойные рубежи. А Скобелев за это время сдал полуэскадрон выздоровевшему законному командиру и скучно околачивался при оперативном отделе.
Сейчас он избегал былых шумных компаний. Светские сплетни и слухи о том, что бравый гусар перепугался суровой выволочки Кауфмана, доказали, что друзей у него нет, а есть лишь собутыльники да случайные приятели. Кроме того, он все время думал о разговоре с есаулом Серовым, который старательно, слово в слово, занес в специально купленную ради этого толстую тетрадь.
Друг объявился сам. Да не какой-нибудь, а проверенный на совместном пансионном житье в городе Париже. Негромкий, улыбчивый юный княжич Насекин: единственный, к которому все обращались только на «вы», потому что сам князь признавал только такую форму общения даже с прислугой. Скобелев не видел его со времен своего скоротечного обучения в университете, не знал, закончил ли он его, как живет и что поделывает. И обрадовался его внезапному приходу до того, что даже сграбастал в объятья, хотя знал, что князь не очень-то жалует столь бурные проявления чувств.
– Серж, дорогой вы мой! Вот уж кого не ожидал увидеть в пропыленной глуши нашей, так это – вас. Каким ветром занесло вас в эти Палестины?
– Говоря откровенно, меня об этом попросили, и я сразу же согласился.
– Кто же вас попросил? – поинтересовался Скобелев, слегка уязвленный княжеской прямотой.
– Наш ментор, Скобелев. Монсиньор Жирардэ.
– А… Простите, не очень понял. С какой целью?
– Он немного стесняется своего французского акцента, оттого и пожелал, чтобы я сопровождал его.
– А что у него за надобность в Туркестане?
– По-моему, просьба вашей матушки Ольги Николаевны, отказать которой у него всегда недоставало сил.
Скобелев окончательно запутался во всех причинах и следствиях. Но, сосредоточенно помолчав и основательно подумав, спросил напрямик:
– Значит, уважаемый мэтр Жирардэ прибыл проверять, как я себя веду? Кто же матушке на ушко нашептал, интересно?
– Я не коллекционирую чужих секретов, Мишель, – князь улыбнулся бледной усталой улыбкой.
– Прощения прошу, Серж, – Скобелев вздохнул. – Всю жизнь под присмотром хожу.
– Понимаю ваши чувства, Мишель, однако… – Князь Насекин достал хронометр, щелкнул крышкой. – Однако прошу извинить. Через тридцать семь минут наш мэтр ждет нас в ресторане славного города Ташкента.
– Согласитесь, князь, что все это по меньшей мере странно, – недовольно бормотал Скобелев, пристегивая саблю. – Меня воспитывают раньше, чем я даю повод для этого…
Настроение его было вконец испорчено, и он надуто молчал всю дорогу. Насекин молчал тоже, благо до единственного ресторана Ташкента было рукой подать. То ли потому, что в чем-то соглашался с другом, то ли потому, что не соглашался, но, как всегда, не спорил по свойственной ему крайней щепетильности.
Они вошли в небольшой ресторанчик, открытый расторопным армянином в основном для господ офицеров. Еще у входа Скобелев заметил своего старого наставника, однако месье Жирардэ был не один. Рядом с ним сидел бородатый молодой человек в партикулярном платье[15], которого ротмистр сразу же узнал, хотя до сей поры знаком с ним не был, поскольку никто их друг другу не представлял. Это был художник Василий Васильевич Верещагин, которого Кауфман прикомандировал к себе с титулом «состоящего при генерал-губернаторе прапорщика». Увидев вошедших, «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик» тотчас же встал, протянул Скобелеву руку и добродушно улыбнулся:
– А вот и наш гусар-шалунишка!
Скобелева бросило в жар: он терпеть не мог развязной фамильярности. А поскольку застал Верещагина за столом вместе с Жирардэ, то тут же и решил, что именно этому «состоящему при генерал-губернаторе» он и обязан приезду в Ташкент самого Жирардэ. Сухо ответив на рукопожатие, сказал неприязненно:
– Теперь я, кажется, понял, в чем состоят обязанности состоящего при губернаторской особе.
Сейчас уже Верещагина бросило в жар, но он сдержался. И даже заставил себя улыбнуться почти с прежним добродушием:
– Не горячись, Скобелев. И крестись, коли что кажется.
– Мы уже перешли на «ты»?
– С этого мгновения, – сказал Василий Васильевич. – Питаю необъяснимую слабость к натурам дерзко откровенным.
– Мишель, – по-французски начал было месье Жирардэ, и в тоне его прозвучала мягкая укоризна. – Мы так мило беседовали о Париже…
– Простите, господа, вынужден вас покинуть. – Верещагин поклонился, пошел было к выходу, но остановился:
– А ведь мы непременно станем друзьями, гусар. У меня – предчувствие.
И вышел.
– Садитесь, друзья мои, – расстроено вздохнул Жирардэ. – Никогда не следует горячиться, Мишель. Никогда. Я заказал обед по рекомендации любезного господина Верещагина. Вам необходимо извиниться перед ним, Мишель. Необходимо. И не откладывайте сего благородного поступка в долгий русский ящик.
Скобелев недовольно фыркнул, но промолчал.
Глава вторая
1
Двадцатитрехлетний художник Василий Васильевич Верещагин возвращался домой в странном, каком-то раздвоенном настроении. С одной стороны, он чувствовал себя оскорбленным каким-то неясным для него, но явно гнусным подозрением, а с другой – был в известной мере очарован дерзкой искренностью молодого ротмистра. Он всегда высоко ценил человеческую откровенность, и потому это «второе» и перевешивало сейчас «первое» в его душе. Он и себя считал человеком порывистым, готовым на поступки необдуманные, продиктованные куда чаще темпераментом, нежели рассудком, но был скорее человеком решительным, правда, не терял при этом способности поступать порою импульсивно. Например, он сжег три своих картины («Забытый», «Окружили – преследуют» и «Вошли») более под влиянием минуты, чем после зрелого размышления.
Как только он прибыл в Ташкент, Кауфман прикомандировал его к себе с титулом «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик Верещагин» только ради того, чтобы дать ему как можно больше свободы ходить, смотреть и рисовать не только быт, но и боевые действия без придирок местных командиров. И в том огромном военном лагере, который тогда представлял собою Туркестан, это оказалось огромным преимуществом, которое Верещагин весьма быстро оценил.
Он впервые приметил ротмистра Скобелева на скромной выставке собственных рисунков, организованной Кауфманом, и молодой гусар ему понравился. А приметил потому, что уже был наслышан и о безудержных попойках Мишки Скобелева, и о суточных карточных играх, и в особенности о «сардинских» дуэлях, юмор которых оценил по достоинству. Ничем иным Скобелев тогда не выделялся и мог только мечтать о той воинской славе, которая досталась художнику Верещагину.
Василий Васильевич приехал в Самарканд на второй день после его сдачи русским войскам и был, по его собственному признанию, «ослеплен и подавлен» красотою древней столицы Тимура[16]. Он бродил по городу и разъезжал по окрестностям, поражаясь, удивляясь и бесконечно зарисовывая увиденное. Помощник самаркандского коменданта майор Сергеев напрасно умолял его не рисковать жизнью понапрасну, но Василий Васильевич не обращал ни малейшего внимания на его предостережения и уговоры, ежедневно с раннего утра, а то и лунной ночью продолжая смотреть, удивляться и – рисовать.
Однако напряженные отношения с Бухарой не позволяли генералу Кауфману долго оставаться в городе. Он двинулся вперед с отрядом в полторы тысячи человек, оставив в Самарканде гарнизон численностью около пятисот солдат и офицеров под командованием коменданта барона Штемпеля. Очарованный древней Маракандой[17] Верещагин не последовал за войсками, с прежним упорством бродя по узким улочкам, не уставая восхищаться великолепием мечетей, дворцов и гробниц. Однако через несколько дней, когда он, утомленный утренней прогулкой, пил чай в доме, в котором его поселили, внезапно раздались выстрелы и дикие крики: «Урр!..» Схватив револьвер, он бросился на шум.
Как потом выяснилось, около двадцати пяти тысяч восставших узбеков по сговору с самаркандцами ворвались в город и завязали бои на его узких и тесных улочках. И бои эти длились восемь дней без малейшего перерыва.
Верещагин успевал всюду. Отбивал бешеные атаки восставших, отстреливался, вспомнив выучку в Морском корпусе, несколько раз схватывался врукопашную и только чудом выходил из боя живым. Однажды его схватили и затащили в лавочку, но подоспевшие солдаты успели его отбить.
Одна из внезапных атак неприятеля на артиллерийскую батарею оказалась особенно грозной. Солдаты дрогнули и заметались, их командир полковник Назаров напрасно кричал и даже бил их шашкой, это только усиливало панику. Тогда Василий Васильевич сам бросился вперед с ружьем наперевес:
– За мной, братцы!..
Рядом с ним было убито около сорока человек, все парусиновое пальто его было залито кровью: с того дня он ходил в атаки в одной рубашке и холщовых штанах. Поярковую[18] шляпу его сбило пулей, и Верещагин вынужден был надеть на голову чехол от офицерской фуражки, чтобы уберечься от беспощадного туркестанского солнца. Однажды пуля ударила в ложе винтовки, которое в этот момент он по счастью нес поперек груди, камнем разбило ногу, да так, что кровь с трудом остановили. Отчаянный штурм продолжался восемь дней и восемь ночей без единого перерыва; силы защитников были уже за пределом человеческих возможностей, и на военном совете решено было взорвать крепость в случае прорыва противника. Против решительно выступил только Василий Васильевич:
– Взорвать всех – проще простого и как-то уж очень по-военному. Но в крепости Самарканда не только военные и не только русские. Здесь укрылись и армяне, и мирные киргизы, и евреи, и Бог весть, кто еще, но все – с семьями. С женами, детьми, стариками. Вправе ли мы жизнью их распоряжаться? Думаю, что нет у нас такого права.
– Да их все равно перережут, Василь Васильич! – вздохнул полковник Назаров. – Нет, не прав ты. Ради чести воинской, ради знамен и пушек, которые потом по нашим же стрелять будут, мы должны взорвать всю крепость, когда своей крепости не хватит.
– Всех перережут? – тихо спросил Верещагин, и все примолкли. – Откуда уверенность такая, полковник? Да если хоть один мальчонка, хоть девочка одна крохотная уцелеет, и то – благо великое. Нет таких крепостей, чтобы ради их взрыва, ради чести, знамен да пушек хотя бы один безвинный ребенок погиб!
Весь гарнизон, все, спрятавшиеся в крепости, звали Верещагина одинаково: «Василь Васильич», как самого близкого, почти родного человека. Он таким и был. Несмотря на страшную усталость, перевязывал раненых, находил ободряющие слова для растерявшихся и даже умудрялся хоронить убитых.
– Я не помню, чтобы я спал, – говорил он впоследствии. – Порой проваливался в черноту, но никак не более чем на полчаса.
Пять раз посылали вестников из мирных киргизов, что тоже прятались в крепости вместе с семьями, и четыре раза их отрубленные головы осаждающие перебрасывали через стены обратно в крепость. До Кауфмана добрался только пятый, который и передал ему написанную по-немецки записку от коменданта барона Штемпеля: «Гарнизон в крайности. Более половины людей перебито и перерезано. Нет ни воды, ни соли». Кауфман немедленно двинулся к Самарканду форсированным маршем, поднял на штыки осаждавших, сжег базар, и только тогда распахнулись крепостные ворота.
– Наибольшим героем осады показал себя состоящий при вашей особе прапорщик Верещагин.
Таковы были первые слова коменданта крепости дважды раненного барона Штемпеля. Прежде официального рапорта.
– Верно, ваше высокопревосходительство, – прохрипел тяжело опиравшийся на винтовку унтер. – Раньше чем нашему Василь Васильичу никому крестов давать невозможно.
– А где же сам Верещагин? – удивленно спросил Константин Петрович, оглядываясь.
Бросились искать, но нашли с трудом. Василий Васильевич крепко спал в углу прохладного каземата. А когда его, не проспавшегося, доставили в штаб, где генерал Кауфман при всех объявил ему личную благодарность, заявил:
– А вот у меня нет к вам никакой благодарности. Вы ушли, крепость не устроивши.
У Константина Петровича хватило ума и такта не обратить на эту дерзость никакого внимания. И спокойно продолжить тем же задушевным тоном:
– Высоко ценя вашу храбрость и преданность Государю, я решил ходатайствовать перед его императорским величеством о награждении вас офицерским Георгиевским крестом, уважаемый Василий Васильевич.
– Вот уж нет! – закричал вдруг Верещагин. – Нет, нет и нет! Откажусь прилюдно и со скандалом!
Теперь пришла очередь свирепеть Кауфману. Вначале он просто орал, но Верещагин тоже орал в ответ. Тогда Константин Петрович переменил тон и начал его уговаривать, но упрямый, грязный, не выспавшийся и бесконечно усталый художник упорно твердил свое. Кауфман замолчал, сдвинул брови и пошел прямо на Василия Васильевича. Верещагин примолк и начал пятиться, пока не уперся спиной в стену. И как только это случилось, генерал молча снял офицерский Георгиевский крест с собственной груди и нацепил его на Верещагина.
– Я носил его пятнадцать лет с честью и достоинством. Посмейте только снять!
2
Об этой истории поведал Жирардэ в общих чертах еще за обедом: подробности Скобелев узнал от самого Василия Васильевича позднее, когда они и вправду подружились. Но и услышанного сейчас было достаточно, чтобы обозвать себя дураком и надуто слушать нравоучения достопочтенного мэтра.
– Простите, мой дорогой, но как вам могла прийти в голову идея какой-то странной дуэли в полной темноте? Шутка весьма дурного вкуса, о чем его высокопревосходительство и уведомил вашего батюшку в специальном послании. Ваш батюшка написал ответное письмо, которое зачитал мне.
– И что же он пишет? – угрюмо поинтересовался Скобелев.
– Он просит его высокопревосходительство не держать вас более в Ташкенте, а командировать в отряды, действующие против номадов[19]. А матушка просила справиться о вашем здоровье и питании. Кроме того, она прислала вам посылку…
В посылке из отчего дома оказалось и отцовское вложение: бутылка отменного коньяка, что весьма обрадовало беспутного сына. В тот же вечер, едва проводив месье Жирардэ до снятого им номера в гостинице, ротмистр сунул завернутую в бумагу бутылку под мышку и отправился разыскивать Василия Васильевича.
Верещагин встретил его в изрядно перемазанном красками халате, но, видимо, со сна, а не от мольберта, и потому выглядел несколько недовольным, сказал:
– А!..
– Вот именно, – проворчал Скобелев и поставил на заваленный рисунками стол заветную отцовскую бутылку. – Давай мириться, Верещагин. Я был свински не прав.
– Мириться готов, только не за этим столом, – Василий Васильевич первым делом переставил бутылку, мгновенно оценив ее. – Неплохой коньячок нам предстоит, ротмистр. Правда, пить придется из кружек. Это тебя не слишком огорчит?
– Было бы что пить.
– Тут мы с тобой сходимся, – Верещагин притащил две солдатские кружки, кое-какую снедь и расположил все это на измазанной засохшими красками какой-то подставке. – Закуска, конечно, не ахти, но ты уж извини вольного художника.
Он сам деловито открыл бутылку, плеснул в стаканы.
– Ну?
– Прощаешь?
– Я, Мишка, искренность превыше всех качеств человеческих ценю, потому как Россия врет. Врет вся сплошь и сплошь беспардонно, привычно и равнодушно.
Они со вкусом выпили, со вкусом закусили. И только после этого Скобелев спросил:
– А где твой офицерский Георгий?
– Где-то в ящике валяется.
– Зачем же? Я свои ношу. Вот этот – Датского Королевства, а этот пожалован мне королем Сардинии.
– На мундире ордена смотрятся. А на блузе художника – извини, вроде блямбы не по чину.
– Надо по второй винной порции принять непременно, – вздохнул Скобелев. – Разговор – как на светском рауте. А мне хотелось бы по душам.
– Ну, давай по душам.
Приняли по второй и почему-то замолчали. Потом ротмистр спросил, не весьма, впрочем, уверенно:
– Ты знал, что смел до отчаянности?
– Знал? – Верещагин пожал плечами. – Нет. Скорее, наоборот. Я в детстве темного леса боялся. Особенно когда кругом – одни матерые ели. И – ветер. А они шумят и лапами машут.
– А в рукопашной как же? Там ведь не лапами, там саблями машут. А о тебе вон солдаты легенды складывают.
– Там – другое, там лица видны. Знаешь, я совершенно отчетливо помню свирепые, перекошенные какие-то рыла. Помню красные отблески пожаров на солдатских штыках и до сей поры слышу хриплые, сорванные крики офицеров, подававших команды. И, поверишь ли, какой-то голос будто шептал мне: «Ты не погибнешь. Ты все запомнишь, что увидишь, и нарисуешь потом в своих картинах».
– А что же тогда, по-твоему, воинская храбрость?
– Храбрость?.. – Верещагин снова пожал плечами, что было его любимым жестом в затруднительных обстоятельствах. – Что-то особо яростными храбрецами мне не показались. По-моему, тот, кто ярость и злобу свою сумел волею своей в себе подавить, кто и в бою ума не теряет, только тот воистину храбр. Мне, Миша, отец в детстве еще про деда твоего рассказывал, как он в атаку полк за собою вел в битве под Бородином. Ведь не темная же ярость его вела? Как считаешь?
– Не знаю, что тебе и сказать… – Скобелев неуверенно улыбнулся. – У нас на Руси издавна храбрость да отвага воинская превыше всего ценятся. Может, об этом он думал? Он же все уже доказал, и себе, и всем. Полк уж догнал его, дед ранен был, а все равно бежал. Не потому ли он, уж обессилев, уж еле на ногах держась, на врага бежал, что о своем же будущем думал? О сыновьях, обо мне.
– Мистика какая-то.
– Может, и мистика, а только отец у меня – генерал, я Академию Генерального штаба закончил, карьера впереди, если сам ее не испорчу. А ведь – крестьянский внук, Вася. Мои сестры – тоже, естественно, внучки крестьянские – и того больше. Одна – графиня, вторая – княгиня, а третья аж за герцога Лейхтенбергского замуж выходит. Не об их ли счастье дед мой Иван Никитич думал, когда, кровью истекая, искалеченным на противника бежал и бежал?.. Вот о чем я иногда задумываюсь, а это очень опасно, потому что военный человек только над картами задумываться должен.
– Над картой или над картами, гусар? – улыбнулся Василий Васильевич.
– Как над теми, так и над другими! – рассмеялся Скобелев. – Наливай, Вася, добрый коньяк кровь полирует…
Отполировали кровь полукружечками, помолчали. Потом гость сказал задумчиво: