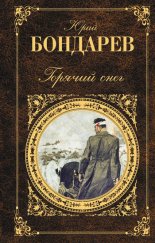Девушка с приветом Нестерова Наталья

Умные люди учатся на чужих ошибках, я повторяю собственные. Поддалась уговорам Бабановых, на время их отпуска взяла годовалого пуделя Приветика. Конечно, дело хозяев кличку щенку выбирать. Разве Бабановым могло прийти в голову, что их карликовый пуделек возомнит себя гончим псом, что он станет удирать во время прогулок, а я носиться за ним в леске у Кольцевой дороги и вопить:
– Приветик! Привет!
Из кустов будут вылезать бомжеобразные личности и тянуться ко мне:
– Здорово!
И у местных собачников я приобрету гордое имя Девушка С Приветом.
Ведь у меня уже был опыт с предыдущей собакой семьи Бабановых – эрделем Баклажаном, сокращенно – Баком. Обиду на хозяев-отпускников Бак вымещал на моем ковре. На прогулках нюхал цветочки и проверял содержимое мусорных баков. А то, что от него требовалось, совершал исключительно в центре комнаты. Ирина уверяла, что Бак питал ко мне горячую собачью любовь.
Действительно, ему нравилось после обеда вытирать бороду о мою юбку.
* * *
– Гуляем на поводке, – предупредила я собачку. – Без фокусов. Сорок минут – и ни секунды больше.
Приветик сделал вид, что согласился, и радостно завилял хвостом.
Едва мы вышли из подъезда, он повел себя как выпускник цирковой школы: встал на задние лапки, передние трогательно поджал, мордочку наклонил в сторону и тихо заскулил: отпусти, мол, буду вести себя хорошо. Я ему поверила.
Привет носился между деревьев и по полянке, призывал других собак поиграть, но сытые городские псы быстро уставали, ложились на землю и тяжело дышали, высунув из пасти языки. Приветик мчался дальше в поисках новых друзей. Я трусила за ним.
Между Ореховым бульваром, на котором я живу, и Окружной автомобильной дорогой находится пострадавший от близости новостроек лесок. Он представляет собой овраг, на дне которого течет речка, на карте обозначенная как Городня, а местными мальчишками прозванная Речка-Вонючка. Второе имя, пожалуй, более точное.
Во время очередных кульбитов в воздухе Приветик неудачно приземлился на склон и кубарем покатился в речку. Я бросилась за ним: чего доброго, свалится в воду и захлебнется.
– Приветик! Приветик! – кричала я, набирая скорость на спуске.
По берегу шел мужчина в джинсах и ветровке. Услышав мои возгласы, он недоуменно остановился, развернулся, на секунду замешкался, а потом обреченно развел руки для приветственного объятия – решил, что я к нему лечу, руками размахиваю, чтобы на шею броситься.
Так и получилось – я споткнулась и лбом врезалась ему в грудь. Еще не успев освободиться от чужих рук – горазды все-таки наши мужики с кем попало обниматься, – из-за плеча «знакомого» я увидела, что Приветик благополучно выбрался на противоположный берег и стал отряхиваться. А в следующую секунду я снова завопила: на нас мчался со свирепым лаем огромный черный чемодан – ризеншнауцер. Я выскользнула из объятий, быстро развернула мужчину спиной к себе и спряталась за ним. Инстинкт самосохранения напрочь отшиб чувство человеколюбия, и, чтобы «знакомый» не удрал, я так крепко вцепи лась в его куртку, что застежка-молния на груди вот-вот могла разъехаться. И все это время я истошно визжала от страха.
Не знаю, как у других женщин, но у меня во время истерического визга способность трезво мыслить не пропадает. Однажды, увидев мышь на своей кухне, я с криком вскочила на стул и, пока верещала, успела подумать, что мордочка у мышонка в общем-то симпатичная, а у стула, на который я запрыгнула, подгибается ножка. Сейчас, надрывая голосовые связки, я прикидывала, успею ли броситься за помощью, пока пес будет грызть этого несчастного.
– Молчите окончательно, пожалуйста! – велел мужчина, слегка повернув лицо ко мне.
Я не успела подумать о странности формулировки приказа, как он снова скомандовал:
– Рэй! А лугар! Сьентате![1]
Или что-то в этом роде, то есть не по-русски. Ризеншнауцер затормозил и сел. Он продолжал рычать и показывал мне зубы, приподняв верхнюю губу. Батюшки! Что это были за зубы! Они бы с легкостью, одним клацаньем, размозжили не только лучевую, но и большую берцовую кость. Набрасываться на живой щит пес не собирался.
– Это моя собака, – заявил щит, – она вас не тронет. Спокойно! Свои! Спокойно! – велел он черному чудовищу. – Вы бы не могли отпустить меня немного? Потому что Рэй предполагает некоторую опасность для меня.
– Он предполагает? – пробормотала я, с неохотой выпуская из рук ткань куртки. – Больше он ничего не предполагает? Он сегодня завтракал?
– Конечно. Вы были бы очень любезны стать со мной рядом, чтобы он не нервничал.
– Ни за что, – сказала я, рассматривая из-за спины собачьи клыки. – Возьмите его на поводок, наденьте намордник и свяжите ноги. Двигайтесь!
– Ноги я связывать ему не могу, – ответил мужчина.
Прибежал Приветик и стал весело размахивать хвостом, кружиться вокруг ризеншнауцера, предлагая ему поиграть. Черная псина не обращала на пуделя внимания, только пялилась на меня и грозно рычала.
– Приветик, Приветик, иди сюда, дорогой, – громко зашептала я.
Волкодав мог проглотить пуделька не поперхнувшись.
– Но я уже здесь. – Мужчина сделал попытку развернуться. – Мы с вами были знакомы прежде?
– Нет, черт подери, – шипела я. – Не вертитесь! Приветиком зовут мою собаку. Усмирите, наконец, своего монстра!
– Рэй – очень умная и верная собака, – сказал обиженно мужчина, шагнул к своему псу и взял его за ошейник.
Я подхватила Приветика на руки. Хотела было посоветовать владельцу Рэя выгуливать собаку в клетке на колесиках, но, вспомнив, что еще минуту назад бросилась на шею этому человеку, а потом подвергала его жизнь риску, только возмущенно пожала плечами, фыркнула и пошла прочь.
– Больше не допросишься, – твердила я Приветику, – не спущу с поводка, даже если заговоришь человеческим голосом.
Пес радостно колотил грязным хвостом по моей куртке, норовил подпрыгнуть и лизнуть мой нос.
Конечно, я опоздала. Тетя Капитолина стояла у входной двери. Ключ от моей квартиры лежал у нее в сумке, я тысячу раз призывала тетушку пользоваться им. Бесполезно. Запасной ключ, как и любые другие предметы, имел у тетушки четкую инструкцию применения. Во-первых, им можно воспользоваться (после продолжительной нотации), если я потеряю свой ключ. Во-вторых, если я буду лежать дома в бессознательном состоянии (но предварительно должна позвонить и сообщить об этом). В-третьих, запрет снимается при явлениях катастрофического характера – дыма или воды из-под двери квартиры. Во всех остальных случаях открыть замок своим ключом – значит вторгаться в мою личную жизнь Иное дело – воскресные инспекционные проверки, на которые она тащилась ко мне в любую погоду через весь город. Они под определение вторжения в личную жизнь не подпадали.
Кроме племянницы, то есть меня, у тети Капы не было близких родственников в Москве. Ее сын Женя вместе с женой Леной и внуком Артемом десять лет назад уехали в Америку. В аэропорту, когда мы их провожали, Лена отвела меня подальше, кивнула в сторону свекрови и торопливо зашептала:
– Скажи ей, чтобы и не вздумала нас навещать в ближайшие пять лет! Если решит перебраться к нам, я увезу свою семью в Антарктиду! Господи, неужели мы от нее избавились?
Я согласно кивнула. Лену можно понять.
Тетя Капа своими нравоучениями святого доведет до бешенства.
Тетя Капа – добрейший человек. Но доброта ее до крайности конструктивна: желая улучшить жизнь людей, тетушка их постоянно учит и наставляет. У нее сформировались правила поведения по каждому акту человеческого бытия. Я бы не удивилась, услышав от нее рекомендации о том, как правильно открывать глаза утром и закрывать на ночь.
Чтобы полюбить мою тетушку, нужно основательно хлебнуть горя. Тогда она примчится, осушит в два приема болото, в котором ты захлебнулся, сделает тебе искусственное дыхание, промывание желудка, а заодно и мозгов.
– Это бабановская собачка, – начала я говорить, еще поднимаясь по лестнице. – Она грязная, потому что провалилась в речку, я ее сейчас вымою, меня попросили только на две недели подержать ее, блох у нее нет, очень приветливая, даже имя соответствующее.
Я тараторила, чтобы не дать возможности тетушке начать отчитывать меня с первых же минут. Но, как всегда, просчиталась.
– Здравствуй, Юлия! Почему ты не поздоровалась? Это невежливо. Я родной человек, но подобная небрежность может произвести плохое впечатление на других.
– Ой, извини, тетя, здравствуй! Я тебя не целую, потому что выпачкалась вся.
– Ты уверена, что собака не подхватила инфекцию в речке? Ее необходимо обработать антисептиком.
Тетушкина чистоплотность граничила с патологией. Влажную уборку в своей квартире она делала ежедневно, кухня у нее походила на операционную, а кафель в ванной сверкал так, что можно было обходиться без зеркала.
Пока я купала Приветика, тетя Капа обошла мою квартиру.
– У тебя был Анатолий, – заключила она. Диван сложен, постель убрана, мусорный пакет с окурками и пустой бутылкой от шампанского я выбросила, коробку от шоколадных конфет тоже – как тетушка догадалась?
– Ты просто воплощенная мисс Марпл, – усмехнулась я. – С чего ты взяла?
– Я совершенно нормальная, а не воплощенная. Все мужчины пахнут.
– Да? – поразилась я. – Все одинаково? Ты помнишь мужской запах? Тетя Капочка, тебе скоро семьдесят, воспоминания о мужских благовониях будят в тебе былые страсти?
Моя тетушка напрочь лишена чувства юмора. Может быть, когда-то оно у нее и было, я того периода не застала. Тонкая ирония была ей не доступна, а если она видела в кино, что человек садится мимо стула или кому-то в лицо летит торт, то думала о возможном переломе копчика или возмущалась безобразным отношением к труду кондитера. Легкая насмешка была лучшим орудием против нападок тетушки: она терялась из-за неспособности взять в толк, над чем насмехаются, и сбивалась с колеи праведных сентенций.
– Перестань говорить глупости, – сказала тетушка. – Все мужчины пахнут одинако во – одеколоном и тамбуром электричек. Значит, твои отношения с Анатолием продолжаются?
– Ага. Что ты мне принесла? – Я принялась копаться в ее сумке. – О, мидии! Обожаю. Сейчас мы с тобой перекусим.
– Не знаю, почему тебе нравятся морские гады. Но ты, надеюсь, завтракала? Ела кашу? На голодный желудок это… Как ты открываешь банку? Надо сначала…
– Постелить на стол полотенце, – прервала я ее и стала перечислять, – вымыть консервы под краном, высушить. На полотенце положить разделочную доску, сверху банку, достать консервный нож… Тетя, я это слышала миллион раз. Видишь, здесь специальная петелька? Одно движение руки – и готово, открыла.
– Не смей лезть пальцами в банку! Положи на тарелку.
Мои плохие манеры не надолго отвлекли тетушку от волнующего вопроса.
– Объясни мне, почему ты с ним не расстанешься? Я хочу знать.
– Я сама хочу.
– Чего хочешь?
– Хочу знать, чего я хочу.
– Ничего не понимаю.
– Вот и я о том. Ничего не понимаю. Но как только пойму, сразу сообщу тебе. А может, женить его на себе, теть Кап? Только у него уже есть жена. Ее, конечно, можно убить. Отравить, например. Я в одном детективе вычитала потрясающий способ. Варится грибной суп, подается на стол. Жертве незаметно подсыпается порошок из бледных поганок. И все шито-крыто. Тетя, собери мне летом бледных поганок, ладно?
– Что ты такое говоришь, Юля? – Тетушка ошеломленно уставилась на меня. – А дети?
– Детей тоже отравим, чтобы алиментов не требовали.
– Ты шутишь, – наконец догадалась тетя, – подобные шутки вульгарны. Хорошо, ты не хочешь говорить о своей личной жизни. Я не буду вмешиваться, но хочу, чтобы ты знала мое мнение. Анатолий – бабник, то есть человек лживый и двуличный.
– Почему сразу «лживый»? – огрызнулась я.
Это была ошибка. Если слова моей тети подвергнуть сомнению, то в ответ получишь развернутую аргументацию для бестолковых.
Тетушка разразилась монологом: мужчина, который обманывает одну женщину, обманет и вторую, и триста двадцать третью, ему ничего не стоит залезть в карман товарищу, ограбить банк, забрать игрушку у ребенка или стать политическим деятелем.
Из заурядного адюльтерщика тетя Капа вывела фигуру мирового злодея. В качестве его по собника я выглядела не краше. Тетушка добилась-таки своего: у меня пропало желание ее дразнить.
Почему я не расстаюсь с Анатолием? По той же причине, по которой тысячи женщин живут с нелюбимыми мужьями – значит, им это почему-то нужно. Почему – может ответить психотерапевт. После задушевных бесед объяснит, что ваши комплексы и комплексы вашего избранника монтируются, складываются, как фигуры детского конструктора. В итоге получается уродливое сооружение, но вам оно милее, чем детали россыпью в коробке на пыльных антресолях.
За консультацией к психотерапевту я не обращалась – не хочется получить диагноз нимфоманки. А вы попробуйте послать к чертовой бабушке человека, который с восхищением смотрит на вас бархатными темно-зелеными глазами, чувственная улыбка дрожит на тяжелом мужественном подбородке, а низкий завораживающий голос шепчет:
– Я постоянно ищу твои черты у других женщин. Иногда кажется, что встречаю тебя на улице, бросаюсь вслед, но это не ты. Я люблю придумывать тебе ласковые имена. Ты – мой светлый хрустальный ветерок, мой легкий многоцветный одуванчик, моя нежная перламутровая змейка. Я ищу слова для твоих губ, рук, шеи. Руки твои я буду сегодня звать лебедушками, а губы – медовыми лепестками.
Попробуйте выставить за порог человека, который заявляет, что время для него делится не на день и ночь, недели и месяцы, а на свидания и разлуки с вами. Каждое мгновение встречи запечатлевается в его памяти, он наслаждается, дышит им, как дышит чахоточный кислородом из баллона.
Баллона обычно хватает на неделю-две.
Потом Толик снова появляется и снова бинтует мое сознание липким пластырем нежных слов и комплиментов. Того количества любовных признаний, которое я получила от него за пять лет, хватило бы дивизии старых дев на долгие вечера воспоминаний.
У Анатолия – дар объясняться в любви, природная способность; она, может быть, единственный его талант. И он оттачивает на мне свое мастерство. И в то же время я безоговорочно верю Толику, когда он говорит, что я его вдохновляю, заряжаю энергией и зову в полет его творческую фантазию.
Из моих дверей Толик выпархивает свежий и бодрый. Прямо в лоно родной семьи. Готовый терпеть занудство жены, воспитывать неблагодарных детей и создавать живописные шедевры на спичечных этикетках и почтовых конвертах.
* * *
Тетя Капа, удовлетворенная моим хмурым видом, решила закрепить успех. Она переиначила известную фразу и нанесла сокрушительный выпад:
– Он меняет женщин как презервативы!
Я уставилась на нее и ошарашенно хмыкнула:
– А меня в вульгарности обвиняешь.
– Повторяю: я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь, – заявила тетушка после того, как полчаса полоскала в щелочи моего любовника. – Я намерена поговорить о твоей работе, о том, что тебе пора задуматься о своей карьере.
Час от часу не легче. На этом фланге мне вообще нечего выдвинуть в свою защиту. И шуточки не помогут.
После института я пришла работать в травмпункт. Мама тяжело болела, умирала от рака. Мы с тетушкой по очереди дежурили у нее, поэтому режим работы в травмпункте меня устраивал. Да и работником я тогда была неважным – беспомощность и горечь предстоящей утраты раздавили мое сознание. Я жила механически, как заводная кукла. Сил душевных хватало лишь на то, чтобы скрывать мрак и отчаяние, которые удавкой стягивали горло. Мама умерла, еще полгода я приходила в себя, пыталась свыкнуться с потерей. Потом появился Анатолий, и мы, как в батискафе, отгородившись от всего мира, опустились на морское дно нашего замечательного романа. Так я застряла в травмпункте на пять лет.
Всего у нас работало шесть хирургов. Для троих это была халтура, они оперировали в нормальных клиниках, а в травмпункте зарабатывали «прибавку к жалованью». Ольга Козлова хронически беременела: то рожала, то переживала выкидыши – для нее самым удобным местом службы и был травмпункт.
Петя Карачинцев давно и основательно спивался, и никуда, кроме нашей богадельни, его бы не взяли. Я не была отягощена семьей, не страдала от пьянства и других пороков, но прозябала в травмпункте, где никакого профессионального роста быть не могло. Переломы да вывихи с утра до вечера. Если случай сложный – направление в больницу, а мы знай отмечаем потом больничные листы.
Но я постоянно пропадала на работе – то у Оли угрозы выкидыша, то Петя запил, то у коллег срочная операция и их надо подменить. Каждая неделя была у меня крепко сбита своими и чужими дежурствами, а к выходным обнаруживалось, что на следующей неделе меня ждет та же картина. Мои переработки не выдерживал никакой табель, брать деньги за отработанное время было неловко, а если бы я когда-нибудь вздумала взять отгулы, то отдыхала бы полгода.
– Я разговаривала с Моней Якубовским, – заявила тетушка. – Это он для меня Моня, я его помню зеленым ординатором. А для всех он Соломон Моисеевич, видный хирург-гастроэнтеролог. В новой больнице на Юго-Западе открывают отделение эндоскопии. Ты знаешь, что это такое? Знаешь, – кивнула тетушка и тут же принялась пояснять: – Полостные операции по удалению желчного пузыря или аденомы простаты заменяют небольшими разрезами, в которые вводят специальные зонды с разными насадками. За ходом операции следят по экрану компьютера. Резко сокращается травматичность, небольшой послеоперационный период, мало осложнений…
Пока тетя Капа объясняла мне очевидные вещи, я думала о том, что она второй раз в жизни ради меня жертвует своими принципами и использует личные связи.
В первый раз это случилось, когда я получила тройку за сочинение по русской литературе на вступительных экзаменах в медицинский институт и недобрала, таким образом, одного балла. Разгневанная тетя Капа ворвалась в кабинет ректора и принялась его отчитывать:
– Вы почему девочку провалили из-за запятых в стихах Маяковского? Что Маяковский смыслит в медицине? Юля с малых лет ухаживает за матерью-инвалидом. Она играла всю жизнь только в больницу. Вы знаете, что она в детстве по помойкам шлялась? Не знаете, так я вам скажу! Она искала сломанные куклы и другие игрушки, чтобы их лечить. Она всем старухам в их коммуналке уколы делает, она…
– Капитолина Степановна, – попытался встрять ректор, который прекрасно знал мою тетушку. – Кто такая эта Юля?
– Моя племянница! Кто же еще? Если вы думаете, что я использую свое, то есть ваше, то есть наше с вами, служебное положение, то ошибаетесь.
– Почему же вы раньше не сказали, что ваша племянница поступает в этом году? – упрекнул ректор.
– А почему вы идиотов учите, которые скальпель от ножниц отличить не умеют? – парировала тетя Капа.
Она работала хирургической сестрой в клинике при мединституте, и ее побаивались даже врачи, не говоря уже о молоденьких сестрах, которых тетя Капа муштровала как ефрейтор солдат.
– У девочки пальцы замечательные, – продолжала аттестовать меня тетушка, – легкие, точные, и сила в руках есть. Это вам не биндюжники, которые приходят на операцию с похмелья и в перчатки попасть не могут. Конечно, Юля выглядит как проститутка…
– Как кто? – оторопел ректор.
– Проститутка, – подтвердила тетя Капа. – Юбка короткая, волосы распущенные – срамота. И еще красотка, каких свет не видывал. Волосы белые, глаза синие, брови черные, ресницы как наклеенные. А что нам делать, если отец у нее был кавказской принадлежности? Но она еще ни с кем не целовалась – это я точно знаю. Да и когда ей, спрашиваю я вас?
– Не знаю, – честно признался ректор.
– А я знаю! Она с восьмого класса все каникулы санитаркой в больнице работает. Это вам не запятые в стишках расставлять.
– Капитолина Степановна, как фамилия вашей племянницы?
– Такая же, как у меня, – Носова. Я несправедливости по отношению к этому ребенку и ко всей медицине не потерплю! Я пойду к министру! Пусть он сам попробует сочинение без ошибок написать!
– Не надо ходить к министру, – сказал ректор, и меня приняли.
* * *
Вот теперь тетя Капа составила мне протекцию в перспективное хирургическое отделение большой больницы. И рисковала больше, чем когда устраивала племянницу с сомнительной внешностью в институт.
Все мои однокашники уже либо выбились в специалисты, либо продемонстрировали серость и бездарность. Объективно я попадала во вторую категорию.
* * *
Заведующего отделением, к которому я по рекомендации Мони Якубовского должна была явиться, звали Сергей Данилович Октябрьский. Невысокого роста, коренастый, широколицый и курносый, он походил на селянина-комбайнера, тракториста – труженика полей. Но никак не на рафинированного столичного хирурга.
Я пришла в назначенное время и прождала Октябрьского почти два часа. Нет, он не отсутствовал, просто занимался своими делами, а мне небрежно велел посидеть в холле.
Мимо меня сновали медсестры, ходили врачи, шаркали тапочками по линолеуму больные. А я сидела. Как назло, не догадалась взять книгу или газету. Оставленную кем-то программу телевизионных передач прошлой недели изучила вдоль и поперек.
За время унизительного ожидания я пережила смену эмоциональных состояний сродни физическим изменениям у снежка, брошенного на сковородку. Сначала зябла и дрожала перед собеседованием. Потом растопилась от жалости к себе: жизнь представлялась неудавшейся по всем статьям. Я люблю детей, но их у меня нет. Мне нравится моя профессия, но чувствую себя краснодеревщиком, который застрял в мастерской по производству кухонных табуреток. У меня нет семьи, мне не о ком заботиться, и даже собаки в моем доме – чужие и временные.
Если бы Октябрьский в момент этих внутренних стенаний пригласил меня в кабинет, то я бы, наверное, разрыдалась перед ним и стала слезно умолять дать шанс исправить загубленную жизнь.
У меня есть верный способ прекратить припадки самобичевания и сетований о горькой доле – воспоминания о маме. По сравнению с тем, что ей довелось пережить, любые несчастья кажутся детскими огорчениями. А моя тетушка? Ей тоже жизнь отпустила немало ударов, но синяков на ней никогда не было. В нашем роду женщины отличаются завидной волей и мужеством.
Неужели кровь мифического отца разбавила доставшуюся мне по наследству стойкость и силу воли? Дудки!
Я разозлилась. Кажется, даже покраснела от негодования, только не шипела, закипая. Октябрьский отправился пить чай с тортом – у одной из медсестер был день рождения, она дважды заглядывала к нему в кабинет, я слышала уговоры.
Хам! Он мог заставить меня ждать, когда уходил на обход, потом на консилиум, он мог даже принять еще пятерых посетителей – ладно, возможно, их проблемы поважнее моих. Но чаи распивать, зная, что я второй час томлюсь в ожидании и сижу глупой куклой на виду у всех! А как он поглядывал на меня, проходя мимо? Как на дозревающую кандидатку в любовницы – еще немного помучаю ее холодностью, и она бросится мне на шею. Не дождешься, козел усатый!
Я решила досчитать до десяти, успокоиться, потом достойно, медленно подняться – спектакль исключительно для дежурной медсестры у поста – и уйти. На счет «восемь» Октябрьский появился и, стряхивая крошки с щетинистых рыжих усов, бросил мне:
– Ну ладно, пошли.
Это звучало так: «Любой нормальный человек давно бы понял, что он здесь не нужен, но если ты такая бестолковая, придется тебе объяснить».
«Мы еще посмотрим, кто здесь бестолковый», – сказала я про себя.
Кабинет Октябрьского представлял собой свалку, в которой заботливая рука каждый день вытирает пыль, не смея тронуть ни единой бумажки. Я уселась в кресло у его стола без приглашения. Сергей Данилович рассматривал мой «Листок по учету кадров», стародавний, советский, в котором я должна была указать свою партийность и признаться, не проживала ли на оккупированных территориях во время войны.
– Юлия Александровна Носова, русская, – хмыкнул он. – А я думал, Моня только своих присылает. Впрочем, диагноз не окончательный. – Это он сказал, разглядывая мое лицо.
Я уже давно никому не объясняю, что блондинка я природная, а не крашеная, каштаново-черные брови и ресницы – игра генов, а не мои ухищрения. Как-то в институте на лекции по генетике преподаватель, втолковывая о доминантных и рецессивных генах, заявил: как у кареглазых родителей не может родиться голубоглазое дитя, так и плод любви жгучего брюнета и блондинки не может иметь часть волосяного покрова темного оттенка, а часть светлого. Аудитория дружно уставилась на меня. Наука оставила мне два варианта – прослыть обманщицей или признать, что я мутант.
Но нас, мутантов, на кривой козе не объедешь и голыми руками не возьмешь.
– Вам, положим, с фамилией тоже не повезло, – сказала я, ухмыляясь прямо в лицо Октябрьскому.
– Почему? – удивился он.
– Детдомом отдает.
Октябрьский издал утробный звук, при некотором напряжении фантазии – одобрительный. Хотя, возможно, то была отрыжка от именинного тортика.
– Травмпункт, – читал он, – пять лет. И чего ты там торчала?
Трудовая книжка появилась у меня в четырнадцать лет, когда стала подрабатывать санитаркой, чтобы помочь маме. Но в анкете о долгом производственном стаже я не упомянула.
– Любовь, наверное? – издевался Октябрьский. – Страсти-мордасти?
Я знала подобный тип врачей. Со всеми они на «ты», во время операции матерятся, пациенты их любят и трепещут. Как же! Грубый, самоуверенный, командует моим здоровьем, значит – вылечит. Слабые, больные, выбитые из привычной колеи люди теряют присутствие духа и хотят кому-нибудь довериться, вручить себя под чью-нибудь ответственность. Но я не пациент! А этот нахал даже не нашел нужным извиниться – не перед коллегой, не перед ординатором, но перед женщиной!
– Любовь, – подтвердила я, глядя ему прямо в глаза. – Образовалась группа мужчин, которые специально ломают кости, чтобы оказаться у меня на приеме. Опасаюсь за их здоровье. Переломы стали плохо срастаться. Решила поменять место работы.
– Ехидна! – заключил Октябрьский.
– Простите, – смиренно произнесла я, – сразу видно, что вы-то воспитывались в Пажеском корпусе.
– Ты не очень тут! – Сергей Данилович погрозил мне пальцем. – Мне блатные и смазливые дуры в отделении не нужны!
– Почему вы это прямо не сказали Соломону Моисеевичу?
– Потому что он хирург милостью Божьей, а в людях совершенно не разбирается, осел синайский. Почему ты не замужем и детей нет? В двадцать восемь лет! – Октябрьский потряс в воздухе моей анкетой. – С такими-то ножками! У тебя же от мужиков отбоя нет. Мне шлюхи здесь не требуются, тут не публичный дом.
– Тогда я вам точно не подхожу, – зло прошипела я и поднялась. – Надо же, как быстро меня раскусили! Сразу видно, что в людях разбираетесь. Иными словами, осел отнюдь не синайский. Ваша прозорливость диарею вызывает. Диарея – это понос, если не знаете. Сейчас мне срочно необходимо воспользоваться вашим туалетом.
Мне наплевать, что обо мне подумает хамоватый мужлан Октябрьский. Ясно – мне здесь не трудиться. И черт с ним. Сейчас главное – быстренько смыться, чтобы последнее слово осталось за мной. Но я не успела.
– Ну-ка, вернись, пигалица. – Голос Октябрьского остановил меня у дверей. – Сядь на место и не дерзи.
Говорил он грубо, презрительно, но усищи свои нервно поглаживал.
– Думаешь, уела меня? Кукиш! – Он действительно показал мне кукиш. Последний раз такое со мной было в детском саду. – Привыкла в травмпункте язык распускать. Ты там клизмы ставила да занозы вытаскивала и хочешь, чтобы я тебя сейчас с распростертыми объятиями принял? Прямо к операционному столу подвел?
Я дипломатично молчала. Октябрьский это оценил.
– У меня команда, – он немного понизил голос и уже не орал, – команда из отличных ребят. Они же волки молодые! Им течную суку в стаю – и все, пиши пропало, работа насмарку, интриги, страсти и еще хрен знает что.
Я так прикусила язык, что впоследствии он мог распухнуть – и тогда питаться мне одной манной кашкой! Силилась молчать и молчала, но по лицу моему явно было видно, что я едва сдерживалась.
– Чего ноздри раздуваешь? – Октябрьский откинулся на спинку кресла. – Правильно, молчи в тряпочку, когда начальство говорит.
Он у меня уже начальство! Сейчас я ему отвечу! Нет, заряд злости стремительно испарялся. То ли Октябрьский усмирил меня, то ли на языке находятся нервные окончания, тормозящие возбуждение. А может, вернулась способность мыслить логически и я поняла, что Октябрьский меня не выставляет за порог. Последние слова Сергея Даниловича восприняла едва ли не со всхлипом благодарности.
– Выходи на следующей неделе. Или когда там разберешься со своими вывихами-переломами. Но учти! Начнешь с самого низа. Лоб ведущему хирургу салфеткой будешь обтирать. И чтоб без всяких жалоб! А там посмотрим. Иди. Туалет через две двери, опорожни свой кишечник.
Я ни слова не ответила, только склонила в благодарности голову – совсем как Приветик, когда клянчил что-нибудь. Взгляд у меня тоже, наверное, был по-щенячьи радостным.
* * *
По дороге домой я пыталась разобраться в смятенных чувствах. Все-таки обиды на Октябрьского было меньше, чем радости от раскрывшихся перспектив. Предчувствия счастливого будущего превосходили уязвленное самолюбие. Впереди меня ждет новая жизнь!
Впереди меня ждал очередной одинокий вечер. Нет ничего лучше хорошей книги, старого фильма по телевизору, философских раздумий и оздоровительного медитирования – уговаривала я себя. И невольно добавляла: не хватает только пистолета, которым можно застрелиться.
От метро «Красногвардейская» до моего дома пятнадцать минут прогулочным шагом, десять – деловым и семь – трусцой. Если останавливаться у торговых прилавков, можно растянуть время до получаса. Я выяснила стоимость пучка петрушки у шести продавцов и вернулась к первому, хотя цена у всех была одинаковой. Попутно придумывала домашние дела, которые создадут видимость занятости. Позвонить тетушке, рассказать без деталей про визит к Октябрьскому – десять минут, она болтать по телефону не любит.
Позвонить Ирке Бабановой – расписать общение с будущим начальством – полчаса, плюс полчаса на ее новости. Нет, Петя Бабанов не выдержит целый час слушать Иркины «Да ты что?», «А он что?», «А ты что?», кладем сорок минут. Постирать белье, которое в данный момент надето на мне. Кажется, у меня вырабатывается маниакальный комплекс чистоплотности старой девы. Приготовить себе на ужин что-нибудь замысловатое и длительное в производстве. Запеченный картофель.
Беру клубень картофеля, тщательно мою щеткой, вытираю насухо. Оборачиваю фольгой и кладу на решетку в разогретую духовку.
Когда картофель испечется до полуготовности, достаю, делаю разрез, не снимая фольги.
В него кладу порезанную мелко ветчину, дольку помидора, кружочек лука, солю и перчу. Сверху – ложку майонеза и тертый сыр.
Снова ставлю ненадолго в духовку. Объедение! Мне вполне достаточно бутерброда с сыром и стакана чаю. Нет, нельзя распускаться, запеченный картофель – это полчаса возни на кухне.
Почему я не научилась шить, вязать на спицах или выжигать по дереву? Какие полезные занятия! Вязала бы вечерами Толику шарфики и носочки. Сегодня он не позвонит и не приедет. Вечером ведет дочь в художественную школу, а сына – на дополнительные занятия по английскому. С другой стороны, общение с Толиком наводило на мысли о старой пластинке – когда-то песня на ней казалась восхитительной, а теперь раздражала слащавой сентиментальностью. Телевизор смотреть я долго не могу. В какой-то момент у меня возникает ощущение, что если просижу еще десять минут у экрана, то превращусь в дебилку: глаза идиотски округлятся, из приоткрытого рта потекут слюни, родная речь пропадет и останется только способность внимать чужим сентенциям, ничего, впрочем, в них не понимая.