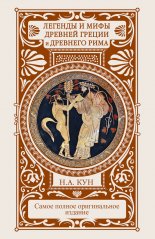Узкая дорога на дальний север Флэнаган Ричард

– Императорская японская армия снабжает нас сябу, чтобы помочь работать на империю, – подал голос Томогава.
– Да-да, – кивнул Накамура и обратился к Фукухаре: – Возьмите двадцать заключенных, отправляйтесь туда, к грузовику, и вытащите его.
– Сейчас?
– Разумеется, сейчас, – посуровел Накамура. – Надо будет – толкайте его руками до самого лагеря.
– А потом? – спросил Фукухара. – Даем им выходной день?
– Потом они отправятся и выполнят положенную на день работу на железной дороге, – сказал Накамура. – Вы на ногах, я на ногах, мы не отдыхаем.
Позывы к чесотке у Накамуры стали стихать. Член в брюках словно распирало. Это давало приятное ощущение силы. Фукухара повернулся кругом, собираясь уйти, но Накамура окликнул его по имени:
– Вы инженер. Вы понимаете, что должны относиться ко всем людям как к машинам на службе у императора.
Накамура чувствовал, как сябу обостряет его чувства, дает ему силу там, где раньше он ощущал себя слабым, решительность там, где он так часто предавался сомнениям. Сябу избавил от страха. Дал необходимую дистанцию, чтобы разглядеть свои действия. Поддерживал в нем ясность мысли и твердость.
– А если машины барахлят, – наставлял Накамура, – если запустить их в работу можно только при неустанном применении силы… тогда, что ж, используйте силу.
Клещи, сообразил он, наконец-то перестали кусаться.
9
Шедший ему навстречу человек казался громоздким наброском чего-то несуществующего, силуэтом, и к этому несуществующему Дорриго Эванс в данный момент протягивал руку, приветствуя:
– Вы, должно быть, дядя Кейт.
Полуденное солнце сияло вовсю, грузное тело загораживало свет, а голова скрывалась в битумной тени его «акубры»[37]. На вид обладателю тела было чуть больше сорока, от внешности его веяло угрозой. Что-то делало его похожим на ненадежный телеграфный столб. При этом ничто не было таким, каким виделось, все словно проглядывало сквозь старую оконную раму: искривленным, склоненным, дрожащим в волнах жары, от которой, казалось, по укатанной битумом дороге, бетонным бордюрам, пыли Уоррадейльского плац-парада, стальным полукружьям ниссенновских бараков, перед которыми и поджидал Дорриго Эванс, проходила рябь.
Оказавшись в авто своего дяди (последняя модель «Форда»-кабриолета), Дорриго Эванс сразу понял, насколько велик телом его дядя Кейт и насколько лицо его принадлежит человеку, которому, наверное, лет пятьдесят. В машине с ним находилась маленькая собачка, джек-рассел-терьер, которую дядя называл Мисс Беатрис. Собачка, казалось, затем и существовала, чтобы подчеркнуть громадность Кейта Мэлвани: широченную спину, толстенные в бедрах ноги и громадные ступни, – за которым тяжко дышащая собачонка казалась небрежно брошенным куском замши.
Было слишком жарко, чтобы курить, но он все равно курил трубку. Дым, выходя, оплетал странную улыбку, которая, как позже разобрался Дорриго, была застывшей, призванной показать, что мир веселее, невзирая на все доказательства противного, какие предъявляла жизнь. Все это могло бы и испугать, не будь у Кейта слегка писклявого голоса, напоминавшего Дорриго ломкий голос подростка. В таком голосе великого было не больше, чем в нестерпимой аделаидской жаре. Дорриго Эвансу стало понятно, что Кейт Мэлвани – это особый мир, замкнутый, и что вращается он вокруг трех солнц: гостиницы, места старейшины в местном муниципальном совете и жены.
Пока ехали до побережья, дядя сокрушался по поводу гостиничных дел, ни дать ни взять, по ощущению Дорриго, как это делают обожающие то, по поводу чего больше всего и сокрушаются. Мотористы (дядя выговаривал это слово с придыхательными свистящими «с») – это и его заработок, и его погибель.
– Эти моториссссты только и знай что скулят про туалеты и еду, а сами в один день заваливаются на вечеринку по восемьдесят человек разом, и каждый рассчитывает, что его накормят, зато на следующее воскресенье тебе дай бог повезет продать какое-нибудь афганское печеньице в два с половиной пенса. Они всегда скулят, эти моторисссты, по своим автомобильным ассоциациям да по королевским чертовым автомобильным клубам, про то, в каком состоянии у тебя туалетные комнаты да какое грязное мыло. Постоянно скулят, орава на колесах. Хуже их только разъездные торговцы. Да вот нынче такой разъездной захотел снять номер под контору для отпуска снотворного и таблеток разных видов, только, подозреваю я, тут дело в сексе.
– В сексе?
– Ну, знаешь, про то всякое, как там у женщин всё устроено, про роды и чтоб детей не было, всякая французская писанина да английские брошюрки фривольные, ну, ты знаешь, что за советы.
– Да, – проговорил племянник настолько неубедительно, что дядя почувствовал необходимость втолковать: что бы другие ни думали про «Короля Корнуолла», моральным омутом гостиница отродясь не бывала.
– Я, положим, человек широких взглядов, Дорриго, – продолжал Кейт Мэлвани, – только я не желаю, чтобы «Король Корнуолла» ославился в мельбурнской «Истине»[38] и на слушаниях в аделаидских судах как то самое место любовных свиданий в Аделаиде. Я не ханжа, мне не по нраву американские отели, где приезжих заставляют держать дверь номера открытой, если в нем находится леди, не являющаяся женой тому, кто снял номер.
– Знаешь, – сказал он вдруг, проникаясь темой супружеской неверности и проживания в гостиницах, – в Америке ты рискуешь нарваться на такое вот объявление, размещенное в твоем родном городе: «Вниманию всех, кого это касается! М-ра Х попросили убраться из «Вистерии» в Уотстории за то, что он принимал у себя в номере леди, не являвшуюся его женой». Представляешь? То есть, я говорю, сами позволяют людям встречаться в своих номерах, а потом шантажируют их такими вот объявлениями. Там отелями управляют так же, как Сталин управляет чертовым СССР.
Он продолжал разговор, перейдя к семье Дорриго, но его сведения (почерпнутые из той малости, о чем сообщал Том в поздравительных открытках к Рождеству) по большей части устарели, и лишь прыжок Мисс Беатрис на свистящий поток воздуха, из-за чего она чуть не вывалилась за окошко, спас дядю от постыдного замешательства, когда выяснилось, что мать Дорриго умерла. Он сидел в машине, подавшись вперед, навалившись на руль, точно сваленный вихрем ствол дерева, крупные руки без конца ходили вверх-вниз по рулевому колесу, словно оно было хрустальным шаром толкователя судеб, а он вечно выискивал что-то на протяженных, прямых, ровных дорогах Аделаиды, какую-нибудь иллюзию, которая, возможно, помогла бы ему жить.
Увы, движение на шоссе было редким и – ничего, кроме прямоты, ровности да искажающих все колебаний воздуха от жары. Кейт Мэлвани говорил без умолку, будто боялся, что повиснет молчание или что Дорриго примется о чем-то расспрашивать, а потому сам задавал Дорриго вопросы, на которые сам же сразу и отвечал. Очень часто разговор возвращался к битве, которую он как старейшина вел в местном совете, по поводу предложения мэра устроить систему канализации. Дело кончилось тем, что Дорриго принялся глазеть в окошко, высунув вспотевшую руку под поток воздуха снаружи, а дядя Кейт, не обращая внимания на столь явное отсутствие интереса, продолжал задавать вопросы, на которые сам тут же и отвечал, причем каждый ответ сопровождал улыбкой, которая, казалось, не допускала никакого несогласия. Время от времени, наподобие соло кларнета, звучало в речи дяди имя Эми.
– Современная женщина. Очень современная. В приличной форме. Работает как зверь. Впрочем, война. Сейчас все по-другому. Она все рушит, эта война. До войны такого и не видели. Так ведь?
– Видите ли…
– Нет, думаю, не видели. Блицкриг не только до Лондона добирается. Нет. То, что еще год назад вызывало скандал, нынче никто лишний раз и вспоминать не хочет. Я человек современный. Но я так признателен, что у меня какая-никакая, а семья есть и я могу держать жену в приличной компании.
Несмотря на застывшую улыбку, дядя казался совершенно жалким.
– Она тут вечер провела с рыжеволосой одной, Типпи зовут. Не выношу ее.
– Типпи?
– Ну да, Типпи… знаешь ее?
– Видите ли…
– Я тебя умоляю! Это ж имя для волнистого попугайчика. А у меня эта чертова муниципальная конференция, и мне уехать придется на ночь. В Гоулер, несколько часов езды. Нынешним вечером. Такая жалость, что я не смогу с тобой побыть. Неожиданно получилось: мэру нужно, чтобы я представлял нас. С чего?
– По-видимому…
– Понятия не имею с чего. Во всяком случае, Эми о тебе позаботится. И, буду откровенен, я рад, что ты присмотришь за Эми. Не возражаешь? – Ответ значения не имел, и в конце концов Дорриго бросил отвечать. – Что сказать, уверен, ты хотя бы немного отдохнешь, – говорил Кейт Мэлвани. – И добрая постель – все лучше армейской койки.
В «Короле Корнуолла» Кейт отвел Дорриго в номер на четвертом этаже. Поднимаясь по широкой лестнице, они встретили шедшую вниз Эми с мешком грязного постельного белья. Дорриго ощутил странный восторг, столь же неуместный, сколь и неоспоримый. Она глянула на мужа: взгляд, в котором Дорриго уловил нечистую смесь вещей интимных, обычно невидимых миру: совместное спанье, запахи, звуки, привычки, умиляющие и обескураживающие, радости и печали, малое и большое – тот незамысловатый штукатурный раствор, который в конце концов кроет в два слоя как в один.
Волосы у нее были убраны в хвостик, рубиново-золотистый в свете внутреннего дворика. Пока его представляли, успело утвердиться ощущение соучастия, еще до того, как появилась замешанность хоть в чем-то. С одного взгляда Дорриго заметил, как неестественно разгорается ее лицо, выбившийся локон мухой-наживкой для форели улегся впереди ее правого уха, и он понял, что они молчаливо договорились пока ничего не говорить про книжный магазин.
– Так, Эми, – сказал Кейт, – надеюсь, ты позаботилась, чтоб чем-то развлечь нашего гостя.
Она пожала плечами, а он ощутил, как слегка перекатились под васильковой кофтой ее груди.
– Вам нравится Вивьен Ли? – спросила Эми. – В городе идет новый фильм с Вивьен Ли, называется «Мост Ватерлоо». Вы бы не хотели…
– Я его видел, – сказал Дорриго, который ничего такого не делал, и вдруг подумал, до чего ж он мерзкий человек, аж вся голова гудит. Испугался побыть с нею, что ли? Или пытался доказать свою власть над нею?
– Вот позорище, – сокрушался Кейт. – Только, уверен, это не единственное кино.
Дорриго уже самого себя не понимал, не понимал, и зачем он брякнул такое. Но ведь брякнул. А потом вдруг, так же неожиданно, услышал, как сам произнес:
– Но я бы с удовольствием посмотрел его еще раз.
Оттолкнул – притянул: вот шаблон, какому нужно следовать во множестве случаев.
Эми еще раз пожала плечами, и Дорриго Эванс с трудом отвел взгляд от нее и направил его вниз по лестнице, пока она вновь не попала в поле его зрения, спускаясь этажом ниже: пальцы ее вытянутой руки порхали по лакированным перилам. Взгляд его маятником ходил за ее раскачивавшимся хвостиком, пока она продолжала спускаться в пустоту.
10
Многого ожидал в тот вечер Дорриго Эванс, но никак не того, что его повезут в ночной клуб возле Хиндли-стрит. Она сказала, раз он этот фильм уже видел, то будет знать, что дальше случится, а от этого все удовольствие насмарку. Он был в форме, она надела восточную абрикосовую рубашку и свободные черные шелковые брюки. В результате получилось нечто переливчатое. Ее тело виделось ему таким четким, таким сильным, двигаясь, она скользила.
– Смысл в том, чтобы никогда не знать заранее, – сказала Эми. – Вы так не думаете?
Он не думал. Не знал. Ночной клуб размещался в большом зале, слабо освещенном, со множеством поднятых занавесок, заполненном тенями и военными в форме. Дорриго уловил какой-то дрожжевой запах, слегка пьянящий аромат весеннего разнотравья. Они пили мартини, играл джаз-оркестр. В воздухе носилось какое-то непонятное возбуждение. Через некоторое время огни в зале были погашены, все оркестранты зажгли свечу у себя на пюпитрах, а официанты зажгли свечи на столиках.
– Зачем свечи? – спросил Дорриго.
– Увидите, – улыбнулась Эми.
Она заговорила о себе. Ей двадцать четыре, на три года моложе, чем он. За несколько лет до этого переехала из Сиднея, где работала в универсальном магазине, и познакомилась с Кейтом, благо работала барменшей в «Короле Корнуолла». Дорриго рассказал ей про Эллу, каждое его слово звучало и защитой от всего, что он действительно чувствовал, и предательством всего, чем он был. А потом он отбросил эти чувства.
Дорриго убедил себя, что между ним и Эми непреодолимая преграда. Их дружеские отношения подпирались, с одной стороны, столпом ее мужа, его дяди, а с другой – его предстоящим обручением с Эллой. И в этом состояла его великая защищенность, которая позволяла ему чувствовать себя с Эми свободно, возможно, даже более свободно, чем он чувствовал бы себя в ином случае.
С нею он почувствовал себя необъяснимо счастливым, каким уже не помнил себя очень и очень давно. Он следил за тенями от пламени свечей, как прыгали они по лицу, которое привлекало его все больше и больше. Странно было, что когда он впервые встретил ее в книжном магазине, тогда не внешность так его впечатлила. Зато теперь он не представлял женщины более прекрасной. Он наслаждался близостью к Эми, даже тем, как завистливо, алчуще смотрят другие мужчины на ту, кого ошибочно считали его женщиной. Разумеется, увещевал он себя, она не его, но… ощущение не было неприятным. Оно ему льстило. Кончилось тем, что они разговорились с какими-то морскими офицерами, которые попозже перебрались на дальний конец стола и включились в свои разговоры, оставив парочку наедине. Эми наклонилась вперед и накрыла его руку своей. Он потупил взор, не совсем уверенный в том, что это значит. Почувствовал себя чудовищно неловко. Но руку не убрал.
– Это что? – спросил Дорриго.
И понял, что она тоже смотрит на их руки.
– Ничего, – слегка повела она плечами.
Ее касание словно било его током, сковывало всего, среди шума, дыма и гама это прикосновение было единственным, о чем он мог думать. Вселенная и этот мир, его жизнь и его тело – все сошлось в одной-единственной точке соприкосновения. Вместе с нею он не сводил глаз с их рук. И все же полагал, что это ничего не значит. Потому как это должно было ничего не значить. Ее рука – на его. Его – в ее. Потому как верить во что-то другое было ошибкой. Уже завтра он снова станет племянником ее мужа, который скоро обручится, а она – женой его дяди. «Но ведь это должно что-то значить!» – отчаянно хотелось ему думать…
– Ничего? – услышал он, как сам повторил ее ответ.
Он попытался успокоиться, но никак не мог отделаться от волнения, которое вызывало ее прикосновение. Указательным пальцем она прошлась по тыльной стороне его ладони.
– Я Кейтова, – произнесла она.
И продолжала рассеянно смотреть на его руку.
– Да, – сказал он.
Только она на самом деле не слушала. А следила за своим пальцем, за его длинной тенью, а Дорриго следил за ней, понимая, что она на самом деле не слушает.
– Да, – повторил он.
Он ощущал ее касание, и это ощущение прошивало все его тело, ни о чем другом он думать не мог.
– А ты, – произнесла она, – ты мой.
Пораженный, он поднял взгляд. Во второй раз она застала его совершенно врасплох. И во второй раз он непонятно чего испугался, лишь очень медленно до него дошло, что она совсем не насмешничает над ним, что она искренна в своей откровенности. И все, что это означало, повергло его в ужас. Но она по-прежнему смотрела на свой палец, на их руки между полупустыми бокалами, на круги, какие чертила.
– Что?
И только тут она подняла взгляд.
– Я имею в виду, – заговорила она, – я говорю, ты – Эллин. Кроме нынешнего вечера. Нынче ты мой. – Она тихонько засмеялась, словно бы это ничего не значило. – Как случайный рыцарь. – Подняв руку, она махнула ею у себя за ухом, отказываясь этим жестом от сказанного. – Ты понимаешь, что я имею в виду.
Он, однако, не понимал. Вовсе никакого понятия не имел. И его охватили и восторг, и страх одновременно, что сказанное ею ничего не значит и что оно означает все. Она была неуловима. Он был в растерянности.
Официанты принялись гасить свечи, джаз грянул «За дружбу старую»[39] в темпе вальса. Мелодия лилась в сознание памятью о том, как люди вместе пришли и как разошлись, круги совершались, только чтоб потом оказаться оторванными друг от друга. Всякий раз под конец нескольких тактов кто-то из музыкантов вставал, наклонялся и задувал свечу перед собой.
Дорриго понял, что танцует с Эми, и когда место для танцев неспешно погрузилось в темноту, она почему-то прильнула головой к его плечу. Ее тело, казалось, вовлекало его в податливое, совместное покачивание. Когда же тела их понемногу слились, он опять твердил себе, мол, это ничего, ничего это не значит и ни к чему не приведет.
– Что ты там бормочешь? – спросила она.
– Ничего, – шепнул он.
Пока они кружили, их прильнувшие друг к другу тела пребывали в странном покое, который к тому же отзывался самым жутким предвкушением и возбуждением. Он ощущал ее дыхание: легчайшее дуновение на своей шее.
Задута последняя свеча, бар погрузился во мрак, занавески неожиданно спали с окон и – среди восторженных ахов посетителей, затаивших дыхание при виде чуда, – полная луна хлынула в зал. Вальс завершал кружение, и Дорриго воспринял все представление как неосознанную ностальгию по будущему, которого, как боялись оба, у них никогда не будет, по ощущению завтра, уже предсказанного и лишь сегодня вечером способного измениться.
Отливающий ртутью свет и синие тени, пары, неспешно разделяющиеся и аплодирующие. На миг их взгляды встретились, и он понял, что может поцеловать ее, что ему всего-то и нужно, что слегка податься вперед, в ее тень, – и он пропал навеки. Тут, однако, он вспомнил, кто они, и как ни в чем не бывало спросил, не хочет ли она еще выпить.
– Отвези меня домой, – сказала она.
11
В гостинице она привела его в комнаты, где жила с Кейтом. Он сел в красновато-коричневое кресло. От салфетки на спинке кресла пахло бриллиантином Кейта, обивка была пропитана запахом его трубочного табака. Эми завела граммофон, поставила пластинку, сказав, что хочет, чтоб он послушал, опустила иголку и присела на подлокотник кресла Дорриго. Зазвучали перебираемые клавиши пианино, вступил и утих сакс вместе с бризом с океана, колыхавшим тюлевые занавески, и голос запел:
- Бряцанье пианино у соседей за стеной,
- Признанья-запинанья, открывшие тебе,
- Что высказать хотело мое сердце,
- На ярмарке качели расписные – Из глупых этих мелочей
- Вся память о тебе[40].
– Это Лесли Хатчинсон, – пояснила она. – Знаешь, он как будто в близких отношениях с дамами из королевской семьи.
– Близких отношениях?
Она улыбнулась.
– Да, – выговорила очень мягко, глядя прямо на него. – В близких.
И снова засмеялась. Смех у нее шел прямо из горла, и он подумал, до чего же ему нравится ощущать свою полноценность, от которой так и веяло широтой души.
Песня кончилась. Он встал и направился к выходу. Она снова поставила пластинку. Он попрощался. У двери склонился, вежливо поцеловал ее в щеку, а когда отстранился, она уткнулась лицом ему в шею. Он ждал, когда она отведет голову.
– Тебе надо идти, – услышал он ее шепот. Но она не отнимала лица, прижатого к его телу. Граммофонная иголка зашипела, заскрежетала, крутясь на краю пластинки.
– Да, – сказал он.
Он ждал, но ничего не происходило.
Иголка застряла на пустой дорожке, оглашая ночь скрежетом пустых оборотов.
– Да, – повторил он.
Подождал, но она не шелохнулась. Через некоторое время он слегка обнял ее одной рукой. Она не отпрянула.
– Скоро, – сказал он.
Затаил дыхание, пока не почувствовал, как она чуть-чуть, едва ощутимо прижалась к нему. Он не шевельнулся.
– Эми?
– Да?
Он не смел ответить. Выдохнул. Переступил с ноги на ногу, сохраняя равновесие. Он понятия не имел, что говорить, опасаясь, как бы сказанное что-то еще не нарушило этого хрупкого уравнения. Он позволил руке скользнуть вниз, очерчивая ее талию, ждал, что она оттолкнет ее. Она же лишь прошептала:
– Ами, amie. Подруга по-французски.
Другая его рука отыскала пленительный изгиб ее ягодиц.
– Моя мама, – сказала она, – учила меня этому, когда я была маленькой.
И эту руку она тоже не оттолкнула.
– Эми, amie, amour, звала она меня когда-то. Эми, подруга, любовь.
– Выигрышная трайфекта[41], – сказал Дорриго.
Она потянулась губами к его шее. Он ощутил ее дыхание на своей коже. Чувствовал ее тело, слитое с его, теперь уже накрепко, и смутился, сообразив, что она, должно быть, и его чувствует тоже. Он не смел ни туда ни сюда двинуться, лишь бы не развеять эти чары. Он не понимал, что это значит и что следует делать. И не осмеливался ее поцеловать.
12
Дорриго почувствовал, как теплая рука ползет вверх по его ноге, и резко встрепенулся, проснувшись. Несколько секунд понадобилось, чтобы понять: это солнце с утра пораньше гуляет по его номеру. Под дверью он нашел записку от Эми, в ней та сообщала, что днем будет занята гостиничными делами (предстоял свадебный обед), так что не сможет с ним проститься.
Он обернулся полотенцем и вышел на высокий балкон, закурил сигарету, сел и сквозь викторианские арки стал смотреть туда, где Южный океан, бесконечный и открытый, зыбко колыхался перед ним.
«Ничего не произошло», – сказала она, когда он уходил из ее комнаты. Ее точные слова. Они держали друг друга в объятиях, а она сказала, что ничего не произошло. Как это могло быть чем-то для него? Помимо объятий ничего и не произошло. В этой мере – все правда. Ничего не произошло и в книжном магазине. Объятие? Люди на похоронах и не такое делают.
– Эми, amie, amour, – прошептал он вполголоса.
Ничего не произошло, тем не менее все изменилось.
Он падал.
Он слушал, как бьются волны и шуршит песок, и падал. Легкий бриз поднялся из длинных теней раннего утра, а он все падал. Падал и падал, и это ощущалось дикой свободой. Что бы это ни было, оно так же непознаваемо и так же озадачивает, как она сама. Это-то он понимал. Но не знал, чем это может закончиться.
Он встал – возбужденный, сбитый с толку, решительный. Выбросил сигарету и пошел в номер одеваться. Ничего не произошло, и тем не менее он знал: что-то пришло в движение.
13
Дорриго вернулся в армейский лагерь, к жизни, подчиненной порядку и дисциплине. Только для него такая жизнь теперь не имела смысла. Она с трудом воспринималась как реальность. Люди приходили, разговаривали, люди говорили много всякой всячины, и ничто из этого не вызывало интереса. Говорили о Гитлере, Сталине, Северной Африке, блицкриге. Никто не говорил об Эми. Говорили о материальном снабжении, стратегии, картах, расписаниях, моральном духе, Муссолини, Черчилле, Гиммлере. А его так и тянуло выкрикнуть: «Эми! Amie! Amour!» Хотелось схватить людей за шиворот и рассказать им, что произошло, как он тоскует по ней, что она делает с его чувствами.
Однако, как бы ему ни хотелось, чтобы все услышали, он не мог допустить, чтоб хоть кто-то узнал. Общие нудные разговоры, общее неведение об Эми и ее страсти к нему, а его – к ней были гарантией деликатности. День, когда разговоры перешли бы на него с Эми, стал бы днем, когда принадлежащая только им страсть сделалась бы идущей у всех на глазах трагедией.
Он читал книги. Ни одна из них ему не нравилась. На их страницах он выискивал хоть что-то про Эми. Ее там не было. Он ходил на вечеринки. Они нагоняли скуку. Он ходил по улицам, вглядываясь в незнакомые лица. И там Эми не было. Мир со всеми его бесконечными чудесами наводил на него тоску. В своей жизни он выискивал любое место для Эми. Только Эми нигде нельзя было найти. И еще он понимал: Эми замужем за его дядей, и его страсть – безумие, у нее нет никакого будущего, что бы это ни было, с этим следует покончить, и именно он должен положить этому конец. Он рассуждал так: раз уж он ничего не в силах поделать со своими чувствами, то обязан избегать действовать так, как они подсказывают. Не будет ее видеть – так и не сможет сделать ничего непотребного. А потому и решил: никогда больше не наведываться к Эми.
Когда подошел его следующий – на шесть суток – отпуск, он не поехал в дядюшкину гостиницу, а сел на ночной поезд до Мельбурна, где просадил все деньги на выводы Эллы в свет и подарки ей, стремясь потеряться в ней, делая все, чтобы избавить память от странной случайной встречи с Эми. Элла, в свою очередь, жадно всматривалась в его лицо, в глаза, и он (с растущей в сердце тревогой, которая временами была близка к ужасу) видел, как ее лицо силится обнаружить на его лице и в его глазах ту же прожорливость. И лицо, некогда бывшее для Дорриго Эванса красивым и чудным, теперь казалось просто таким скучным, что и представить невозможно. Ее темные глаза (те, что он поначалу находил завораживающими) теперь виделись ему какими-то по-коровьи наивными в своей доверчивости, хотя он изо всех сил старался так не думать и еще больше презирал себя за то, что все-таки думает. Вот и ринулся с вновь обретенной решимостью в ее объятия, в ее разговоры, в ее страхи, шутки и истории, надеясь, что эта близость в конечном счете вытравит всякую память об Эми Мэлвани.
В последний день его отпуска они отправились ужинать в клуб ее отца. Майор королевских ВВС, с которым они были знакомы, раз за разом вызывал у Эллы смех своими шутками и анекдотами. Когда майор возвестил, что уходит, чтобы заглянуть в ближайший ночной клуб, Элла принялась умолять Дорриго пойти вместе с ним, потому что «он такой хохмач». Дорриго почувствовал что-то странное, не ревность, не благодарность, а непонятное смешение того и другого.
– Я люблю быть с людьми, – сказала Элла.
«Чем больше людей со мной рядом, – подумал Дорриго, – тем сильнее я чувствую себя одиноким».
14
Теперь его день начинался до того, как заключенные просыпались, до того, как оказывались на ногах главные силы охранников и инженеров, за несколько часов до того, как вставало солнце. Теперь, когда Накамура, шагая по грязи, вдыхал сырой ночной воздух, когда исчезли его кошмары, когда метамфетамин облегчил его сердце и сознание, майор пребывал в блаженном предвкушении. Этот день, этот лагерь, этот мир – его дело, какими им быть. Он нашел полковника Кота (как и доложил Фукухара) в пустой столовой, тот сидел на бамбуковой лавке за бамбуковым столом и ел рыбные консервы.
Полковник был ладно сложенным мужчиной почти такого же роста, как и австралиец, облик его не вязался с лицом, которое, по мнению Накамуры, походило на мешок и обвисало по обе стороны его острого, как акулий плавник, носа, режущего пополам обвислые морщинистые щеки.
Кота и не подумал ходить вокруг да около, а сразу заговорил о деле, сообщив, что уедет утром, как только удастся отыскать транспорт. Из мокрой кожаной сумки полковник извлек вощеную матерчатую папку и достал из нее лист с отпечатанными на машинке приказами и несколько чертежей, все они до того промокли, что облепили пальцы Накамуры, когда тот стал читать написанное на листке. В приказах не было ничего сложного, и приняты они были радушно.
Первый приказ носил характер технический. Невзирая на то что основная просека под железную дорогу была наполовину закончена, командование Железнодорожных войск изменило для Накамуры первоначальные планы. Теперь было необходимо увеличить просеку на треть, чтобы облегчить решение проблем со сведением откосов на следующем участке. Новая просека потребует дополнительной выемки и переноски еще трех тысяч кубометров скальных пород.
Пока Томокава наливал обоим офицерам чай, Накамура нагнулся и перевязал завязки на обмотках. Для расчистки джунглей у них не было даже пил и топоров. Заключенные рубили камень вручную при помощи кувалды и долота. У него и долот-то подходящих не было для работы заключенных, и когда те, что имелись, тупились, не хватало кокса, чтобы заточить их в кузнице заново. Накамура выпрямился на лавке.
– Пневмосверла с компрессорами были бы хорошим подспорьем, – заметил он.
Полковник Кота поглаживал обвислую щеку.
– Техника?
Он оставил слово повисшим в воздухе, предоставив Накамуре самому мысленно довершить невысказанное: ему известно, что техники нет, ему должно быть стыдно, что он выпрашивает, можно подумать, будто насмешничает. Накамура склонил голову. Кота снова заговорил:
– Поделиться нечем. Ничего не поделаешь.
Накамура понял, что допустил промах, заговорив об этом, но был признателен, что полковник Кота, похоже, отнесся к этому с пониманием. Он прочитал второй приказ. Крайний срок окончания строительства железной дороги переносился ближе: с декабря на октябрь. Отчаяние Накамуры было непомерным. Теперь его задача стала невыполнимой.
– Я знаю, вы можете сделать это возможным, – сказал полковник Кота.
– Сейчас далеко не апрель, – произнес Накамура, надеясь, что сказанное будет понято как косвенное напоминание о том, когда штаб утвердил окончательные планы. – Уже август.
Полковник Кота по-прежнему смотрел глаза в глаза Накамуре.
– Мы удвоим наши усилия, – отчеканил наконец смиренный Накамура.
– Не могу вам лгать, – заговорил полковник Кота. – Очень сомневаюсь, что произойдет соответствующее пополнение, будь то техника или инструменты. Возможно, прибавят чернорабочих-кули. Но даже этого не могу обещать. На этой железной дороге работает больше четверти миллиона кули и шестьдесят тысяч пленных. Я знаю, что англичане с австралийцами ленивы. Знаю про их жалобы, что они слишком устали или слишком голодны, чтобы работать. Что, копнув разок лопатой, они тут же устраивают себе отдых. Один удар кувалды – и они останавливаются. Что они жалуются на всякие несущественные мелочи вроде того, что их бьют по щекам. Если японский солдат недобросовестен в своей работе, он ожидает, что его отлупят. Что дает трусу право не быть битыми? Бирманские и китайские кули, присланные сюда, только и знают, что удирать или умирать. Тамилам, по счастью, чересчур далеко бежать обратно в Малайю, зато теперь они повсеместно мрут от холеры, так что даже при тысячах вновь прибывающих все равно остается нехватка рабочей силы. Просто не знаю. Ни с чем из этого ничего не поделаешь.