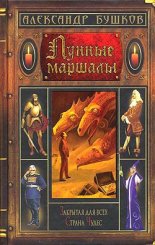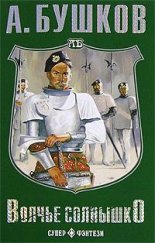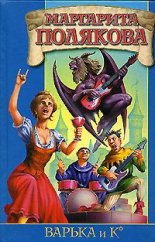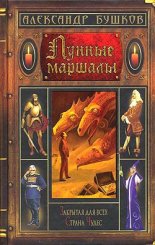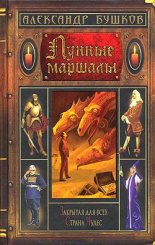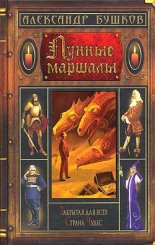Сицилиец Пьюзо Марио

— Завтра, — сказал Майкл. — Удирать будем завтра. А сейчас давай попробуем прорваться сквозь заслон. Ты ничего еще не предпринял?
— Пока нет, — ответил Клеменца.
— Ну так пойдем посмотрим, что можно сделать, — сказал Майкл.
И вопреки возражениям Клеменцы они вышли на улицу. Город поистине кишел карабинерами. Да их тут не меньше тысячи, подумал Майкл. На улице толпились, в буквальном смысле слова, сотни фотографов. Дорогу перегораживали фургоны и автомобили, так что подойти ко двору было невозможно. Они увидели, как в ресторан вошла группа офицеров, и в толпе пронесся слух, что это полковник Лука и его сотрудники собрались устроить торжественный обед. Майкл успел разглядеть полковника. Это был жилистый человек небольшого роста, со скорбным лицом; так как было очень жарко, он снял фуражку и вытирал лысеющую голову белоснежным носовым платком. Фоторепортеры толпой окружали его, журналисты лезли с расспросами. Отмахнувшись от них, он вошел в ресторан.
На улице было такое множество народу, что Майкл и Клеменца с трудом протискивались вперед. Клеменца решил, что им лучше вернуться в дом и ждать, что будет дальше. Ближе к вечеру один из его людей сообщил, что Мария Ломбарде опознала в убитом своего сына.
Они ужинали в открытом кафе. Вовсю орало радио — передавали сообщение о смерти Гильяно. Произошло это, оказывается, так: полиция окружила дом, где, по их предположению, скрывался Гильяно. Когда он вышел на улицу, ему приказано было сдаться. Он вместо этого открыл огонь. Капитан Перенце, начальник штаба полковника Луки, давал по радио интервью журналистам. Он говорил, что Гильяно бросился бежать, а он, капитан Перенце, кинулся вслед за ним и загнал его во двор. Гильяно метался, как затравленный лев, и он, Перенце, прикончил его выстрелом из пистолета. Все находившиеся в ресторане слушали радио. Никто не ел. Официанты прекратили работу — они тоже слушали. Клеменца повернулся к Майклу и сказал:
— Все это липа. Уезжаем сегодня же.
В этот момент вся улица перед кафе вдруг заполнилась карабинерами. С тротуара остановилась служебная машина, и из нее вышел инспектор Веларди. Он подошел к их столику и положил Майклу на плечо руку. Затем сказал:
— Вы арестованы. — В упор посмотрев своим ледяными голубыми глазами на Клеменцу, он добавил: — На всякий случай прихватим и вас. Кстати, дружеский совет. Кафе оцеплено моими людьми — их не меньше сотни. Так что не надо суетиться, а то, чего доброго, встретитесь в аду с Гильяно.
У тротуара затормозил полицейский фургон. Солдаты Службы безопасности, обыскав Майкла и Клеменцу, втолкнули их в фургон. В кафе оказалось несколько фоторепортеров; они тут же подскочили со своими аппаратами, но им не удалось прорваться сквозь заслон солдат Службы безопасности. Веларди наблюдал за всем этим с улыбкой злобного торжества.
На следующий день отец Тури Гильяно с балкона своего дома в Монтелепре обратился к людям, собравшимся на улице. По древнему сицилийскому обычаю он объявил вендетту тем, кто предал его сына. Особую вендетту он объявил тому, кто убил Тури. Он сказал, что это не капитан Перенце, не карабинер. Он назвал другое имя — Аспану Пишотта.
Глава 27
Вот уже год, как черный червь измены точил сердце Аспану Пишотты.
Он был всегда верен своему другу. С детства он привык подчиняться Гильяно, искренне признавая его лидерство. А Гильяно с самого начала существования отряда объявил, что Пишотта командует с ним на равных, в отличие от других, подчинявшихся ему, начальников — Пассатемпо, Террановы, капрала и Андолини. Однако Гильяно был настолько сильной личностью, что о равенстве с ним не могло быть и речи: командовал отрядом он, и Пишотта безоговорочно это принимал.
Гильяно был самым храбрым. В тактике ведения партизанской войны он не имел себе равных, со времен Гарибальди не было такого человека, которого бы так любил сицилийский народ. Идеалист и романтик, он был способен на самую невероятную хитрость, что восхищало сицилийцев. Но у Гильяно были недостатки, и Пишотта пытался их исправить.
Гильяно настаивал, чтобы не меньше половины всей добычи отдавать бедным, а Пишотта говорил ему:
— Либо ты разбогатеешь, либо тебя будут любить. Но неужели ты думаешь, что народ Сицилии встанет под твое знамя в войне против Рима? Никогда. Они будут боготворить тебя, беря у тебя деньги, спрячут, когда тебе негде будет укрыться, никто из них не выдаст тебя. Но революционеров среди них нет.
Пишотта был против того, чтобы полагаться на заверения дона Кроче и христианско-демократической партии. Он был против разгона коммунистической и социалистической организаций Сицилии. Гильяно надеялся, что христианские демократы помилуют их, Пишотта же предупреждал его:
— Никогда они тебе не простят, и дон Кроче не тот человек, чтобы делить с тобой власть. Мы можем покончить с жизнью в горах только за деньги или же так и умрем разбойниками. Не такой уж плохой конец — для меня по крайней мере.
Но Гильяно не слушал его, и Пишотта затаил обиду — тогда-то в нем и зародился тайный червь предательства.
Гильяно всегда верил в лучшее искренно и чисто. Пишотта же смотрел на вещи трезво. Он понял, что с прибытием полковника Луки и его отрядов специального назначения им пришел конец. Сколько бы побед еще они ни одержали, стоит один раз потерпеть поражение — и их ждет смерть. Подобно Оливеру и Роланду, героям легенды про Карла Великого, они ссорились между собой, и Гильяно не желал уступать. А Пишотта уже чувствовал себя как Оливер, тщетно убеждавший Роланда протрубить в рог.
И наконец, когда Гильяно полюбил Юстину и женился на ней, Пишотта понял, что отныне каждый из них пойдет своей дорогой. Гильяно уедет в Америку, у него будет семья. Он же, Пишотта, навсегда останется неприкаянным. Долго он не проживет — пуля или чахотка сделают свое дело. Так уж ему на роду написано. А в Америке ему не прижиться.
Но больше всего тревожило Пишотту то, что любовь и нежность молодой жены странно подействовали на Гильяно: он стал безжалостен, как никогда. Он убивал карабинеров, тогда как раньше брал их в плен. Он казнил Пассатемпо, не успел еще кончиться его медовый месяц. Он был беспощаден ко всем, кого подозревал в доносах. Пишотту мучил страх, что человек, которого он любил и защищал все эти годы, мог повернуться против него. Ведь если Гильяно станут известны некоторые подробности его жизни за последнее время, он прикончит его.
В течение последних трех лет дон Кроче внимательно следил за тем, как складывались отношения между Пишоттой и Гильяно. Только эти двое стояли на пути к осуществлению его имперских планов. Только они мешали ему стать полновластным хозяином Сицилии. Сначала он рассчитывал на то, что сумеет превратить отряд Гильяно в армию «Друзей». С этим он и послал к нему Гектора Адониса. Предложение было вполне определенным. Гильяно станет великим военачальником, дон Кроче — великим государственным деятелем. Но тогда Гильяно пришлось бы склонить перед ним голову, а этого он не пожелал. Он шел своим путем, помогая бедным, стремясь освободить Сицилию и сбросить римское иго. Дон Кроче не мог этого понять.
Между 1943 и 1947 годами звезда Гильяно восходила все выше. К тому времени дону еще не удалось объединить «Друзей» в один мощный кулак. Они не могли так быстро оправиться после потерь, понесенных при фашистском режиме Муссолини. Поэтому, чтобы умерить власть Гильяно, дон Кроче уговорил его пойти на союз с христианско-демократической партией. А тем временем сам заново создавал империю мафии и выжидал. Его первый удар — расстрел манифестантов в проходе Джинестры — был гениально рассчитан: вся вина пала на Гильяно, и никто не мог доказать, что он автор этой затеи. Теперь Гильяно навсегда лишился возможности получить прощение Рима и уже не мог претендовать на то, чтобы править Сицилией. На его репутации героя и защитника бедных лежало несмываемое пятно. А когда Гильяно казнил шестерых главарей, у дона уже не оставалось выбора. «Друзьям друзей» и отряду Гильяно предстояло сразиться не на жизнь, а на смерть.
Поэтому дон Кроче стал внимательнее присматриваться к Пишотте. Пишотта был умен, но, как все молодые люди, недооценивал то зло и страх, что живут в душах даже лучших из людей. К тому же Пишотта не был равнодушен к соблазнам и радостям жизни. Если Гильяно презирал деньги, то Пишотта любил удовольствия, которые они могут доставить. У Гильяно за душой не было ни гроша, хотя он уже мог бы иметь более миллиарда лир. Свою долю награбленного он раздавал бедным и помогал своей семье.
Пишотта же — и это не укрылось от дона Кроче — шил костюмы у лучших портных в Палермо и наведывался к самым дорогим проституткам. Да и родные Пишотты были гораздо лучше обеспечены, чем родные Гильяно. Дон Кроче узнал, что Пишотта держит деньги в банках Палермо под чужими именами; были им приняты и другие меры предосторожности, указывавшие на то, что этот человек не собирался умирать. Например, у него были заготовлены документы на три разных фамилии, а в Трапани хозяина ждал дом. Дон Кроче знал, что все это делается тайком от Гильяно. И вот теперь он с интересом и удовольствием поджидал Пишотту, попросившего о встрече, зная, что двери дома дона Кроче всегда открыты для него. Но дон благоразумно позаботился и о мерах предосторожности. Он окружил себя надежной охраной и предупредил полковника Луку и инспектора Веларди, что если все пройдет как надо, он встретится с ними. Если же окажется, что он ошибся в Пишотте, или выяснится, что это тройная измена — затея, состряпанная Гильяно с целью убить его, дона Кроче, Пишотта найдет здесь свою смерть.
Прежде чем предстать перед доном Кроче, Пишотта добровольно сдал оружие. Ему нечего было бояться, так как за несколько дней до этого он оказал дону неоценимую услугу, предупредив его, что Гильяно собирается напасть на отель.
Двое мужчин остались с глазу на глаз. Слуги дона Кроче заранее накрыли стол, поставили еду и вино, и дон Кроче, как гостеприимный хозяин, наполнил тарелку и стакан Пишотты.
— Кончились добрые времена, — сказал дон Кроче. — Теперь нам обоим, и тебе и мне, надо все очень серьезно взвесить. Настало время принять решение, от которого будет зависеть наша жизнь. Я хочу тебе кое-что сказать и надеюсь, ты готов это выслушать.
— Уж не знаю, в чем ваша беда, — сказал Пишотта. — Но мне надо хорошо соображать, чтоб уцелеть.
— А ты не хочешь уехать из страны? — спросил дон. — Ты мог бы отправиться в Америку вместе с Гильяно. Вино там, правда, не очень хорошее, а оливковое масло больше похоже на воду, и у них там есть электрический стул, да и в правительстве у них народ погрубее нашего будет. Там не покуражишься. Но в целом живется там неплохо.
Пишотта рассмеялся.
— Что я стану делать в Америке? Лучше уж здесь попытать счастья. Как только Гильяно уедет, они не станут охотиться за мной, а горы велики.
— А легкие тебя по-прежнему беспокоят? — участливо спросил дон. — Лекарство ты себе добываешь?
— Да, — ответил Пишотта. — Это не проблема. Вряд ли я когда-нибудь умру из-за легких. — И он ухмыльнулся дону Кроче.
— Давай поговорим как сицилиец с сицилийцем, — серьезно сказал дон Кроче. — В детстве, да и в молодости мы любим своих друзей, прощаем их недостатки и делимся с ними всем, что у нас есть, — это естественно. Каждый день для нас — новая радость, и мы с надеждой, без страха смотрим в будущее. Мир не таит в себе опасности, это счастливое время. Но мы взрослеем, нам самим приходится добывать себе хлеб, и мы уже не заводим с такой легкостью друзей. Мы вынуждены все время быть начеку. Ведь никто из старших о нас больше не заботится, а мы уже не можем довольствоваться нехитрыми детскими радостями. У нас появляется честолюбие — мы хотим стать великими, богатыми, всесильными или хотя бы оградить себя от неудач. Я знаю, как ты любишь Тури Гильяно, но настало время задать себе вопрос — а какова же цена этой любви? И существует ли она вообще после всех этих лет, или о ней осталась только память?
Он ждал ответа, но Пишотта смотрел на него, и лицо у него было каменное, точно горы Каммараты, и такое же белое. Дело в том, что Пишотта буквально помертвел.
— Я не могу допустить, чтобы Гильяно остался жив или бежал за границу, — продолжал дон Кроче. — И если ты заодно с ним, ты мой враг. Когда Гильяно уедет, ты все равно не сумеешь уцелеть на Сицилии без моей поддержки.
— Завещание Тури в безопасности: оно в Америке, у его друзей, — сказал Пишотта. — Как только вы убьете его, Завещание обнародуют, и правительству — конец. А ведь при новом-то правительстве не исключено, что вам придется тихонечко сидеть на вашей ферме в Виллабе и заниматься хозяйством, а то и кое-чем похуже.
Дон хмыкнул. Потом расхохотался.
— А ты читал это знаменитое Завещание? — с презрением спросил он.
— Да, — сказал Пишотта, сбитый с толку реакцией дона.
— Ну а я — нет, — сказал дон. — И я решил вести себя так, будто никакого Завещания и не существует.
— Вы хотите, чтобы я предал Гильяно, — сказал Пишотта. — А почему, собственно, вы думаете, что я на это пойду? Дон Кроче улыбнулся.
— Ты же предупредил меня, что он собирается напасть на отель, где я остановился. Разве это не доказательство дружбы?
— Я это сделал не ради вас, а ради Гильяно, — сказал Пишотта. — Тури сам не понимает, что делает. Он хочет убить вас. Но если это произойдет, нам всем уже не на что будет рассчитывать. «Друзья друзей» не успокоятся, пока нас не уничтожат. И тут уж никакое Завещание не поможет. Он бы уже давно мог уехать из страны, но все тянет, все надеется, что ему удастся с вами разделаться. Я пришел к вам, чтобы договориться. Гильяно уедет из Сицилии через несколько дней, и вендетта сама собой прекратится. Дайте ему уехать.
Дон Кроче оторвался от своей тарелки и откинулся на спинку стула. Затем глотнул вина.
— Ты рассуждаешь, как дитя, — сказал он. — История эта подошла к развязке. Нельзя Гильяно оставить в живых — он слишком опасен. Но сам я не могу его убить. Мне ведь жить здесь, и, если я хочу сделать то, что наметил, я не могу стать убийцей героя Сицилии. Народ любит Гильяно, и многие из его сторонников захотят отомстить за его смерть. Так что сделать это должны карабинеры. Вот так-то. И ты единственный, кто может заманить Гильяно в ловушку.
Он на секунду замолчал, потом произнес, взвешивая каждое слово:
— Миру, в котором ты жил, пришел конец. Ты можешь либо остаться в нем и погибнуть, либо шагнуть в другой мир и продолжать жить.
— Даже если сам Христос будет мне покровителем, ему не защитить меня, когда выяснится, что я предал Гильяно, — сказал Пишотта.
— Все, что от тебя требуется, это назвать место, где ты с ним должен встретиться, — сказал дон Кроче. — Никто, кроме меня, об этом не узнает. Я сам сообщу полковнику Луке и инспектору Веларди. А об остальном уж они позаботятся.
И, помолчав, добавил:
— Гильяно ведь стал другим. Это уже не твой товарищ детских игр и не твой лучший друг. Это человек, который думает только о себе. Вот и тебе надо об этом подумать.
И вот 5 июля, направляясь вечером в Кастельветрано, Пишотта был уже повязан с доном Кроче. Он сообщил ему, где встретится с Гильяно, и знал, что дон предупредил полковника Луку и инспектора Веларди. Пишотта не сказал, что это будет в доме дядюшки Пеппино, а лишь сказал, что они встречаются в Кастельветрано. Он посоветовал дону действовать осторожно, так как у Гильяно особый нюх на опасность.
Но когда Пишотта пришел к дядюшке Пеппино, старый возчик поздоровался с ним холодно, не как всегда. Уж не подозревает ли его старик? Наверное, он заметил, что в городе необычно много карабинеров, и с безошибочной сицилийской сверхинтуицией сложил два и два.
Пишотта встревожился. И его пронзила страшная мысль. Что, если мать Гильяно узнала, что ее любимый Аспану предал ее сына? Что, если она плюнет ему в лицо и назовет его изменником и убийцей? Они же плакали вместе, обняв друг друга, и он поклялся защищать ее сына, а потом поцеловал ее. И этот поцелуй оказался поцелуем Иуды. Ему захотелось убить старика, а потом убить и себя.
— Если ты ищешь Тури, — сказал дядюшка Пеппино, — то он был здесь и ушел.
Ему вдруг стало жаль Пишотту. Он был белый, как полотно, и с трудом дышал.
— Выпьешь немножко анисовой?
Пишотта покачал головой и направился к выходу. Старик окликнул его:
— Будь осторожен, в городе полно карабинеров. Пишотта похолодел от страха. Каким надо быть дураком, чтобы не догадаться, что Гильяно почует западню. А вдруг он уже понял, кто предатель?
Пишотта выскочил из дому и кружным путем выбежал на тропинку, которая должна была привести его к месту встречи, оговоренному на случай провала, — акрополю Селина в городе-призраке Селинунте.
Яркий свет летней луны серебрил развалины древнегреческого города. Среди этих развалин на полуобвалившихся ступенях храма сидел Гильяно и думал, как он будет жить в Америке.
Ему было необычайно грустно. Белые мечты рухнули. Когда-то он был полон надежд на будущее, которое всегда связывал с будущим Сицилии, безгранично веря, что ничего с ним не случится. Столько народу любило его. Раньше он был их благодетелем, теперь, казалось, приносил им одни несчастья. Сам не зная почему, он чувствовал себя одиноким. Но ведь с ним по-прежнему был Аспану Пишотта. Придет день, и они вместе возродят былые идеалы и мечты. В конце концов, начали-то все они.
Луна скрылась, и древний город погрузился в темноту; теперь его развалины казались скелетами на черном полотне ночи. В этой тьме послышалось шуршание мелких камушков, и Гильяно снова перекатился за мраморные колонны, держа наготове автомат. Луна безмятежно выплыла из-за облаков, и он увидел посреди окруженной развалинами улицы, которая вела от акрополя в глубь города, Аспану Пишотту.
Пишотта медленно шел по усыпанной камнями дороге, зорко всматриваясь в темноту, шепотом окликая Тури. Гильяно подождал, когда Пишотта пройдет мимо, и вышел из-за колонн.
— Опять я выиграл, Аспану, — сказал он: так они играли в детстве. К его удивлению, Пишотта, вздрогнув от страха, резко обернулся.
Гильяно опустился на ступени и положил автомат рядом с собой.
— Посиди немного, — сказал он. — Ты, наверное, очень устал, да к тому же, кто знает, может, нам и не придется больше поговорить вот так, наедине.
— Поговорим лучше в Мадзара-дель-Валло, там безопаснее, — сказал Пишотта.
— У нас еще есть время, а тебе необходимо отдохнуть, иначе опять будешь харкать кровью. Ну же, садись. — И Гильяно указал на верхнюю ступеньку.
Он увидел, что Пишотта снимает с плеча автомат, и подумал, что тот хочет положить его на землю. Гильяно поднялся и протянул руку, чтобы помочь Аспану взобраться по ступенькам. И тут понял, что друг прицеливается в него. Он застыл, впервые за семь лет застигнутый врасплох.
А Пишотта от ужаса, что Гильяно станет сейчас его расспрашивать, совсем потерял способность соображать… Больше всего он боялся, что Гильяно скажет: «Аспану, брат мой». Этот страх и побудил Пишотту нажать спусковой крючок.
Пули оторвали у Гильяно кисть, изрешетили его тело. Пишотта в ужасе смотрел на дело рук своих и ждал, когда рухнет Гильяно. А Гильяно, истекая кровью, стал медленно спускаться по ступеням. Суеверный страх погнал прочь Пишотту, и он увидел, как Гильяно побежал за ним, а потом он увидел, что Гильяно упал.
А Гильяно казалось, что он еще бежит. В его голове все смешалось: ему виделось, что они с Аспану бегут по горам, как семь лет назад, — из древних римских цистерн струится вода, его опьяняет аромат незнакомых цветов, они пробегают мимо статуй святых в часовенках — и он крикнул, как тогда: «Аспану, я верю», а верил он в свою удачу, в любовь и преданность друга. Он так и не узнал о его предательстве и о своем последнем поражении: смерть милостиво избавила его от этого. Он умер, досматривая свой сон.
Аспану Пишотта мчался не останавливаясь. Он пересек поле и выскочил на дорогу, ведущую в Кастельветрано. Показав специальный пропуск, он прошел к полковнику Луке и инспектору Веларди. Они-то и распустили слух, что Гильяно попал в западню и был убит капитаном Перенце.
В то утро, 6 июля 1950 года, Мария Ломбарде Гильяно встала рано. Ее разбудил стук в дверь; муж пошел открывать. Вернувшись в спальню, он сказал ей, что должен уехать, возможно на весь день. В окно она увидела, что он сел на повозку дядюшки Пеппино, запряженную ослом, ярко разрисованную по бортам и на спицах колес. Может, есть вести от Тури, может, он уже уехал в Америку, а может, случилось что-то неладное? Она почувствовала, как извечное беспокойство перерастает в панический страх, не дававший ей покоя все эти семь лет. У нее все валилось из рук; убрав дом и приготовив овощи на день, она открыла дверь и выглянула на улицу.
Никого из соседей на виа Белла не было видно. Дети и те не играли. Многие мужчины сидели в тюрьме — их подозревали в оказании помощи отряду Гильяно. А женщины были чересчур напуганы и держали детей дома. В обоих концах виа Белла дежурили взводы карабинеров. Вверх и вниз по улице маршировали патрульные с винтовками на плече. Она увидела солдат и на крышах. Перед домами стояли военные джипы. Вход на виа Белла со стороны казарм Беллампо был перекрыт бронетранспортером. В Монтелепре находилось две тысячи солдат полковника Луки, и они восстановили против себя всех жителей городка: приставали к женщинам, пугали детей, издевались над мужчинами, которым удалось избежать тюрьмы. И все эти солдаты явились сюда, чтобы убить ее сына. Но он уже в Америке, на воле, а со временем и они с мужем поедут к нему. Там они смогут жить не боясь.
Она вернулась в дом и нашла себе занятие. Вышла на балкон с задней стороны дома и стала смотреть на горы. С этих гор Гильяно в бинокль наблюдал за их домом. Она всегда чувствовала, что он — рядом, а сейчас почему-то такого чувства у нее не было. Значит, он в Америке.
Раздался громкий стук в дверь, и она замерла от ужаса. Потом медленно пошла открывать. В дверях стоял Гектор Адонис — таким она еще никогда его не видела. Небритый, с растрепанными волосами, без галстука. Рубашка под пиджаком была мятая, воротник — грязный. Но больше всего ее поразило лицо Адониса. Оно все сморщилось от безысходного горя. Глаза его были полны слез. Из груди Марии Ломбарде вырвался сдавленный крик.
Гектор Адонис вошел в дом.
— Мария, прошу тебя, не надо, — сказал он.
Вместе с ним вошел совсем молоденький лейтенант карабинеров. Мария Ломбарде поверх их голов смотрела на улицу. Три черные машины с карабинерами за рулем стояли у ее дома. По обе стороны двери были вооруженные люди.
Лейтенант, молоденький, розовощекий, снял фуражку и сунул ее под мышку. После чего официальным тоном спросил:
— Вы Мария Ломбарде Гильяно? — Акцент выдавал его северное тосканское происхождение. Мария Ломбарде ответила:
— Да.
От отчаяния голос у нее надломился. Во рту пересохло.
— Я вынужден просить вас поехать со мной в Кастельветрано, — сказал офицер. — Нас ждет машина. Ваш друг будет нас сопровождать. Если вы не возражаете, конечно.
Глаза Марии Ломбарде расширились. Она сказала уже более твердым голосом:
— Это зачем же? Я ничего не знаю в Кастельветрано и никого там не знаю.
— Мы хотим, чтобы вы опознали там одного человека, — мягко подбирая слова, произнес лейтенант. — Полагаем, что это ваш сын.
— Нет, это не мой сын, он никогда не ездил в Кастельветрано, — сказала Мария Ломбарде. — Этот человек — мертвый?
— Да, — ответил офицер.
Мария Ломбарде издала протяжный вопль и опустилась на колени.
— Мой сын никогда не ездил в Кастельветрано, — повторила она.
Гектор Адонис подошел к ней и положил руку ей на плечо.
— Надо поехать, — сказал он. — Может быть, это очередная его уловка — он ведь не раз такое выкидывал.
— Нет, — сказала она. — Я не поеду. Не поеду.
— А муж ваш дома? Мы можем взять его вместо вас, — сказал лейтенант.
Мария Ломбарде вспомнила, что рано утром за ее мужем приезжал дядюшка Пеппино. Вспомнила она и о том, как у нее возникло дурное предчувствие при виде разрисованной повозки.
— Подождите, — бросила она. И ушла в спальню, а там переоделась в черное платье и накинула на голову черную шаль.
Лейтенант открыл перед ней дверь. Она вышла на улицу. Там полно было вооруженных солдат. Она посмотрела в другой конец виа Белла, где улица выходит на площадь. И в ярких лучах июльского солнца увидела, как Тури и Аспану, погоняя осла, уходят на праздник, с которого для ее сына началась другая жизнь — семь долгих лет, в течение которых ее Тури, убив полицейского, был в бегах. Она заплакала; лейтенант взял ее под руку и помог сесть в одну из черных машин, которые ждали на улице. Рядом с ней сел Гектор Адонис. Машина поехала мимо молча стоявших группами карабинеров; Мария Ломбарде уткнулась лицом в плечо Гектора Адониса — она уже не плакала, а с ужасом думала о том, что ей предстоит увидеть в конце пути.
Тело Тури Гильяно уже три часа лежало во дворе. Он как будто спал, раскинувшись, лежа на животе, повернув голову влево и согнув ногу в колене. Но его рубашка из белой превратилась в алую. Рядом с изуродованной рукой лежал автомат. Фотокорреспонденты и репортеры из Палермо и Рима уже толпились вокруг. Фотограф журнала «Лайф» снимал капитана Перенце, этот снимок будет напечатан с подписью, указывающей, что это он убил Гильяно. Лицо у капитана на фотографии было доброе, грустное и немного озадаченное. На нем была фуражка, и он казался похожим скорее на приветливого бакалейщика, чем на полицейского офицера.
Зато все газеты мира пестрели фотографиями Тури Гильяно. На вытянутой руке сверкало изумрудное кольцо, которое он снял с пальца герцогини. Вокруг талии — пояс с золотой пряжкой, на которой выгравированы орел и лев. Труп лежал в луже крови.
Перед тем как приехать Марии Ломбарде, тело перевезли в городской морг и положили на огромный овальный мраморный стол. Морг находился на кладбище, окруженном высокими черными кипарисами. Сюда привезли Марию Ломбарде и усадили на каменную скамью. Дожидались полковника и капитана, которые заканчивали торжественный обед по случаю победы в гостинице «Селинунт». При виде журналистов, любопытных горожан и множества карабинеров, следивших за порядком, Мария Ломбарде заплакала. Гектор Адонис попытался успокоить ее.
Наконец ее провели в морг. Какие-то чиновники у овального стола о чем-то спрашивали ее. Она подняла глаза и увидела лицо Тури.
Никогда еще он не казался ей таким молоденьким. Он выглядел совсем мальчишкой — таким он приходил домой, набегавшись целый день со своим Аспану. Лицо осталось нетронутым, если не считать пятнышка грязи на лбу, прилипшей, когда он лежал во дворе. Действительность отрезвила Марию Ломбарде, она взяла себя в руки. И стала отвечать на вопросы.
— Да, — сказала она, — это мой сын Тури, которого я родила двадцать семь лет назад. Да, я опознаю его.
Чиновники что-то говорили ей, просили, чтобы она подписала какие-то бумаги, но она не видела их и не слышала. Она не видела и не слышала напиравшей со всех сторон толпы, крикливых журналистов и фоторепортеров, которые пытались пролезть через заслон карабинеров, чтобы сделать снимки.
Она целовала его лоб, белый, как мрамор с серыми прожилками, целовала синеющие губы, обезображенную руку. Она целиком отдалась своему горю.
— Кровиночка моя, — шептала она. — Какой страшной смертью ты умер.
Тут она потеряла сознание, а когда дежурный врач сделал ей укол и она пришла в себя, то потребовала, чтобы ее проводили во двор, где было найдено тело ее сына. Там она опустилась на колени и принялась целовать пятна крови на земле.
Когда она вернулась в Монтелепре, дома ее ждал муж. Тогда-то она и узнала, что убийцей ее сына был горячо любимый ею Аспану.
Глава 28
Майкла Корлеоне и Питера Клеменцу сразу после ареста отвезли в палермскую тюрьму. Там их повели к инспектору Веларди на допрос.
В кабинете Веларди было шесть вооруженных офицеров-карабинеров. Он холодно поздоровался с Майклом и Клеменцей и обратился к Клеменце.
— Вы — американский гражданин, — сказал он. — В вашем паспорте указано, что вы приехали к брату, дону Доменику Клеменце, в Трапани. Мне сказали, что это вполне достойный человек. Человек уважаемый. — Он произнес эту традиционную формулу с явным сарказмом. — И вот мы обнаруживаем вас с Майклом Корлеоне при оружии, а в это время здесь, в городке, всего несколько часов тому назад был убит Тури Гильяно. Что вы можете по этому поводу сказать?
— Я вышел поохотиться — мы ходили на зайцев и лис, — сказал Клеменца. — Зашли в кафе, чтобы позавтракать и выпить кофе, и увидели, что в Кастельветрано что-то происходит. Вот и решили посмотреть, в чем дело.
— Вы что же, в Америке ходите на зайцев с пистолетом-автоматом? — спросил инспектор Веларди. И повернулся к Майклу Корлеоне. — С вами мы уже встречались, мы знаем, что вы тут делаете. И ваш толстый друг тоже это знает. Но обстоятельства изменились со времени того приятного обеда с доном Кроче. Гильяно мертв. А вы — соучастник в преступном сговоре, имевшем целью дать ему возможность бежать. Я больше не обязан относиться по-человечески к такой падали, как вы. Мы подготовили ваши признания, и я рекомендую вам их подписать.
В этот момент в комнату вошел офицер карабинеров и что-то шепнул на ухо инспектору Веларди. Тот сухо сказал:
— Пусть войдет.
Это оказался дон Кроче; одет он был ничуть не лучше, чем в тот день, когда Майкл обедал с ним. Его лицо цвета красного дерева было бесстрастно. Он вперевалку подошел к Майклу и обнял его. Затем обменялся рукопожатием с Питером Клеменцей. После чего повернулся и, не говоря ни слова, уставился на инспектора Веларди. От этой туши исходила какая-то поистине животная сила. Лицо было властное, особенно глаза.
— Эти двое — мои друзья, — сказал он. — Какие у вас основания так неуважительно относиться к ним? — Он произнес это бесстрастно, без гнева. Просто задал вопрос и ждал ответа, фактов. Сам его тон указывал на то, что он считает их арест необоснованным.
Инспектор Веларди передернул плечами.
— Они предстанут перед судом, — там все и выяснится. Дон Кроче опустился в одно из кресел, стоявших у стола инспектора. Промокнул платком лоб. И сказал спокойно, голосом, в котором не было и тени угрозы:
— Из уважения к нашей дружбе позвоните министру Трецце и спросите его мнение по этому вопросу. Вы окажете мне услугу.
Инспектор Веларди отрицательно покачал головой. Голубые глаза его смотрели не просто холодно — в них горела ненависть.
— Мы никогда не были друзьями, — сказал он. — Я действовал по приказу, а теперь он утратил свою силу, поскольку Гильяно мертв. Эти двое предстанут перед судом. Будь на то моя воля, и вы предстали бы вместе с ними.
В этот момент на столе инспектора Веларди зазвонил телефон. Но он даже не шевельнулся, дожидаясь реакции дона Кроче.
— Возьмите трубку, — сказал дон Кроче, — это звонит министр Трецца.
Инспектор медленно поднял трубку, не спуская с дона Кроче глаз. Послушал несколько минут, затем сказал:
— Хорошо, ваше превосходительство, — и повесил трубку. Он сразу словно съежился в своем кресле.
— Вы свободны, — сказал он Майклу и Питеру Клеменце.
Дон Кроче поднялся и, взмахнув руками, словно перед ним были цыплята во дворе, направил Майкла и Клеменцу к двери. Затем он повернулся к инспектору Веларди.
— Весь этот год я относился к вам со всей возможной любезностью, хоть вы и чужеземец здесь, на моей Сицилии. А вы сейчас, перед моими друзьями и перед вашими коллегами-офицерами, проявили неуважение к моей особе. Но я не из тех, кто держит зло. Надеюсь, мы вскорости с вами поужинаем и возобновим нашу дружбу при большем взаимопонимании.
Пять дней спустя инспектора Фредерико Веларди застрелили среди бела дня на главном бульваре Палермо.
А еще два дня спустя Майкл уже был дома. По этому поводу состоялось семейное торжество: его брат Фредо прилетел из Лас-Вегаса, приехала Конни со своим мужем Карло, были тут и Клеменца с женой, и Том Хейген с женой. Все обнимали Майкла, пили за его здоровье и говорили, как он хорошо выглядит. Никто и словом не упомянул о годах, проведенных в изгнании, никто, казалось, не замечал вмятины на его лице, никто не говорил о смерти его брата Сонни. Это было торжество в честь возвращения сына домой, словно он приехал из колледжа или после длительного отпуска. Он сидел по правую руку от отца. И наконец чувствовал себя в полной безопасности.
Утром он долго спал, впервые по-настоящему отдыхая во сне с тех пор, как бежал из Америки. Мать приготовила ему завтрак и поцеловала его, когда он сел за стол, что было необычным для нее проявлением любви. До сих пор она целовала его только однажды — когда он вернулся с войны.
Покончив с едой, он прошел в библиотеку и обнаружил, что отец ждет его. Майкла удивило то, что там не было Тома Хейгена, но потом он понял, что дон хочет поговорить с ним без свидетелей.
Дон Корлеоне торжественно налил две рюмки анисового ликера и протянул одну Майклу.
— За наши успехи в качестве компаньонов, — сказал дон. Майкл приподнял рюмку.
— Спасибо, — сказал он. — Мне еще многому надо будет учиться.
— Да, — сказал дон Корлеоне. — Но у нас много времени, и я ведь тут, чтобы учить тебя.
— Ты не считаешь, что нам следовало бы сначала разобраться в этой истории с Гильяно? — сказал Майкл.
Дон тяжело опустился в кресло и вытер влажный от ликера рот.
— Да, — сказал он, — печальная история. Я надеялся, что ему удастся бежать. Его отец и мать были моими добрыми друзьями.
— Я так до конца и не понял, что там происходило, — сказал Майкл, — никак не мог разобраться, кто на чьей стороне. Ты велел мне довериться дону Кроче, а Гильяно ненавидел его. Я полагал, что, если Завещание будет у тебя, это защитит Гильяно, а они его убили. Ведь теперь, когда мы передадим Завещание в газеты, им же несдобровать: они сами себе перерезали горло.
Майкл заметил, что отец холодно смотрит на него.
— Это Сицилия, — сказал дон. — Там всегда предательство замешано на предательстве.
— Дон Кроче и правительство, должно быть, обещали Пишотте немало, — сказал Майкл.
— Не сомневаюсь, — согласился дон.
Майкл по-прежнему ничего не понимал.
— Но почему они все-таки на это пошли? У нас же в руках это Завещание, которое доказывает, что правительство использовало Гильяно. Оно падет, как только газеты напечатают этот материал. Я просто ничего не понимаю.
Дон слегка улыбнулся и сказал:
— Завещание останется в сейфе. Мы его никому не дадим. До Майкла не сразу дошли слова отца и все, что они значили. Когда же он понял, то впервые в жизни по-настоящему рассердился на отца. Он побелел.
— Это что же, значит, мы все время действовали заодно с доном Кроче? — сказал он. — Значит, я все это время предавал Гильяно, а не помогал ему? Лгал его родителям? А ты предал своих друзей и способствовал смерти их сына? И использовал меня как круглого дурака, как Иуду-предателя? Папа, господи, Гильяно же был хороший малый, настоящий герой, он так помогал беднякам на Сицилии. Мы должны опубликовать это Завещание.
Дон Корлеоне дал сыну высказаться, затем поднялся с кресла и положил руки ему на плечи.
— Выслушай меня, — сказал он. — Все было подготовлено для побега Гильяно. Я не сговаривался с доном Кроче и не собирался предавать Гильяно. Самолет ждал вас, Клеменце и его людям было дано указание всячески тебе помогать. Да и сам дон Кроче хотел, чтобы Гильяно бежал, — это был бы наиболее легкий выход из положения. Но Гильяно поклялся убить его и оттягивал отъезд в надежде осуществить свою вендетту. Он уже несколько дней тому назад мог приехать к тебе, а он задерживался — все хотел еще раз попытаться. Вот чем объясняется то, что с ним произошло.
Майкл отошел от отца и сел в одно из кожаных кресел.
— Все-таки есть же какая-то причина, по которой ты не хочешь публиковать его Завещание, — сказал он. — Ты кому-то это обещал.
— Да, — сказал дон Корлеоне. — Не мешало бы тебе понять, что после того, как под тебя подложили бомбу, я понял, что ни я, ни мои друзья не можем гарантировать тебе безопасность на Сицилии. Ты мог подвергнуться и другим нападениям. А я хотел, чтобы ты благополучно вернулся домой. И я пошел на сговор с доном Кроче. Он обеспечивал твою защиту, а я в свою очередь обещал, что уговорю Гильяно, когда он приедет в Америку, не публиковать Завещание.
Майклу стало нехорошо, когда он вспомнил, как сказал Пишотте, что Завещание находится в Америке, в безопасном месте. В этот момент он подписал смертный приговор Гильяно. Майкл вздохнул.
— Мы обязаны это сделать ради его отца и матери, — сказал он. — Ради Юстины. Кстати, как она?
— В порядке, — сказал дон. — О ней заботятся. Пройдет не один месяц, пока она примирится со случившимся.
И, помолчав, добавил:
— Она очень умная женщина, она здесь отлично приживется.
— Мы предадим его отца и мать, если не опубликуем Завещание, — сказал Майкл.
— Ничего подобного, — сказал дон Корлеоне. — За эти годы, что я живу здесь, в Америке, я кое-чему научился. Надо действовать разумно, вести торг. Ну какой будет прок, если мы опубликуем Завещание? Правительство в Италии, возможно, падет, а возможно, и нет. Министр Трецца лишится своего места, но неужели ты думаешь, что они его накажут?
— Он же сидел в правительстве, которое истребляло свой собственный народ, — возмущенно произнес Майкл. Дон передернул плечами.
— Ну и что? Разреши, я продолжу. Если мы опубликуем Завещание, это поможет матери и отцу Гильяно или его друзьям? Правительство накинется на них, посадит их в тюрьму, будет всячески их преследовать. И — что гораздо хуже — дон Кроче внесет их в свои черные списки. Пусть они лучше спокойно доживают свой век. Я договорюсь с правительством и с доном Кроче, чтобы их не трогали. Так что, имея Завещание у себя, я все-таки извлеку из него больше пользы.
— И для нас, если нам понадобится что-то на Сицилии, тоже, — сардонически заметил Майкл.
— Такова жизнь, — с легкой усмешкой произнес его отец.
Майкл долго молчал, затем сказал тихо:
— Не знаю, мне это кажется нечестным. Гильяно ведь был настоящим героем, он уже стал легендой. Мы должны помочь тому, чтобы сохранить память о нем. А не уничтожать эту память.
Впервые дон выказал раздражение. Он налил себе еще рюмочку ликера и залпом выпил. Затем уставил палец на сына.
— Ты сказал, что хочешь учиться, — сказал он. — Так вот, послушай. Первейшая обязанность человека — оставаться живым. А уже потом следует то, что люди именуют честью. Так вот, это бесчестье, как ты сие именуешь, я охотно возьму на себя. Я поступил так, чтобы спасти тебе жизнь; в свое время ты тоже поступил бесчестно, чтобы спасти мою. Тебе никогда бы не уехать живым с Сицилии, если бы не дон Кроче. Вот так-то. Ты, может быть, хочешь стать героем вроде Гильяно, легендой? И мертвецом? Я люблю его как сына моих друзей, но не завидую его славе. Ты жив, а он мертв. Всегда помни это и живи так, чтобы быть не героем, а живым. Со временем герои начинают казаться чудаками.
Майкл вздохнул.
— У Гильяно не было выбора, — сказал, он.
— Нам в этом отношении больше повезло, — сказал дон.
Таков был первый урок, полученный Майклом от отца, его он запомнил лучше всего. Это окрасит всю его дальнейшую жизнь, подтолкнет к страшным решениям, которые раньше ему и в голову бы не пришли. Это изменит его представление о чести и уменьшит преклонение перед героизмом. Это поможет ему выжить, но сделает несчастным. Ибо Майкл — в противоположность своему отцу — завидовал славе Гильяно.
Глава 29
Смерть Гильяно сломила дух народа Сицилии. Он был их героем, их щитом против богачей и аристократов, против «Друзей», против правительства христианских демократов в Риме. Как только Гильяно не стало, дон Кроче Мало поставил Сицилию под пресс для оливкового масла и выжал из нее огромное состояние, забравшись в карман равно богатым и бедным. Когда правительство попыталось построить плотину, чтобы дать людям дешевую воду, дон Кроче распорядился взорвать машины, привезенные для строительства. Ведь все источники воды на Сицилии контролировались им — не в его это было интересах, чтобы строили плотины, которые дали бы людям дешевую воду. Когда начался послевоенный бум в строительстве, дон Кроче, получая информацию изнутри и умело ведя переговоры, скупал по дешевке наилучшие участки, а затем продавал их втридорога. Он взял под свою личную защиту весь бизнес на Сицилии. Нельзя было продать артишок на рынке Палермо, не заплатив дону Кроче несколько чентезимо; богачи не могли купить драгоценности своим женам или скаковых лошадей своим сыновьям, не застраховав их у дона Кроче. Правя твердой рукой, он в корне уничтожал все нелепые надежды крестьян на то, что им удастся получить во владение необрабатываемые земли, принадлежащие принцу Оллорто. Попав под тройной пресс — дона Кроче, аристократов и римского правительства, — сицилийцы перестали даже надеяться, что в будущем им станет лучше.
За два года, прошедшие после смерти Гильяно, пятьсот тысяч сицилийцев, главным образом молодых мужчин, уехали с острова. Они отправились в Англию и стали там садовниками, мороженщиками, официантами в ресторанах. Они отправились в Германию и взялись там за самую тяжелую работу; отправились в Швейцарию, где до блеска начищали страну и собирали на заводах часы с кукушкой. Они отправились во Францию и стали там кухонными мужиками и уборщиками в универсальных магазинах. Они отправились в Бразилию прорубать просеки в джунглях. Некоторые поехали в холодную Скандинавию. Ну а нескольких Клеменца забрал в Соединенные Штаты служить семейству Корлеоне. Эти считались счастливчиками. А Сицилия превратилась в страну стариков, малых детей и женщин, овдовевших по милости экономической вендетты. Каменные деревенские дома не поставляли больше рабочих рук для богатых имений, так что страдали и богачи. Процветал только дон Кроче.
Аспану Пишотта предстал перед судом за содеянные им преступления и был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Уччардоне. Но все понимали, что его помилуют. Волновало Пишотту лишь то, что его могут прикончить в тюрьме. Однако амнистия все не наступала. Тогда он послал записку дону Кроче: если его немедленно не помилуют, писал Пишотта, он расскажет о контактах, которые были у отряда с Треццой, и о том, как новый премьер-министр в сговоре с доном Кроче велел истребить собственных граждан у прохода Джинестры.
На другой день после того, как министр Трецца стал премьером Италии, Аспану Пишотта проснулся в восемь часов утра. У него была большая камера, в которой стояли растения в горшках и ширмы, украшенные им самим за время пребывания в тюрьме вышивкой. Яркие краски шелков, казалось, действовали на него успокаивающе, и он теперь часто вспоминал свое детство, как они дружили с Тури Гильяно, как любили друг друга.
Пишотта приготовил себе кофе и выпил его. Он очень боялся, что его отравят. Поэтому все, что он пил, приносили ему родные. А тюремную пищу он сначала крошечными кусочками давал своему любимцу попугаю, которого держал в клетке. На всякий случай на одной из полок, рядом с иголками для вышивания и кусками материи, у него всегда стояла большая банка оливкового масла. Он считал, что если влить его себе в горло, то это обезвредит яд или вызовет у него рвоту. Другой участи он не опасался — слишком хорошо его охраняли. К двери его камеры подпускали лишь тех, кого он разрешал, а выходить из нее ему не было дозволено. И вот сейчас он терпеливо дождался, пока попугай съест и переварит пищу, и только тогда с аппетитом позавтракал.
Гектор Адонис вышел из своей палермской квартиры и, сев на трамвай, отправился в тюрьму Уччардоне. Несмотря на раннее утро, февральское солнце уже пригревало, и Гектор Адонис пожалел, что надел черный костюм и галстук.
Но он считал, что для такого случая надо быть одетым официально. Он потрогал нагрудный карман пиджака, где была глубоко запрятана важная бумага.
Он ехал по городу, и призрак Гильяно словно сопутствовал ему. Он вспомнил, как однажды утром на его глазах взлетел на воздух трамвай, полный карабинеров, — так отомстил Гильяно за то, что его родителей держали в той самой тюрьме, куда ехал сейчас Адонис. И он снова удивился тому, как такой милый юноша, которого он знакомил с классиками, мог совершить подобную жестокость. Сейчас на стенах зданий, мимо которых проезжал Адонис, не было ничего, а ему виделись большие красные буквы «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГИЛЬЯНО», часто появлявшиеся на них. Да, его крестник недолго прожил. Но Гектору Адонису не давало покоя то, что Гильяно убил его самый близкий друг. Вот почему он с такой охотой взялся отвезти записку, которая лежала сейчас в кармане его пиджака. Записка эта была от дона Кроче, равно как и специальные инструкции.
Трамвай остановился перед длинным кирпичным строением, в котором помещалась тюрьма Уччардоне. Ее отделяла от улицы каменная стена с колючей проволокой наверху. У ворот стояли охранники, а вдоль стены шагали вооруженные до зубов полицейские. У Гектора Адониса был пропуск, и его тотчас впустили в тюрьму; специальный охранник проводил его в тюремную аптеку. Там его встретил аптекарь по имени Куто. На нем, поверх обычного делового костюма, был белоснежный халат. Он тоже счел необходимым ради такого случая одеться официально. Он тепло поздоровался с Гектором Адонисом, они сели и стали ждать.
— Аспану регулярно принимает свое лекарство? — осведомился Гектор Адонис. Дело в том, что Пишотте из-за туберкулеза прописали принимать стрептомицин.
— О да, — сказал Куто. — Он очень печется о своем здоровье. Даже курить перестал. Любопытное это явление, которое я наблюдаю у наших заключенных. Пока человек на свободе, он бездумно растрачивает свое здоровье — курит до одурения, пьет до бесчувствия, занимается любовью до истощения. Мало спит и не упражняет свое тело. А стоит ему пожизненно сесть в тюрьму, и он начинает заниматься гантелями, отказывается от табака, следит за своим питанием и вообще не перебирает ни в чем.
— Может, потому, что у него меньше для этого возможностей, — сказал Гектор Адонис.
— О нет, нет, — возразил Куто. — В тюрьме Уччардоне можно получить все, что угодно. Охранники — люди бедные, а заключенные — богатые, так что деньги, естественно, переходят из рук в руки. Здесь можно предаваться любому пороку.
Адонис оглядел аптеку. Тут были полки, набитые медикаментами, и большие дубовые шкафы с бинтами, ватой и медицинским инструментом, так как аптека служила одновременно и пунктом скорой помощи для заключенных. В нише одной из комнат даже стояли две аккуратно застеленные кровати.
— А вам трудно доставать ему лекарство? — спросил Адонис.
— Нет, мы делаем специальную заявку, — сказал Куто. — Я послал ему новую бутылочку сегодня утром. Она закупорена по всем правилам, как это делают американцы для экспорта. Очень дорогое лекарство. Могу только удивляться, чего ради власти так усердствуют, чтобы поддержать ему жизнь.
И они улыбнулись друг другу.